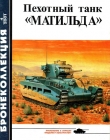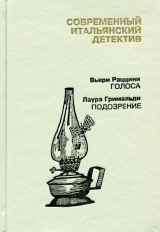
Текст книги "Современный итальянский детектив. Выпуск 2"
Автор книги: Вьери Раццини
Соавторы: Лаура Гримальди
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Современный итальянский детектив. Выпуск 2
Вьери Раццини
ГОЛОСА
Роман
Vieri Razzini
Giro di voci
© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, 1986
Перевод Е. Архиповой
Я невероятно удивилась, когда ты отыскал меня здесь, в моем нынешнем убежище, где я рассчитывала скрыться от всех, чтобы наконец-то осмыслить в спокойной обстановке (ты, конечно, понимаешь, все это временно) явления, которые и по сей день меня пугают, – в первую очередь то, что я утратила способность выстраивать мысли в логическую цепочку. Мне хотелось побыть в полном одиночестве, в пустоте, без всякого окружения или фона, так, чтобы никто не сумел меня обнаружить. А оказалось, ты в состоянии почти что с предметной точностью установить мое местонахождение, то есть вообразить себе номер в этой старой, забытой Богом гостинице. Да, все примерно так, как ты себе представляешь: я сижу за столиком, не выпускаю сигареты изо рта, вздрагиваю от малейшего шороха и глаза у меня опухшие. Пока ты не объявился и не потребовал – ну ладно, пускай попросил – все тебе объяснить, я собиралась написать полный отчет в ретроспективном изложении, в форме подробнейшего дневника – о том, что произошло за те три дня. А с момента, когда ты, не подумав о возможных последствиях, сюда проник, я стала задумываться: не сделать ли тебя своим собеседником. Пожалуй, для осмысления случившегося во всей его жестокости и комичности потребуется некая отстраненность или же Verfremdung[1]1
Отчуждение (нем.).
[Закрыть]. А это возможно лишь при наличии собеседника: поскольку он находится рядом и время от времени подает реплики, ты в конце концов начинаешь, хотя бы отчасти, смотреть на события его глазами.
Эта идея не покидала меня с середины дня, и только сейчас, кажется, твой дух перестал бесконтрольно здесь витать. На скрипучем столике мне привезли горячий ужин, и я его с жадностью проглотила. Видимо, это все тот же инстинкт самосохранения (вернее, то, что чудом от него осталось), который привел меня сюда и в настоящий момент вынуждает открыть окно и проветрить комнату.
Не знаю, кому, кроме меня самой, может понадобиться моя писанина. И потом, слова – штука ненадежная, они почти наверняка окажутся не теми или, наоборот, слишком уж теми, поэтому я пока не решила, послать ли тебе мое произведение целиком, или только резюме, или вообще ничего. Я твердо уверилась лишь в одном: моим собеседником тебе не быть. Ты станешь просто-напросто одним из действующих лиц этой ужасной истории. В моем настоящем положении я буду руководствоваться только своим взглядом на вещи: у меня для этого все основания, да и такой подход, в сущности, неизбежен. Если с Verfremdung ни черта не получится – что поделаешь! Как тебе известно, я никогда им не злоупотребляла, а сейчас оно тем более не защитит меня от гнетущего страха.
Первое, что вспоминается мне из того июльского дня, – это человек, вошедший в темный тон-зал. Проходя передо мной, он на мгновение заслонил титры фильма «Мелоди», так что глаз успел выхватить белизну его рубашки в красную полоску на фоне экрана, превратившегося в траурное покрывало, с которого беспрерывным потоком текла кровь. Он сел рядом со мной и представился.
Однако, если рассказывать все по порядку, можно вспомнить и другое – в основном мысли, а также проклятый телефонный звонок, вытащивший меня из-под душа к пустой трубке, еще один, заставивший сломя голову мчаться в студию, что для меня просто мучительно, поскольку я в отличие от других страшно переживаю из-за опозданий. Так вот, мысли… По нелепому стечению обстоятельств (все это очень скоро начнет играть решающую роль), они были связаны с памятью, поскольку я проснулась с ощущением, что от меня ускользает прекрасный сон. Такое со мной случалось часто, и я не могла этого объяснить. Я постоянно твердила себе, что нужно вернуться к старой доброй привычке держать около кровати блокнот для записи только что увиденных снов. Впрочем, затея была бы абсолютно бесполезной, так как в те дни я почти не спала. И все же меня не покидало стремление разобраться в тех часах моей жизни, существование которых стирается в памяти.
Конечно же, я не забыла жару, город, покрытый красной пылью в палец толщиной, город, раскалившийся от неумолимого сирокко под побелевшим небом, полнейшую сушь, и не надо было раздвигать занавески, чтобы убедиться: сегодняшнее утро такое же, как вчерашнее. Это длилось уже несколько дней, потому после первой сигареты просто необходимо было принять душ, и только я встала под воду, как через минуту раздался этот чертов звонок. Вся в пене, рискуя поскользнуться или налететь на жужжащий вентилятор, я подбежала к телефону (автоответчик не был включен), а в трубке пустота.
В помещении благодаря кондиционеру было прохладно, но почему-то все они топтались на ногах: и Антонио Купантони, и Лучилла Терци, и Джованни Мариани, скрытый вместе со звукооператором Приамо Бьянкини за поблескивающим стеклом аппаратной. Я вошла в тон-зал М и увидела их всех на пустом пространстве, отделяющем три ряда кресел от длинных, крытых зеленым сукном пультов, что маячили в нескольких метрах от экрана вперемежку с аппаратурой для шумовых эффектов, массивной дверью, тумбой от письменного стола, каменной подставкой для ног, перевернутым велосипедом и старым гонгом, не помню, чтобы его когда-нибудь использовали.
Как мне объяснили, что-то сломалось в проекционной, то есть сегодня я против обыкновения спешила напрасно, поэтому у меня сразу возникла мысль: а не спуститься ли вниз, чтоб поставить нормально машину, а то я, как всегда, примостилась на бровке тротуара. Но осуществить эту затею мне помешали две вещи: во-первых, Лучилла Терци царственным жестом вручила мне сценарий фильма «The Diamond-Hearted Man»[2]2
«Человек с алмазным сердцем» (англ.).
[Закрыть] (я взяла его с собой в свое импровизированное убежище, и по ходу дела буду из него много и дословно цитировать), а во-вторых, я обняла милую Эстер Симони, ставшую за последнее время еще стройнее, и ощутила при этом такую нежность, какую ее властный голос и решительные повадки не могли внушить больше никому из присутствующих. Мы знакомы, наверно, лет двадцать, я помню ее с детства, она часто бывала у нас в доме, играла с моей матерью на одной сцене, они вместе ездили на гастроли – и все такое прочее. Я заметила, что, раз вижу ее здесь, среди нас, значит, в фильме есть большая роль элегантной и очень энергичной дамы.
– Насчет элегантности не спорю, – вздохнула Эстер. – По сценарию ты – моя дочь. А что роль большая, так это громко сказано – один эпизод. Но Мариани клянется, что никто, кроме меня, не сыграет… Я думаю, он всем так говорит, а?
Наконец-то нас пригласили занять места.
Человек, вошедший, когда уже погасили свет, и севший рядом со мной (он шепотом представился: Массимо Паста – и протянул мне руку), был моим партнером по дубляжу во многих фильмах, однако мы никогда не встречались: каждый записывался сам по себе, на разных дорожках. Я повернулась к нему и ответила на рукопожатие.
– На этот раз я попросил, чтобы мы работали вместе, – добавил он тихо, – было бы глупо продолжать оставаться друг для друга какими-то призраками.
Последняя фраза меня поразила; однако экран уже заблестел так ярко и контрастно, что я лишь через секунду сфокусировала свой взгляд на ночном пейзаже с заснеженными лесами и холмами. Камера была установлена в достаточно низкой точке и перемещалась вслед за машиной – длинным черным лимузином, который мчался по пустынному шоссе.
Появилась надпись: Коннектикут, 1983, затем сосредоточенное, прекрасное лицо девушки, сидящей за рулем. За кадром раздался хриплый женский голос:
– Drive slowly, Melody. Please[3]3
Не так быстро, Мелоди. Прошу тебя (англ.).
[Закрыть].
Судя по тону и по тембру голоса, это была мать. Затем лицо ее появилось на экране: искрящиеся синие глаза, круглое, полное упрека лицо, укутанное в темный мех (самые удачные роли Эстер, такие, как Джесси Ройс Лэндис или Анджела Лэнсбери):
– I don’t want to spend the night in the car[4]4
Я не хочу проводить ночь в машине (англ.).
[Закрыть].
– Yes, mother[5]5
Хорошо, мама (англ.).
[Закрыть], – равнодушно ответила девушка.
– If your cousin had come, at least…[6]6
Если бы твой кузен хотя бы поехал с нами… (англ.)
[Закрыть]
– You know he doesn’t like parties[7]7
Ты же знаешь, он не любит ходить в гости (англ.).
[Закрыть].
– Oh. Food and conversation were both exquisite tonight. He’s a snob[8]8
О, и еда и беседа были сегодня восхитительны. А он сноб (англ.).
[Закрыть].
Вдали начал вырисовываться контур большого, погруженного в темноту дома – сплошные покрытые снегом башенки. Мелоди прошептала:
– Look… why is it all so dark?[9]9
Посмотри… почему там так темно? (англ.)
[Закрыть]
И именно в этот момент за утонувшим в темноте окном блеснула красноватая вспышка выстрела, а через несколько секунд еще одна.
Мелоди побледнела. Прибавила скорость, но задние колеса заскользили по льду, машина долго пыталась выровнять ход и в конце концов застряла на обочине. Мать, тоже белая как полотно и буквально онемевшая после пятой или шестой попытки сдвинуться с места, была на пределе. Мелоди вышла, подбежала к увязнувшему колесу и подложила под него свое замшевое пальто. Когда она снова садилась в машину, то еще раз взглянула на дом, погруженный во мрак и не подающий признаков жизни. Усевшись за руль, она переключила на бо́льшую скорость. Первая попытка не удалась, но наконец колесо сдвинулось с места. Машина рванула вперед. Вдруг из глубины до меня рикошетом донесся сухой звук – я не ожидала такого предательски брошенного камня в стереофоническом исполнении, но, в общем, за то я всегда и любила кино; гонка Мелоди по снегу, который на каждом повороте освещали желтые фары, становилась лихорадочной, да еще этот дом, казавшийся все более внушительным, хотя ничуть не приблизился.
Вот он снова возник за высокими деревьями, на некоторое время скрывшими его из виду, – весь из белого камня, засыпанный снегом, – наверняка у его создателей были самые мрачные мысли, и это ощущение усилилось, когда Мелоди, стремительно взлетев по ступеням к входной двери, обнаружила, что она взломана. Мать догнала ее, держа в руке совершенно не нужный ключ, и вслед за ней погрузилась в темноту.
– Joe!
В глубине прихожей поблескивало пламя камина; послышался странный хрип. Девушка метнулась туда и в трепетавших бликах огня увидела мертвенно-бледного старика, лежавшего в кресле. Вся грудь его была в крови, из нее вырывалось предсмертное хрипение.
Они приблизились к нему.
Старик открыл глаза. Поднял руку, показывая на пустые шкафы.
– The Cellinis… – воскликнула мать, вся в слезах, – the whole collection!..[10]10
Работы Челлини… вся коллекция!.. (англ.)
[Закрыть]
Старик сделал ей знак замолчать, затем повернулся к Мелоди.
– Joe… – пробормотал он чуть слышно. И больше ничего не смог добавить.
Мелоди, оставив рыдающую мать, выбежала из комнаты, кинулась вверх по лестнице, по галерее и оказалась в кабинете. Опрокинутая лампа удлиняла и увеличивала тени. Пятна крови вели к спальне.
– Joe…
Он лежал на полу среди осколков разбитого зеркала; лицо было прикрыто окровавленным обрывком ткани. Казалось, он без сознания, но, когда Мелоди нагнулась над ним, он разжал онемевшие пальцы и медленно приоткрыл лицо. Я помню, что этот жест, торжественный и одновременно очень интимный, душераздирающий, произвел на меня даже более сильное впечатление, чем кровоточащий, изуродованный нос.
Девушка выпрямилась, посмотрела вокруг. Телефон был в двух шагах от нее, рядом с фотографией юноши в военной форме (на ней Джо нельзя было узнать: светлые глаза, слегка орлиный профиль, на губах доверчивая улыбка).
Сцена постепенно погрузилась в темноту, и на экране появился судья в мантии, ожесточенно стучащий молотком под страшный гул в зале. Я впервые открыла текст, чтобы читать по-итальянски реплики, соответствующие изображению на экране. Массимо Паста, обменявшись со мной мимолетной улыбкой, сделал то же самое и в тот же самый момент.
Судья снял очки, навис над двумя разгневанными адвокатами, стоящими друг против друга, и обратился к более пожилому:
– Адвокат Форман, вы пытаетесь превратить гражданское дело в уголовное, что недопустимо. Требования господина Джозефа Шэдуэлла вполне законны, а вы не приводите достаточных аргументов для того, чтобы страховая компания Годдуина, которую вы представляете, была освобождена от возмещения ему убытков. Делаю вам предупреждение и прошу впредь воздержаться от голословных заявлений.
Протест адвоката был прерван очередным ударом молотка, восклицаниями публики и новой репликой судьи. В части зала, отведенной для прессы, некто с выражением недоумения закончил что-то писать и закрыл блокнот, в то время как его сосед показывал всем альбом с набросками портретов: покойного Фредерика Шэдуэлла, Мелоди, ее матери; четвертая рамка была пуста, и под ней стояла подпись: Джо Шэдуэлл, наследник.
Рим, год спустя. Детский визг заглушил объявление в зале аэропорта; молодой человек повернулся, улыбаясь слегка раздосадованной улыбкой, это Джо Шэдуэлл, но на лице его нет и следа всего пережитого.
Он быстро вошел в соседний зал, остановился у окошка информации и вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его руки; еще мгновение – и на шею ему бросилась Мелоди.
В этот момент ко мне подошли и сказали, что меня ждут в аппаратной. Не отрывая глаз от экрана, я спросила, кто именно. Ваш муж, прозвучало в ответ.
Казалось, Андреа, по ту сторону стекла, внимательно следит за ходом фильма. Он отвлекся, лишь когда я вошла, встретив меня подобием улыбки. Я заметила, что его гладкие волосы только что вымыты; одетый вот так, в джинсы и теннисные туфли, он казался моложе своих тридцати пяти. Он показал на экран.
– «Порше Каррера». Великолепная машина.
Через стекло я в свою очередь следила за тем, как Джо складывает чемоданы в багажник и показывает Мелоди что-то в небе. Я не разозлилась, напротив, мне было приятно увидеть Андреа, и я ему это сказала, но, боюсь, невольно встала в позицию обороны.
– Ты, естественно, удивлена, нечего даже спрашивать, – произнес он тихо, на одном дыхании.
– Ну, не делай из меня плохую актрису, – пошутила я. – Кто-кто, а я-то умею скрывать свои эмоции.
Он перевел взгляд на экран.
– Американское производство?
– Да.
– Сразу видно. Достаточно хотя бы одной этой панорамы синхронной камерой в толпе людей… какие затраты! А кто этот мужчина рядом с тобой?
– Что за вопросы?
– Ладно, ладно, извини. Это я так.
– Ну, со мной ты так обращаешься по привычке. Интересно, с другими ты такой же?
– Ты прекрасно знаешь, что да и что многие попадаются на эту удочку – главное, казаться естественным. К сожалению, ответы редко бывают интересными. Но если бы у меня пропало любопытство…
Мужчина в белом халате, который меня позвал, смотрел на нас, а не на экран. Я первая вышла из полутьмы на безликий свет коридора.
Андреа придвинулся совсем близко, даже коснулся меня, затем прошел вперед и остановился.
– Еще один вопрос: ты помнишь, какой сегодня день? Пятое июля. Ровно год, как мы расстались.
– Это случилось не в один день, – невольно вырвалось у меня. – Разве что…
– Ну почему же не в один? Я ведь переехал, помнишь?
– Да, но… – Я осеклась, вспомнив, как в первый раз сформулировала для себя мысль, что должна его бросить, и тогда она показалась мне лишь моим сиюминутным настроением. Потом, спустя месяцы, я возвращалась к этой мысли и находила ее весьма здравой.
– Что «но»? Договаривай.
– Все происходит постепенно, Андреа.
– Ну да, я знаю – «бесчувственно»!
– Я должна посмотреть фильм, – сказала я. – Завтра начинается дубляж.
– Подожди. Я хотел пригласить тебя сегодня на ужин.
Я недоуменно взглянула на него и не сразу ответила, так как увидела, что из зала выходит Эстер Симони. Она кивнула нам обоим, вновь посмеялась над тем, что уже целиком просмотрела свою роль, и ушла.
– По-моему, – проговорила я наконец, – годовщина разрыва – не та дата, которую стоит отмечать.
– Отчего? Тебе же теперь лучше, разве нет? Именно это и есть самое важное. Ты, если не ошибаюсь, даже от бессонницы избавилась, сама говорила.
Я промолчала – не потому, что мне нечего было ответить, наоборот, меня взволновало одновременно несколько моментов: я не понимала, что он имел в виду, сказав «тебе же теперь лучше», к тому же я не помнила, чтобы я в последнее время говорила с ним о себе, и главное – он извращал смысл моих прошлых и нынешних высказываний, меняя порядок слов и искажая контекст, то есть используя их в качестве принадлежащего ему материала.
– Ты прав, нам надо поговорить, – сказала я наконец. Я взяла его под руку и повела к выходу. – Но не сегодня. Боюсь, я не готова к беседе с тобой.
– К беседе… – повторил Андреа, остановился и стал искать в карманах сигареты. Он только что выбросил окурок, значит, это была уловка, чтобы освободиться от моей руки. – Да никакой беседы, просто надо пообщаться.
– Я бы хотела привести свои мысли в порядок, прежде чем общаться с тобой.
– По-моему, они у тебя всегда были в полном порядке.
Мы дошли до верхней ступени лестницы, и я его лишь слегка обняла на прощанье.
Но не успела сделать и трех шагов, как раздался грохот падения, затем проклятия, тут же сменившиеся жалобными стонами. Я вернулась: он лежал на полу, скорчившись от боли, в самом низу лестничного марша; очки съехали на искаженный гримасой рот. Я готова была расхохотаться. Но пока спускалась, чтобы помочь ему, в голове пронеслось: фильм безнадежно ускользает от меня.
Так оно и вышло. Его щиколотка распухала на глазах, и, конечно же, я не могла его бросить. В машине, во время езды, недолгой и трудной, как бег с препятствиями, он всем своим видом просил у меня прощения, а я от неловкости не сводила глаз с дороги. Однако его бледность и молчание удивили меня, он продолжал молчать и перед окошком регистратуры в отделении травматологии, хотя очередь из десятка человек могла бы послужить великолепным материалом для его обычных комментариев. Он явно чувствовал себя очень плохо, раз до сих пор еще не отметил шепотом, что лицо медсестры за окошком – ледяные глаза, короткий нос, рот, готовый укусить, – было, без сомнения, копией лица Эдуарда Робинсона: одна из его любимых теорий состояла в том, что генетика подражает кино и телевидению.
Он даже не вышел из себя, когда женщина за окошком закрыла перед нашим носом матовое стекло и исчезла.
Прошло довольно много времени, прежде чем она снова его открыла.
– Несчастный случай? – процедила она сквозь зубы.
У нас появилась надежда.
Потом был первый обмен информацией, первая подпись, первый, весьма поверхностный, осмотр. В атмосфере хваленой медицинской расторопности прошел весь день. Мы приехали домой к Андреа, совершенно измотанные, когда солнце уже заходило.
Несмотря на только что купленную палку, Андреа пришлось опереться мне на плечо. Помню, как, войдя в подъезд, он посмотрел на ступени, отделяющие нас от лифта, и рассмеялся.
– Та первая медсестра просто незабываема! – Он перевел дух, готовясь к восхождению. – Издали она показалась мне похожей на Эдуарда Робинсона, но, когда я увидел, как грациозно она водрузила свою задницу на вращающийся стул, мне стало ясно: она – копия Маризы Мерлини.
Мы поднялись в квартиру. Цепляясь за книжные полки, которыми были увешаны все стены, Андреа доковылял до гостиной и растянулся на диване под открытым окном. Он позволил мне подложить ему под ногу подушки, попросил виски с большим количеством льда. Я принесла. Он сделал два больших глотка, глядя на улицу. Красные и лиловые отблески неоновой рекламы в угасающем свете дня придавали его лицу неестественный цвет.
– Ну и жара! – вздохнул он. – Моя бабушка любила повторять: не жалуйся, еще хуже будет. Я посмеивался над ней, но она упорно считала, что жара – это вопрос самовнушения.
Я подтащила кресло к дивану, но, прежде чем успела сесть, он протянул мне пустой стакан и глазами показал на распухшую щиколотку.
– Сейчас у меня очень тяжелый момент, налей-ка еще.
Я принесла бутылку, недоумевая, почему он счел необходимым оправдываться передо мной. Он снял очки, закрыл глаза.
– Я обнаружил одну любопытную вещь… В том, что касается дубляжа. После войны все реформы в этой области четко разрабатывались, и финансировались согласно плану Маршалла. Подумать только: они всеми способами противодействовали настоящему кино и поддерживали дублирование. Губа не дура!
Он замолчал, продолжая лежать с закрытыми глазами. Я бесшумно встала и, смотря на него вот так, сверху, пыталась запечатлеть в памяти его образ, что называется, статичный и целостный. В момент крайнего раздражения и неловкости у меня в голове, как правило, фиксировались лишь отдельные детали: нос, рот, глаза, лоб, их невозможно было составить вместе, и тогда приходилось мысленно обращаться к фотографии. Я отошла, прежде чем он смог увидеть, как я его разглядываю. Быстро приняла душ и побежала вниз купить что-нибудь на ужин.
Оказавшись на улице, я сообразила, что не знаю поблизости ни одной закусочной, кроме «Тимбаллино д’Оро» – сплошные огни и зеркала, – считавшейся чуть ли не местом фашистских сходок, поэтому ни я, ни Андреа, ни наши друзья годами туда не заходили. Но, говорят, теперь уже это не имеет значения, все уравнялось, и совершенно ни к чему оглядываться на традиции. И действительно, когда я вернулась с ростбифом, мороженым и другой едой, аккуратно завернутой в элегантную коричневую бумагу, Андреа ничуть не удивился: оказывается, он и сам недавно там был. В конце концов, почему мы не должны считаться с собственными удобствами, добавил он, думаю, испытывая при этом ту же глухую злобу, то же ощущение своей ничтожности, что и я.
Ужин в бумажных тарелках был поспешно подан в столовой на столе из красного дерева. Не говоря ни слова, мы сели на стулья, закрытые чехлами из цветастого шелка, который мать Андреа – невозмутимая, как свет люстры, падающий нам на лица, – не уставала называть «кремово-красный кретон», при этом полагалось улыбаться. Мне бы следовало справиться о ней, но страх перед обменом пустыми любезностями оказался сильнее страха пустоты; к тому же Андреа ел с такой жадностью, как будто хотел отыграться за этот выпавший ему длинный черный день.
По окончании ужина исчерпала себя и необходимость быть вместе. Андреа, еще более усталый и страждущий, прошел в спальню, включил телевизор и лег. Он сказал, что к завтрашнему дню ему нужно написать для газеты рецензию на спектакль «Клейст на неаполитанском диалекте в сопровождении фольклорной музыки под путипу» – помню, с каким отвращением он это произнес, – но сейчас у него нет сил. Я поправила ему подушки, приготовила кофе и термос с ледяной водой, который поставила, вместе со стаканом и болеутоляющими таблетками, возле кровати. Затем тщетно пыталась проветрить помещение, но едва заметила, что мои движения стали лихорадочно-нетерпеливыми, как тут же ушла. О «годовщине» мы, к счастью, больше не говорили.
Дома меня ожидал беспорядок, который я оставила утром: смятые простыни, опрокинутая пепельница, брошенный на стул, еще влажный халат, и ни одного сообщения на автоответчике.
Когда я закончила разбираться, было уже за полночь, но спать не хотелось. Или, проще говоря, я не ложилась из страха, что не засну: меня вынуждали стоять на пороге гостиной накопившаяся усталость и воспоминание о тех ночах, которые я провела, ворочаясь на постели, – не выношу включенные вентиляторы и кондиционеры: как только я закрываю глаза, их жужжание начинает меня угнетать. Как слабоумная, я пристально смотрела на два дивана, обитых суровым полотном, на книжные полки, на картины, утратившие и смысл, и форму, на комод, который мне оставил Андреа (себе он взял только самое необходимое), на стоящий сверху телефон с автоответчиком, на разбросанные бумаги, на пустую вазу, на стопку пластинок, совсем здесь неуместную. Надо будет хотя бы сделать перестановку, но, с другой стороны, эта комната – своего рода совершенство.
Внезапно зазвонил телефон, все ожило. Наполнилось какой-то тревогой, потому что из трубки доносилось лишь дыхание – или прерванное дыхание, а затем вообще ничего, кроме внешнего шума. Я подумала то, что первым делом приходит в голову в такой ситуации: кто-то за мной следит. Сразу после этого звонка я набрала номер Федерико, долго слушала гудки. И, только ясно представив себе его темную квартиру с телефоном, звонящим впустую, я решилась положить трубку.
Второе событие – если я вправе так его назвать – произошло чуть позже, в ванной, перед чересчур льстивым зеркалом с двусторонней подсветкой, как в артистических уборных; я начала снимать бумажной салфеткой то немногое, что осталось от теней, которыми я намазалась еще перед выходом из дома. Не знаю почему, я остановилась и стала разглядывать свое лицо, сняв тени только с одного глаза. Усталость подчеркивала небольшую косину левого, которую одни считают совсем незаметной, другие – просто очаровательной, но из-за которой я тем не менее лишилась не одной хорошей роли.
В очередной раз у меня возникли сомнения, что макияж вовсе не скрывает, а даже подчеркивает мой недостаток; я говорю «в очередной раз», поскольку эти колебания начались с того вечера, когда я, пятнадцатилетняя, дебютировала в малодоступной роли Ариэля. Мне пришлось пережить сопротивление матери, первое прослушивание среди сотен жаждущих сверстниц, второе прослушивание среди немногих оставшихся, три месяца репетиций, которые благодаря Учителю – я всегда его так называла – часто затягивались до ночи, а то и до первых лучей солнца (помнится, мы выходили на улицу в серый предрассветный час, и он бормотал, уткнувшись лицом в шарф: «Столь бедственное кораблекрушенье… я силою искусства своего устроил так, что все остались живы»[11]11
Здесь и далее: Шекспир. Буря. Перевод Мих. Донского.
[Закрыть]. И вот наконец я там, наверху, над софитами, привязанная к стальной проволоке, при помощи которой я должна была ринуться вниз, «скора, как мысль», коснувшись в завершение своего полета плаща Просперо.
Головокружительный ракурс сцены не пугал меня; осознавая, что реплики Просперо неотвратимо приближают мое появление, я при этом не забывала свои. Я была так же спокойна, как любой другой на моем месте, но грим на веках мешал мне сосредоточиться. Я шепотом попросила платок у двух техников, отвечавших за успех полета; протягивая мне его, один из них вынужден был высунуться над бездной.
Я схватила платок, провела им по глазам – не для того, чтобы совсем свести на «нет» работу гримера, а чтобы лишь приглушить ее. Увидев на платке черные следы, я точно освободилась от чего-то. И тут, когда сердце уже готово было вырваться из груди, раздался властный и неумолимый зов: «Сюда, ко мне, слуга мой и помощник! Я жду тебя! Приблизься, Ариэль!»
Быстрее самого Ариэля (если это возможно), не меняя позы в полете, я умудрилась спрятать платок в рукав (таких узких рукавов я сроду не носила) за миг до того, как появилась в свете прожекторов. «Глотать я буду воздух на лету, мой путь займет лишь два биенья пульса». И я сделала все, как было задумано, без колебаний, в полнейшей тишине, которая, насколько я помню, зависла между двумя покашливаниями (после второго послышались аплодисменты – если верить знакомым, вполне заслуженные).
Впрочем, стоит ли записывать незначительный эпизод пятнадцатилетней давности. Но в то же время всем известно, что актриса не может не говорить о себе (я и так не слишком этим злоупотребляю). К тому же я поставила перед собой цель зафиксировать все, что напомнило те три дня, включая соответственно мысли и воспоминания, возникавшие у меня в голове. А этот эпизод я видела совершенно ясно и в мельчайших подробностях, причем в течение довольно длительного времени, и у меня возникло предчувствие, что он каким-то образом связан с моим прерванным сном.
Я попыталась больше ни о чем не думать.
Но на следующий день осознала, что, пропустив показ «Мелоди» (для удобства буду называть этот фильм так), я не только заполучила перспективу сумбурного и утомительного дубляжа, но и вновь отдалила знакомство с этим странным Массимо Пастой.
Если снаружи все оставалось неизменным, обстановка на студии, защищенной от палящего, но не сверкающего солнца, казалась необычайно оживленной. Там были те, кого я хотела увидеть в первую очередь – Массимо Паста и мой компаньон Мариани, с которым я давно собиралась переговорить, – но эти десять минут перед началом записи промелькнули молниеносно: я все время кого-то встречала, причем были и неожиданные встречи. В целом от проведенных на студии часов у меня остался ряд воспоминаний, и каждое из них связывалось с последующим. Все как бы указывало на существование еще и других колец, крепко сцепленных вместе. Именно колец, хотя пока рано акцентировать внимание на этом слове, обладающем – во всяком случае, для меня – совершенно особым значением.
Первый эпизод произошел в баре, когда мы пили кофе вместе с Приамо Бьянкини. Кто-то у меня за спиной не совсем лестно отозвался о ДАГе, нашей фирме, компаньонами которой были я, Мариани и Итало Чели, администратор, более того – совсем не лестно. Речь явно шла о вопросах бизнеса, то есть о сфере деятельности Чели, хотя я не все расслышала. Когда я обернулась, этот «кто-то» удалялся вместе со своим собеседником и, судя по всему, продолжал разговор. Я, по-моему, никогда раньше их не видела, да и Бьянкини тоже, но я была поражена, что этот красавец говорил нарочито громко. Я не придала этому большого значения – мир полон «актеров», – но в то же время подумала, что мы стали многих раздражать нашим четырехмиллиардным оборотом, хотя сейчас наблюдается период наибольшего расцвета во всей области, десять тысяч часов дубляжа в год: настоящий бум, упрочивший границы в нашем мире и создавший какой-то фантастический город, где на месте нефтяных насосов возвышаются колонны блестящих коробок с фильмами и телефильмами, которые качают из голосов деньги, притягивая профессионалов, бывших и будущих звезд, свалившихся с неба.
Семейный бар, где мы сидели среди огромного количества бутылок рома «Фантазия» и тряпичных кукол-карликов на старых шкафах, был наполнен нежной и льстивой болтовней, уникальной в своем роде, потому что голос у итальянских актеров всегда какой-то льстивый, взращенный на меду, даже у «злодеев» и «пролетариев» он бархатистый. В тот день ласковые трели издавали все, разогреваясь перед тем, как занять место у микрофона.
Эта стройность (или даже строгость) голосов поразила меня своим полным несоответствием не только содержанию разговоров, но и внешнему облику самой студии, лишенному какой бы то ни было архитектурной строгости. От старой постройки нетронутыми остались только стены, внутри же ничего заново отделано не было, с годами все только постепенно ремонтировалось и перестраивалось. В результате получился лабиринт, состоящий из кривых, изломанных коридоров, тон-залов, зальчиков, офисов, монтажных столов; здесь нет двух одинаковых лестничных пролетов, а единственная прямая конструкция – это шахта лифта. «Перестроенное здание» представляет собой нагромождение надстроек, а самого строения не видно, его больше не существует, как перестает существовать «фильм», когда занимаешься отдельными частями той надстройки, которой является дубляж.