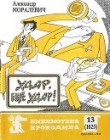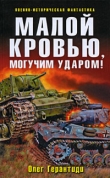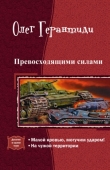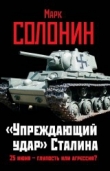Текст книги "Упреждающий удар"
Автор книги: Вениамин Чернов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Началась гонка. Гребцы менялись через каждые четверть часа. На ушкуях снова – течь, но уже не обращали на это внимания.
"Господи! Дай нам ветру" – молился кормщик, держась одной рукой за руль, другой – быстро, быстро крестясь.
Челн с ведомцами черной тенью скользнул по воде, приблизился к ушкую:
– Слушай, руш! Однако, за переворотом татарин заслон поставил – шум... Надо поспешать, помочь...
Увлекшись погоней, небольшая дружина мари попала в засаду – в плотное объятие татар – и была почти что полностью уничтожена, только несколько челнов с полуживыми, израненными воями вырвались из смертельной петли и скрылись в сгустившихся ночных сумерках...
Но не успели самоуверенные победители отторжествовать свою победу, как сами оказались окружены неожиданно налетевшими русскими – на лодках, на ушкуях...
И только темнота спасла их от полного истребления...
– Говори, собака, где собираетесь заслон поставить?! Много ли вас?.. Говори, успели ли предупредить?! – Игорь Голубов пнул носком сапога лежавшего на палубе связанного татарина. Мишка-мурза перевел. Пленный молчал. Тогда Мишка шагнул к нему, наклонился и повторил еще раз.
Снизу должно быть хорошо были видны стоящие над ним люди, потому что пленный, как только к нему подошел мурза, вмиг ожил, приподнял голову и испуганно-срывающимся гортанным голосом заговорил...
– Что он зататаркал?! – потребовал перевода у Мишки-мурзы младший воевода.
– Гаварит, шта большой сила под горой... Шта огненный змий на виршине той горы – огнем пльется... Гаварит, пока той змий секир башкам не сделаш – не пройти Кама... Больше она ничо не знаит...
– В воду!..
Несколько воев схватили забрыкавшегося пленного и под его женоподобный визг: "Айя-я-аа!.." – сбросили за борт, в темноту...
Игорь Голубов знал, что такое собраться татарам под Воробьевыми горами – это значит перекроют реку, попытаются не пустить их на Каму... И эти "огненные змеи" – большие самострелы, стреляющие зажигательными стрелами!.. Днем не уйти от них: татары пристрелялись – в щепу попадут... А в луга не уйти – в том месте берег приподнят... Да еще с лодок, коими перегородят Вятку в узком месте, начнут стрелять... "Задержат, великий урон учинят!.." И младший воевода принял решение не теряя времени действовать: сотню московских воев во главе с Иваном Федоровым пустить в погоню за вырвавшимися из окружения татарами, – догнать, уничтожить и, пока не успели опомниться враги, высадиться под Воробьевыми горами, – напасть, посечь лодки и, не ввязываясь в бой, отступить на реку, где их будет ждать Игорь Голубов – к тому времени должны подоспеть воеводские ушкуи; другой сотне вместе с татарами-ведомцами и тремя мари, знающими местность, приказал пробраться к большим самострелам и уничтожить их, спуститься вниз, присоединиться к Ивану Федорову...
Прощаясь друг с другом (который уж раз в жизни), Игорь Голубов и Евсей Великий – два боевых товарища – подумали, что, может, расстаются навеки, но вслух не сказали: кругом вои – нельзя при них показывать человеческие слабости... Да и неможно идти в бой, думая о смерти!..
Ватаман Иван Федоров стоит на корме и, держась за балясину руля, сам правит ушкуем.
Вот прошли последний поворот, и открылась в серой мгле невидимая из-за тумана, но осязаемая водная ширь перед узким местом напротив гор. Потянул легонький свежий встречный ветерок. На востоке забелело.
Он помнил это место, когда два года назад с московским войском, с присоединившимися к нему вятчанами ходил воевать Казань.
Тогда их тоже пытались остановить здесь татары: перекрыли дорогу, а когда все же прорвались через заслон, то окружили на лодках и стали огненными стрелами бить – больших самострелов не было...
Только на широкой Каме удалось ценой огромных потерь вырваться, отбиться от врагов и уйти на Волгу...
...Сзади за ним плотно шли – гуськом – еще два ушкуя.
К частому шлепанию весел, к надсадному шумному дыханию гребцов иногда примешивались стоны раненых. На носовой части лежали тела трех погибших воев.
"Надо бы похоронить их, да раненых, которые воевать не могут, оставить на берегу – может, поднялись бы тихонько до Вятской земли", – подумал Иван Федоров, хотя знал, что они не оставят своих товарищей.
Он рулил на подгорный берег, оцепленный темными силуэтами лодок и челнов.
"Успели ли опередить нас ихние сторожа-ведомцы?!" – тревожно гадал сотенный – он так и не догнал никого.
...Тяжелый ушкуй врезался в стадо пустых лодок, разбросал их, резко затормозив, выскочил носом на каменистый берег.
– За мной! – громовой голос сотенного, и сам Иван Федоров, легко неся плотное могучее тело, пробежал палубу, выхватив меч, спрыгнул, – за ним забухали об землю, хрустя пластинами белого известняка, шурша и хрумкая гальками, сапоги воев. – Вперед! – рванулся к лодкам...
Из-под берега, из-за темнеющих завалов бревен и древ сыпанули дождем стрел. "Успели... упредили сторожа, – подумал Иван Федоров, мечом разбивая в щепу лодку. – Лишь бы лодки у них побить – тогда они не страшны нам!.."
Несколько татарских стрел тюкнули сотенного в грудь по пластинчатой броне, одна – царапнула щеку... Новый рой стрел хлестнул – самая злая вонзилась колом в шею...
...Затопив лодки, торопливо отпев и похоронив на лесистом берегу – выше Воробьевых гор – погибших, повел Евсей Великий вслед за ведомцами-мари свой объединенный русско-татарский отряд: вверх по сырой глинистой тропе. Припадая на раненую ногу, шел за ним Мишка-мурза.
Проснувшийся лес кипел жизнью. Голоса весело, беззаботно поющих птиц, – как будто и не было войны, смерти, – запах весенне-летнего воздуха, наполненного душисто-смолистым духом распустившейся листвы, взбодрили Евсея, придали силы, но не давали покоя мысли о только что пережитом: погребении в сырую, холодную, не совсем отошедшую от зимних стуж землю своих товарищей-воев...
"Сколько ж погибло? – и начал в уме подсчитывать – выходило, что четыре утонуло в сражении, восьмерых похоронили. – А раненых?.." Не пошли они домой – отсюда-то дошли бы – близко, – остались храбры51, – сказали: «Хотим на Сарай!.. Вместе сложить за Русь свои буйные головы!..»
Бледный, хмурый, со сдвинутыми бровями, недовольный собой, шел, опираясь на древко копья, сотенный Евсей.
Получалось как-то не так: подождать надо бы полк и тогда уж рваться. Сейчас он каялся, что промолчал, безропотно подчинился, как этого требовала воинская дисциплина. "Што же будет, ежели поотстанет воевода, захочет ночью те горы пройти?!" – зашагал быстрее, горяча себя, стараясь сбросить навалившуюся усталость, собрать свою волю в кулак, настроиться к предстоящему бою.
Догнали охранную десятку, посланную вперед... сотенный ожил: "Мы еще посмотрим!.. Не было такого, штобы Евсея Великого татары бивали!.."
Седоусый мари на ходу знакомил с местностью: слева река, – если бы не лес, могли бы ее видеть; впереди поле – оттуда можно будет зреть вершину горы, опоясанную полукольцом – земляными городками, внутри на деревянных станинах были сооружены огромные самострелы. Незащищенная часть укреплений открывалась в сторону обрыва – берега.
"А может льзя с берега – крутояра во внутрь?.. Нет, не подняться оттуда – перебьют... Да што я гадаю – на месте увижу. Скорей бы!" Посмотрел под ноги – тропа здесь, на высоте, сухая; лес поредел; больше стало распустившихся, окутанных нежными ярко-зелеными листочками молодых белопегих берез, седоствольных осин с непривычно бесшумными бурыми листочками на прямых, смотрящих кверху веточках; у подножий стволов темнели пирамидки-елочки.
...– Кончается тропа – счас выйдем в поле, ватаман! – это вернулся один из посланных вместе с мари вой-ведомец. – Напротив выхода татары сидят...
– Стой! – приказ знаками, полуголосами передался по цепочке.
Поставив перед отрядом воев с копьями – на случай нападения, несколько человек по бокам вдоль тропы, он взял с собой пять лучников с самострелами, ведомцев, ушел вперед.
Не дойдя до конца тропы, свернул направо, прошел мимо двух русских сторожей, сидящих за кустами, пополз вдоль опушки вслед за бесшумно и мягко по-ужиному ползущим воем.
Сотенный Евсей устало дышал: мешала бранная одежда, да и отвык... Пока добрался до куста орешника, за которым уже лежал в теплой сухой одежде, сшитой из шкуры, седоусый мари, – взмок.
Вытерся – смел с лица горсть пота, улегся на приятно холодящую землю и стал всматриваться через узкую брешь в кустах: ни татарских сторожей, ни ожидаемых земляных городков...
– Покажи, – ткнул локтем лежащего рядом мари. Тот молча отодвинулся, уступил место, показал пальцем в прогалочек между ветками.
Теперь увидел – только в другой стороне – две головы в остроконечных меховых шапках. Вот голова с скуластым лицом качнулась, приблизилась и полуслилась с другой, которая зашевелилась, и, покачиваясь, они разъехались. "Верхами", – догадался Евсей Великий и тут же увидел голову лошади: показалась, исчезла...
До татар не более полутора полетов стрел из лука. Безветренно.
Сотенный ватаман шепотом обратился к русскому ведомцу:
– Где они? – и не понять, что спрашивает: то ли о русских ведомцах, ушедших на разведку, то ли о татарах-сторожах, поэтому вой тоже – неопределенно:
– Не знамо...Счас должны подойти...
Евсей Великий опустил свое тело, положил тяжелый подбородок, обросший жесткой бурой бородой, на кулак и, услышав до боли родной ("Не успел отъехать от дому, а уж затосковал!" – упрекнул себя) запах земли, молодой зеленой травы-муравы, повел мутным взглядом вдоль опушки леса – задумался...
Десятник-ведомец, измазанный в глине, как и остальные три воя, – вернулся, когда солнце стала закрывать хвостатая туча.
– Тама-ка их, – десятный ватаман махнул рукой в сторону татар, – десять и еще семь сторожей. О нас не чуют – спят.
– Далеко?
– Четыре с половиной – пять полетов стрел, в лощине, пред подножьем вершины горы... Мы их обошли, поднялися до городков – зело крепко сидят, собаки, греблями опоясалися...
– Греблями!? Глубокими? Какова ширина? – обеспокоился сотенный Евсей – не ожидал такого.
– Не глубоки, но широки – комонь не перепрыгнет.
Сотенный встал, спросил-приказал самострельщикам:
– Сможете с первого разу убрать двух ближних сторожей?
За всех ответил угрюмый, рыжебородый:
– Могем и не попасть...
– Надо попасть!.. Пусть мурза с татарами на гору идет, – обратился к десятнику-ведомцу, – русских сюда... Пусть прикинутся своими – без крови спробуем большие самострелы те брать. Перескочите гребли, войдете за городки – знать дайте, сторожей в лощине обойдите...
Десятник ушел. Пять лучников-самострельщиков выставили из-за кустов грозные ручные самострелы – они били в два-три раза дальше простых луков.
Залп – и головы исчезли.
Сотенный послал посмотреть: "Што с ними?" – трое воев скрылись за бугром и тут же бежали обратно, издали крича:
– Сюда скачут!..
– Луки, самострелы!.. Изготовиться!.. – сам Евсей тоже, схоронясь за кустами, вытащил меч.
Прибежавшие, тяжело дыша, пристроились рядом, – в тот же миг выскочили на бугор около десятка верховых татар. Остановились. Крутнулись на месте и с диким визгом и улюлюканьем, на ходу пуская стрелы, помчались в ту сторону, откуда выходила тропа.
Сотенный Евсей раздвинул кусты – Мишка-мурза с несколькими воями успел выйти...
– Стрелите же! – Евсей что есть силы бухнул кулаком по широкому заду одного из стоящих рядом.
Лучники выскочили из-за кустов, развернулись и, положив самострелы на колени, луки в руки – выпустили по стреле.
Трое татар попадали мешками на землю; остальные, вздыбив коней, приостановились, развернулись и, низко припав к гривам своих лошадок, как вихрь унеслись за бугор – исчезли, как будто и не были...
Поднявшись на бугор, где только что были враги, Евсей Великий увидел их вновь – построившись волчьей стаей, они взбирались на вершину Воробьевой горы, как чалмой, опоясанной земляными городками.
Сотенный взглядом и слухом измерил расстояние до городков – было с версту...
Быстрым шагом повел он свое войско на вершину горы. Рядом крупно вышагивал с залитым кровью лицом – татарская стрела разрезала надбровье – десятник-ведомец. Позади трусцой бежал, иногда переходя на борзый шаг, татарский ватаман Кириллка, назначенный старшим над московскими татарами – заместо убитого Мишки-мурзы...
"Комонь бы моим татарам!" – сожалеючи посмотрел на Кириллку – колченогого, со злым перекошенным лицом. Верхом на своем обученном коне татарин страшен в бою; человек и лошадь – едины; умение на полном скаку поражать цель из лука, ловкость воя умножается на силу лошади.
А пехом татарин не тот...
Солнце по-летнему жарко палило, накаляя металл.
Обливаясь соленым потом, прошли болотистую лощину, заросшую осокой; оказались у подножия пологой Воробьевой горы.
Татарские стрелы, лущенные сверху больше из-за озорства, чем для боя, падали обессиленно на излете, больно, до крови жаля незащищенные места, чиркали по железным шапкам, заставляя быстрее бежать кровь по жилам, изгоняя усталость, будя в душе ненависть к врагам...
Нужно прорваться к самострелам, посечь их и, не ввязываясь в бой, спуститься к реке – там должна сейчас быть сеча – решалась судьба всего сражения.
Поставив вперед самых сильных и умелых воев, хорошо укрытых в бранную одежду, в железных личинах, с копьями-долгомерами в левой руке (в правой – тяжелый меч), – сотенный Евсей повел своих на штурм...
...Вот уже гребли. С городков начали бить прицельно. Запахло еловым дымом – то татары за крепостной стеной зажгли костры.
"Не стали бы огненные стрелы метать в реку! – забеспокоился русский сотенный. – Долгонько ж я шел, – уж, наверно, воевода на подходе, а мы еще городки не взяли, самострелы не посекли!" И, как бы подтверждая его опасения, копье-стрела с горящей гривой и дымящим хвостом мелькнула в воздухе, скрылась за береговым крутояром.
Кто-то сзади набожно зачастил молитву сиплым голосом.
"Поп-вой, – догадался сотенный, – за всех нас, грешных, наяривает, божьим именем дух подымат..."
Еще раза два взлетали огненные копья-стрелы и уносились в реку.
"По ушкуям бьют!.. Два али три самострела у них", – заработала мысль. Судя по лучным стрелам, летящим навстречу, он прикинул, сколько татар сидит за городками: "Не более сотни... Да около самострелов десятка три..." Подбежал ко рву один из первых и, не оборачиваясь: – Гребли на копья... – и, стараясь, чтобы его не опередили, уперся концом копья в дно неглубокого рва, ухватился двумя руками за шейку копья – на пол-аршина ниже наконечника, – и что есть силы оттолкнулся...
Несколько стрел тюкнули по груди, животу и, не пробив пластинчатую броню под красным летним кафтаном, подобно рыбкам, застрявшим жабрами в сетях, зависли в ткани одежды...
Он перепрыгнул было уже ров, как очередная стрела ужалила в незащищенное бедро, и, когда приземлился на другой стороне, боль, как плетью, стеганула по раненой ноге.
Сотенный Евсей сжал зубы, побежал, но с каждым шагом боль разгоралась, – как каленым железом жгло в ране, – будто нож воткнули, поворачивали, задевая живую кость, – не давала ступать...
Нога распрямилась и не сгибалась. Он попытался на ходу выхватить стрелу, но сделал хуже – обломил ее.
Слезы поневоле выскакивали из глаз, радужной пеленой закрывая мир, мешая смотреть и видеть... Он продолжал шагать – бежать, волоча ногу... И почти что последним поднялся на земляной вал; остановился, протер глаза, высморкался.
Кто-то пытался ему перевязать рану, что-то спрашивали, но он ничего не слышал – все внимание было приковано к ратоборствующим, к большим самострелам.
Хвостатая черная тень накрыла вершину горы, дерущихся около костра: с одной стороны русские, с другой – ближе к берегу, где стояли гигантские деревянные станины самострелов, – татары.
Под станинами лежали сложенные черные копья – стрелы.
Бились в ближнем бою: тыкались копьями, рубились мечами, саблями.
Евсей Великий будто бы очнулся: увидел себя со стороны сидящим на хребтине земляного вала, держащим за шею копье, с мечом в ножнах. Вокруг – вои из личной десятки...
"Ох, вояка!" Сколько помнил, такого с ним еще не бывало – не к добру это!.. "Господи! Не отвороти лик свой от раба твоево!" – сотенный Евсей двуперстно перекрестился.
...Бой шел не так, как хотелось, – его вои оказались в худшем положении: ниже татар, сгрудились; задние не могли сражаться."Надо задним стрелами бить, головешками кидаться – поджечь!.. – Он видел, что его войско превратилось в разъяренную толпу мужиков – пусть и сильных каждый по отдельности... – Моя вина! Как только меня ранили, нужно было сразу же вместо себя назначить ково-нибудь – любой десятный справился бы... – Он знал своих воев – лично назначал десятных... – Но откуда столько татарвы взялось?!" И только теперь, приглядевшись, понял, что те татары, ежесекундно по двое-трое поднимающиеся на площадку с самострелами, были из-под крутояра, из-под берега...
Они вновь забегали вокруг своих больших самострелов, настораживая их для стрельбы.
"Теперь уж точно – воевода пошел, – подумал Евсей; он не видел даже луга, но сомнений не было – к горе подходил вятский полк. – Чо я сижу?! Надо иссечь большие луки – иначе подожгут ушкуи!"
Выхватив меч, он поднял копье, шагнул вперед – боль насквозь прострелила ногу; яростно-зло улыбаясь, перемогая боль, хромая, побежал туда, где мелькал голубой кафтан десятника (часть русских – десятка полтора – во главе с десятником прорвалась к станинам самострелов и билась в окружении, стараясь добраться до самих луков...)
С грозным кличем сотенный ватаман с десятью воями врезался в гущу врагов. Неистово работая мечом, копьем, а где и просто сшибая и подминая татар, пробился к голубому кафтану и вместе с ним ведя бой, дотянулся до самострела – затюкал мечом по звонкому сухому дереву, коже, по скрученным жилам... Дуга с силой выпрямилась – лягнула по ту сторону татар – трое по-птичьи, раскинув руки, отлетели к крутояру, скатились под гору...
Евсей Великий забежал на то место, откуда только что сбросило татар, и увидел реку – по ней, построившись полукольцом, подходил воеводский полк. Против него вышла стая двухвесельных лодок – около трех сотен татар. Плывя параллельно русским, держась правого берега, чего-то выжидали – для нападения их было маловато.
"Видать, большую часть лодок посек Иван... Ждете-пождете, когда огненные змеи полетят на ушкуи?!" – Евсей Великий ясно представил, что произойдет, если он не уничтожит оставшиеся самострелы – татары подожгут корабли русских, нанесут огромный урон, а потом налетят на лодках – постараются добить...
"Уложу всех, сам погибну, но большие луки посеку!" Сотенный Евсей оглянулся – за те несколько мгновений, которые смотрел на реку, враг окружил, отрезал их от остальных и теперь пытался расколоть прорвавшихся и по отдельности перебить. Все явственнее становился перевес татар, на место одного убитого приходило два; русские, рассеченные на небольшие группы, сражались каждый за себя.
Медлить было нельзя. Евсей Великий повел воев на соседний, стоящий выше, правее от него, самострел; но то ли устал, или же из-за потери крови (в сапоге хлюпает, от крови слизко...) вдруг почувствовал, как закаменели руки, ноги, закружилась голова.
Он пропустил вперед себя десятника в голубом кафтане с воями.
Они, подобно жнецам, пошли косить татар и, потеряв половину воев, дотянулись до самострела, тюкнули по жилам; повернули обратно – ринулись вниз, на последний самострел, – где уже застыли, ожидая команды, с дымящими факелами татары, готовые вот-вот поджечь стрелу-копье и пустить ее в реку...
Голубокафтанный ватаман с пятью воями смог-таки прорваться – добил оружие врага...
Сотенный Евсей Великий остался с тремя – с такими же, как он, отяжелевшими и обессилевшими от ран – воями, в плотном окружении, на полпути до нижнего самострела...
Полуоглушенный, простоволосый, без железной личины, в изорванном и спущенном с плеч кафтане, ничего не видя, – перед глазами черно-красная пелена, – вращал мечом вокруг себя, пытаясь не подпустить врагов.
Вот он уже один – товарищи изрубленные, бездыханные, рухнули на землю. Собрав всю оставшуюся волю и силу, сотенный еще боролся.
Левая рука безжизненно висела, рот хватал-кусал воздух, из глотки вырывались всхлипы; на страшном лице сверкали белками обезумевшие, полные жгучей ненавистью глаза...
Движения становились все медленнее и медленнее...
Несколько татар вскочили ему на спину, повисли, стараясь заломить руку с мечом – "Живьем хотят!.." – меч выпал у него; хрипящего и богохульно матерящегося, повалили на спину, но секунду спустя неимоверным усилием скинув сидящих, смог все-таки повернуться на живот; упершись рукой, приподнялся, встал во весь свой великий рост, схватил татарина – тот завизжал, рубанул руку ниже подлокотника – кисть Евсея шлепнулась под ноги – в пыль. Сотенный взревел, ринулся вперед, размахивая и тыкая брызжущей кровью культей...
Некоторые татары бросили оружие и, суеверно крича: "Шайтан, шайтан!.. Ой, алла!"52 – замолились – замыли по-кошачьи свои мордочки.
Другие встали, скованные нерешительностью, не зная, что делать, и только трое-четверо кинулись на русского ватамана – заполоскали по его голове белыми молниями татарские сабельки: миг – и золотосереброволосая голова окрасилась в красный цвет – будто облили ушатом крови...
Закачался, зашатался красный воин, повалился, запрокидываясь назад, придавив под себя врага; – на глазах кровавые слезы – слезы убитого, но не побежденного!..
* * *
Игорь Голубов, поставив к ногам упруго-тяжелый костяно-деревянный лук, стоял на носу ушкуя и смотрел, холодея сердцем, на медленно приближающийся правый берег Вятки. Прислушался к шуму разгоревшегося боя.
Поднялось кроваво-красное солнце – съело туман.
Теперь можно было различить под горой небольшие группы русских воев, захвативших часть лодок и отчаянно отбивавшихся от наседавших врагов, которые черными тараканами выползали откуда-то, заполняя весь берег, лезли наверх...
А вон татары садятся на уцелевшие лодки и отчаливают.
"Куда они?! Так на нас – увидели мой ушкуй!.."
...Огромная стрела, оставляя за собой дымный след, перед самым носом корабля шикнула в воду – черный столб дыма встал над тем местом, где скрылась огненная стрела; вторая нырнула совсем рядом: слева, сбоку...
– Направо заверни!.. Шевели веслами!.. – Игорь Голубов с надеждой оглянулся – никого, поднял взор на вершину горы.– Быстрей же! – заторопил мысленно Евсея Великого. – Што ж там телешишься!..
Младший воевода повернул направо – к берегу, на цепь татарских лодок, – так уйдет из-под обстрела и, самое главное, прорвавшись сквозь атакующих его врагов, высадится и добьет оставшиеся лодки на берегу.
...Оснач не успел убрать парус; дымящаяся стрела-копье пробила холщовую, пропитанную липкой смолой парусину, подожгла и обессиленно жухнула в воду, оставив над стеклянной гладью убегающей воды свой черный хвост.
Вспыхнуло рыжее пламя, по-кошачьи зауркало. Гребцы бросили весла, стали плескать на палубу, черпая ушатами из реки воду; затаптывали ногами падающие с горящей мачты скрученные пылающие куски материи...
Две лучные стрелы одна за другой воткнулись в правый борт – вспыхнули обмотанные паклей и пропитанные смолой древки стрел. Огонь бледно-красными волнами пополз по борту ушкуя...
– Стрелите!.. Не подпускайте татар, – кричал Игорь Голубов выскакивающим из-под палубы воям.
Младший воевода – как всегда, без железной маски – на спокойном мужественном лице колюче-злые глаза, – пристрелявшись, начал точно бить: в шею – незащищенную часть тела...
Огнем охватило палубу; выливаемая на нее вода растекалась по раскаленному просмоленному дереву масляной пленкой, паря, скатывалась – тут же на этом месте вновь вскакивали огненные язычки...
Дым щекотал ноздри, застилал и ел глаза, в горле першило – чих, кашель...
У воев затлевала, загоралась одежда; огонь перекусывал жилы туго натянутых луков, обгорали – обрывались лыковые веревки и падали обратно в реку ушаты, ведра53 с водой – нечем стало тушить...
Русские стреляли с единственно оставшегося пружинного самострела.
Татары сблизились, стали осыпать горящий корабль стрелами...
Брызгая искрами, раскаленной смолой, весело треща, горело под ногами, невыносимо пекло, жгло – вспыхивали русые, золотистые, рыжие бороды, усы.
Языки пламени лизали лица воев – чудовищная боль...
Горели нижние портки, живьем сваривались ноги... Многие, обезумев от боли, не выдерживали – горящими факелами прыгали в воду, где их с злой радостью расстреливали татары из луков, кололи в лицо, глаза, в голову...
Игорь Голубов взмахнул кинжалом около самой шеи – разрезал кожаную подкладку бранной одежды, сбросил накалившиеся дорогие доспехи – его тут же ожгло огнем, и он, почти теряя сознание, сполз в прохладную живительную воду...
Хвостатая туча заглатывала солнце...
* * *
Построившись, разя татар из дальнебойных луков и самострелов, воеводский полк вырвался в Устье...
Константин Юрьев в доспехах (подарок великого князя) стоял с боярином Андреем Воронцовым на палубе, посверкивал остроконечным золоченым шлемом, смотрел, как постепенно, поворачиваясь на юго-запад, чужал правый берег Вятки – превращался в камский.
Солнце выпрыгнуло из-за туч, жарко брызнуло светом и теплом, – сильнее запахло дегтем, паклей, смолой. Осветился высокий берег Камы с темными могучими елями наверху, с яркой густой зеленью древ и кустов на склоне, у самой воды – кое-где белоснежные оскалы известняка – чужого вражеского берега – это место, где происходило удивительное перерождение вятского берега в камский, всегда поражало его: сердце начинало стучать сильно и быстро...
Камский берег был красив, внушал уважение, но не любовь.
Константин Юрьев окинул прощальным взглядом скрывающийся вятский берег, подумал с тоской и болью: "Может, последний раз вижу!.."
Понимал – мало надежды на возвращение, ясно представлял, что ожидает. Посмотрел на свои руки, на длинные большие пальцы, в которых текла горячая кровь, билась жизнь, шевельнул плечом – и вдруг стало жарко: "Неужели все это будет вонючей гниющей мертвечиной (татары трупы русских не хоронят)?! Исчезнет плоть, развеется прахом в чужой земле, али же растащат собаки, дикие звери!.."
Послышались радостно-удивленные возгласы: в желто-зеленых камских водах нашли и подняли полуживого Игоря Голубова...
Засветились охваченные возбуждением лица воев. У Константина Юрьева тоже пыхнуло радостью в душе: "Жив Игорек!.." – разгорелось в сердце неугасимое пламя любви к своей земле, языку, народу и, одновременно, ненависти к врагу. Это двуединое могучее чувство лишь ждало повода вырваться, подавить, сжечь все остальное – по опыту знал, что такое в походе должно произойти с каждым воем, и тогда он предстанет перед врагом сильным, необоримым, – которого можно лишь убить, но не побороть в честном бою...
Воевода знал – теперь любой: от сотника до простого воя – будет беспрекословно выполнять приказания – их будет вести в бой любовь и ненависть...Неуверенность, колебания исчезли!..
* * *
Русское войско в едином порыве – на веслах, а к устью и на парусах, благо подул ветер – наискось: с левого берега на правый, в спину – проскочило Каму, вылетело на взволновавшиеся желтые воды Волги.
Веселый, довольный, покряхтывая, поднялся на палубу, встал рядом с вятским воеводой Андрей Воронцов.
"Ожил!" – поглядел на него Константин Юрьев.
Раннее утро. Вот-вот появится светило. Где-то справа, в луговом тумане, остался левый берег Волги. Прямо должен быть правый, высокий берег – он еще не виден. Снизу – вверх по течению – метет поземкой волн: невысоких, крутых, с белоснежной пеной. Чем дальше в Волгу – тем сильнее ветер, выше волны.
– Правь на ту сторону – прямо! – скомандовал Василию Борту великокняжеский боярин и, улыбаясь, почесывая широкую бороду с отдельными серебряными нитями, – Константину Юрьеву: – Вон там – напротив Камы – должен нас поджидать Нижегородский полк...
– А татары?..
– Татары?.. Они счас подтянулись к Казани – ушли вверх...а мы вниз...О господи, лишь бы нижегородцы подошли и ветер переметнулся!
Василий Борт передал руль осначу, шагнул к ним, кивнул-поклонился... На него блеснул глазами боярин:
– Ты что тут! – иди на место!..
Кормщик, ничего не ответив, обратился к Константину Юрьеву.
– Воевода! – голос злой, резкий – перекрыл шлепание весел, удары волн о борт качающегося с боку на бок ушкуя. – Не можно на Волгу – лодки утопим... Послать ведомцев, а самим переждать непогоду – ветер меняется...
"Как ведет себя?! – На меня и не посмотрит!" – Андрей Воронцов подскочил к нему:
– Не слышал!.. Пошел отсюда! Не твоего ума... Нужен будешь – позовем...
Вышли на средину. Сзади, с боков – бушующая мутная вода. Солнце так и не показалось – заблудилось в тумане на лугах. Прямо серела вершина горного берега.
Низовой ветер гнал волны против течения. Они, высокие, крутые, белыми гребнями били в борт: захлестывало палубу, брызгами окатывало гребцов (шли на веслах – паруса убрали).
Холодные брызги метелили в лицо, но воевода стоял на корме, вцепившись руками в край борта, – бледный, злой; ругал себя: "Прав Васька – не послушал его – не надо было всем полком выходить... Вон лодку захлестнуло, перевернуло, – люди молча скрылись в волнах. Не выплывут!.."
Константин Юрьев бросился, оскальзываясь, на другую сторону – к мокрому, со слипшейся бородой Андрею Воронцову:
– Где твои нижегородцы?! Не вижу! – сейчас уже можно было различить пустой берег.
– Должны были здеся быть... – жалкий, старый повернулся к воеводе.
– Пойди сюда! – Константин Юрьев махнул рукой Василию кормщику. Но тот не шелохнулся – закаменел лицом, под бледным мокрым челом ледяные глаза, и только руки шевелились: одолевая мощные валы; правил на медленно приближающийся берег. Тогда вятский воевода сам преодолел качающуюся скрежащую палубу и – к нему:
– Не видишь?.. Не слышишь!..
– Чаво?..
– Как!.. Люди зазря тонут! Там, – воевода задохнулся от гнева, – каждый вой будет целого полка стоить!..
Кормщик молчал, – только желваки заходили под слипшейся бородой.
– Молчишь?.. Так будем плыть – все лодки перетопим... А там их еще нет – не подошли...
Василий Борт сглотнул тугой ком в горле, пересилил свой гнев, презрение к этим высокородным, грубым, но не очень умным господам-начальникам ("Всю жизнь вот так вот!.. Разобьем поганых – волю возьму; не дадите – уйду!.."), повернул голову:
– Вели идти на низ – навстречу волнам.
– Снесет много?
– В верстах трех Волга повернет на восход – встанем под берегом: укроемся от ветра...
Два дня стояли под берегом. Ждали, – никого. Погода установилась: ясно – солнечно-весенняя – и, главное, ветер верховой, попутный...