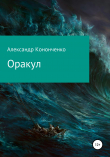Текст книги "На рубеже двух эпох"
Автор книги: Вениамин (Федченков)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Когда отцу моему было лет 13-14, то помещики Баратынские послали его, как хорошего писца, в другое свое имение – из Смоленской губернии в Тамбовскую.
Крепостное право имело железные свои законы и обычаи, а мало кто из крепостных думал о ненормальности и бесчеловечности этих прав человека на человека. Отнимают мальчика от отца, матери (не знаю, были ли другие дети в семье), и никто не смеет даже задумываться, хорошо ли это, больно ли родителям, полезно ли безнадзорному хлопчику.
Такова воля помещика, а может быть, лишь бурмистра, и почти еще ребенка отправляют на перекладных за 700 верст в другой край. Но так думаю лишь я, отец же решительно никогда не обменивался жалобой на этот порядок. Наоборот, ему казалось, что так и следовало. Во всяком случае, как-то рассказывая один раз об этом длинном путешествии зимой на лошадях, он с тайным удовольствием вспоминал, что в лесу на них напал разбойник и разрезал сзади кибитку, но кучер услышал это и особым кнутом, с чугунным кистенем на конце, ударил вора наотмашь через весь возок и ускакал... Что стало с разбойником, не помню рассказа... Отец вообще любил, как и все деревенские люди (да и одни ли они?), все особенное, страшное, сверхъестественное, сказочное. Бывало, везет нас с братом Михаилом из уездного училища домой на святки. В поле за 7 верст ни души, ни дерева, лишь лошадь впереди да снегом крутит вьюга. Лощины... По дорогам соломенные вешки стоят, качаясь во тьме, как живые люди.
У нас только глаза и носы открыты из шуб и башлыков. А отец рассказывает, как вот в этом самом месте оборотень появлялся. Кажется, что были бесы, но только не очень злые, а больше пугающие да путающие добрых людей с пути. И почему-то эти существа любили оборачиваться преимущественно в диких свиней. Вероятно, это отголосок из евангельского события о вселении изгнанных Господом бесов в гардаринских свиней, бросившихся потом в Геннисаретское озеро и утонувших. Но иногда оборотни принимали вид собак, волков, вообще недобрых животных. Пробежит такая свинья перед мордой лошади поперек дороги, и видишь ее, вдруг она исчезнет, потом опять явится где-нибудь... Мы слушаем затаенно, и нам страшно... Вешки во тьме нам уже готовы казаться оборотнями. А отцу интересно рассказывать: точно он сейчас вот видит все это...
Кстати, припомню и действительный случай. Мой бывший духовник, ученейший епископ, знавший 11 языков, ехал из Москвы в Петербург с другим моим знакомым, студентом академии, а после ученым монахом, и оба они совершенно ясно видели, как параллельно поезду за окнами несся по воздуху черный пес. По совету духовника молодой испуганный юноша уткнулся в колена ему, пока видение не исчезло... Не все так просто, как кажется иным мудрецам!
А один профессор Московского университета даже написал целую книгу: "Простые речи о мудреных вещах", где собрано много фактов из сверхъестественного мира. Народ наш верил в это. И если мы признаем за ним большой здравый смысл, то не нужно раньше времени смеяться над нашими отцами и дедами. Недаром еще Гейне, поэт из евреев, написал: есть на свете вещи, которые не снились и мудрецам... Но вспомню снова об отце.
Доехал мальчик до нового имения Баратынских в деревне Вяжки (вероятно, по имени речки Вяжки, которая крутилась узлами, пока не впадала в Ворону, Борона – в Хопер, Хопер – в Дон). Еще это село называлось Ильинкой, по имени старого барина Ильи Абрамовича. Вообще села и деревни назывались большей частью по именам, а иногда по фамилиям владельцев: Софьинка, Натальевка, Марьинка, а иногда – Артыганьевка, Веденеевка, Рачинка (по фамилии известного педагога С.Рачинского); иногда же как-то неожиданно: Царевка, Ядровка, Дербень, Умет, Чутановка, Кананс. Были деревни Осиновка и Березовка, хотя там я не видел уже ни одной осины и березы...
И дальше я не помнил, чтобы отец рассказывал что-нибудь о своей личной жизни в течение последующих 60 лет. "Маленькие люди", что тут рассказывать? А литература писала о "дворянских гнездах" да еще о горожанах. О народе же лишь изредка говорили что-нибудь в книгах: "Записки охотника" Тургенева, рассказы Толстого, "Мужик Марей" Достоевского, Глеб Успенский, потом Горький, Чехов, немного Бунин, Гусев. Но народ наш совершенно не знал этой литературы. И только теперь, в наше время, стали писать авторы из народа, о народе и для народа. И вдруг мы, интеллигенты, неожиданно увидели целый живой мир там! Оказалось, и у мужиков и баб страсти и нежная любовь, страдания и счастье, борьба и победы, грехи и чистота, грубость и благородство души, вера и сомнение, разбой и жалость к преступникам, искание правды и терпеливое примирение с бедностью, горем и людским насилием, печаль-тоска и разудалое веселье, бунт и терпение, темнота и стремление к знанию, жалость, а еще более милосердие, себялюбие, а больше жертвенность.
Все человеческое, и такое подчас глубокое, тонкое, деликатное, что умиляешься. Да, мы знаем и странное в нем. Например, моя нянька Арина, помогавшая нашей многодетной матери выпестывать детей, терпела смертные побои от мужа – пастуха Василия, уходившего чуть не на полгода с чужими овцами в степь. На вид симпатичный блондин, он почему-то всегда хмуро молчал, как я помню его: мы потом жили в его избе. Или Арина была виновата неверностью, или еще что, но у нее рубцы от его побоев перекроили все лицо... Потом началась великая революция, и она в ссоре зарубила его топором. Сослали на каторгу... А нянька она нам была хорошая, и мы ее любили и считали за родную. Дочка ее Анюта была смиренная, как ангел. Получала же от нас, кроме пищи, кажется рубль или полтора в месяц. По три копейки в день... Мой брат, мальчик Александр, загоревшийся желанием иметь собственные деньги, месяцами ходил чистить и выпалывать "среднюю" и "низкую" дорожки – по 7 копеек за 10-11 часов работы, да еще на "своих хлебах". Правда, и цены на все были невысокие... А крепостные работали, разумеется, за землю. Дворовые же получали кроме бесплатного помещения еще "месячные". Например, на моей уже памяти наша семья получала 2 пуда муки, полмеры пшена, керосин и соль; и, вероятно, солому и сено для коровы. А сверх всего 22 с половиной рубля (почему такая дробь, не знаю). Но это было 25 лет спустя после освобождения. Нужно же было одеваться, обуваться. Вероятно, была какая-нибудь скромная плата помимо "месячного".
Какое общее воспоминание осталось у меня от рассказов отца о крепостном праве?
Казалось, нужно было бы ожидать от него грустных историй и трагических событий. Но должен сказать правду; за всю жизнь с ним я буквально не слышал ни одного осудительного слова о господах и всем крепостном строе. Странно это? Да! Но так было. "Слова из сказки не выбросишь", как говорили у нас на селе. Даже наоборот, он иногда вспоминал о прошлом времени с одобрением. "Что же, – бывало, скажет, – тогда народ был лучше, не то что теперь, самовольники. – И подумавши немного, будто вспоминая картины старого времени, добавит: – Ну по субботам, понятно, секли кое-кого на конюшне... Да ведь поделом же!"
Отчего у него составилось такое воззрение, затрудняюсь сейчас сказать... Могу лишь предполагать. Может быть, и в самом деле мы теперь слишком сгущаем темные краски далекого прошлого, а в действительности все было проще? И теперь ведь много нужды и горя в мире: и экономическая зависимость одних от других, и вообще, от всего строя жизни давит людей... Или у этих помещиков добрых жилось лучше, чем у других?.. Или великое смирение крестьян-христиан давало народу такую огромную силу терпеть все? Или глубокая идея о суетности и скоротечности этой временной жизни давала ему мудрость философа, народа-богоносца, по слову Достоевского... Или уж данная многовековая, укрепившаяся привычка повиноваться, подчиняться, со всем мириться облегчала ему суровость жизни? Или при довольстве, сытости, своеволии самих господ он видел и у них те же болезни, свои страдания, грехи и беды? Или он чуял, что корни несчастий и скорбей находятся где-то глубже и неустранимы? Или просто, при своем хорошем сердце и сносной жизни, он удовлетворялся малым своим счастьем, не зная другого, лучшего, а если и видел его у господ, то не завидовал им?..
Затрудняюсь ответить решительно: душа ведь сложная и многогранная. Больше я склонен думать вместе с Достоевским и даже с Толстым, что наш народ есть народ-философ, народ-христианин, "хрестьянин", крестьянин, как он сам прозвал себя. Никакой другой народ в мире не называл себя по вере, лишь русские. И отец мой воспитался в такой же философии.
Но возможно, что у дворовых крепостных, в отличие даже от рядовых мужиков-земледельцев постепенно вырабатывалась особая психология повиновения, терпения, примиренчества; они были более зависимыми от начальства: не только от помещика и управляющих, но и от меньшей власти. Они были ближе к контрольному оку. Мужики жили дальше, самостоятельнее: отрабатывали свои 2-3 дня в неделю, а потом ты сам себе господин, хозяин в семье, на скотном дворе, в огороде, в хозяйстве, в поле. Эту сторону психологической независимости, даже и при крепостном праве, эту власть в своем маленьком мире особенно отмечал Глеб Успенский: земля давала ему, земледельцу, силу и опыт. У дворовых же, безземельных, оставался один путь: держаться места, зависеть всецело от воли владельцев, уйти было почти некуда.
А кроме всего этого, по моему мнению, в терпеливом отце сохранился еще и белорусско-хохлацкий характер, как у нас, без обиды, называли тогда украинцев. Он происходил из Смоленской губернии, но несомненно, что прадеды его были хохлы. Сама фамилия его – Федченко ("в" прибавлено, конечно, после, под влиянием великорусского языка) – говорит за украинское происхождение наше по отцу. Я и теперь еще люблю слушать украинскую "мову" и часто говорю, что в моем теле смесь: одна половина – от отца – украинская, а другая – по матери – великоросская.
В давние времена половцев и татар наши южные предки (Федченки, Мевченки, Прокопенки) переселились вверх, на север и на восток. А пути эти, как теперь по железным дорогам, шли тогда по рекам. И киевский Днепр донес их по протокам до самого Смоленска.
Украинская же психология, по многовековым историческим, политическим, географическим, экономическим, климатическим причинам, постепенно выработала из южан особый тип славян-полян: медлительность, сентиментальность, даже нежность и ласковость.
Но одной из черт этого типа можно считать некоторую леность и беспечную податливость, согласие на все.
Я единственный раз в жизни выехал на сербскую станцию волами. И не вынес этой сонной раскачивающейся развалки их: с полдороги соскочил и пришел пешком много раньше. Тут сказалась во мне больше мать-великоросска. А эти самые хохлы могут неделями ехать на своих волах и мечтательно мурлыкать или петь свои чудные песни. Помню, большевики-великороссы зимой 1918 года осаждали Киев, где тогда пановала Центральная рада с Грушневским, Винниченко, Макаренко и еще с кем-то во главе. А у нас в это время был Украинский Церковный собор там. Кроме архиереев и очень немногих священников, члены собора были подлинные хохлы... И вот, бывало, снаряды ложатся возле нашего здания на Липках: один попал уже в конюшню, другой влетел в алтарь храма (прежде там было женское епархиальное училище), третий ударил в мраморный верх выходной двери. А наши украинцы, после сытного обеда, ложатся по койкам отдыхать и беспечно поют: "Ще не смэрла Украина" или "Виют витры". Дивился я тогда их этой беспечности! В противоположность им, великоросс, прошедший более суровую школу истории, преодолевавший холодный климат, дремучие леса, короткое лето, холодную зиму, бедную землю, вырос в закаленного жизнью борца, колонизатора, правителя. И совсем не случайно это великодержавное племя оказалось во главе России.
Так– и в моем отце, думаю, оставалась еще эта хохлацкая беспечность, "Э-э!" – и промолчит...
Помню из одного рассказа Горького, кажется "Ярмарка в Голте", подробность. Среди других возов с товарами стоит телега с макитрами (глиняными блюдами, в которых мак терли). Два вола, спрятавши часть своего тела в тень воза, медленно и равнодушно жевали жвачку. Рядом с ними лежал и их хозяин, хохол. Он точно не интересовался продажей своих макитр: кому нужно, ведь купят! Подходит барыня – хохлушка. Долго она выбирала себе блюдо, все простукивала, а он лежит, будто и нет никого. Наконец покупщица остановилась почему-то на одной и говорит невидимому хозяину под воз: "Макитра с дыркой". Оттуда не сразу, медленно следует спокойный и разумный ответ: "Визли биз дирки".
Конечно, эта черта совсем не означает слабости народа. Наоборот, когда хохол додумает до конца и придет к решению, он будет упрямым, как его волы: упрется, но вывезет!
И мой отец спокойно вывозил и крепостное иго, и отрыв от дома, и тридцатитрехлетнюю службу господам, а потом и горькую нужду. Моя мать в последний раз моего посещения семьи весною 1918 года, провожая меня из дома, между прочим, сказала со слезами:
– Трудно нам жилось! Но одно лишь скажу: отец у вас был святой!
– Почему – святой?
– Уж очень терпелив был: во всю жизнь свою никогда не роптал.
А разве мало было таких отцов на Руси. Беларуси, Украине? Миллионы... И сейчас выносят и вынесут. "Сдюжим!" – сказал один терпеливый селянин про борьбу с немцами. И украинцы заодно уже уперлись... Не устоять немцу.
Но, возвращаясь к вопросу о крепостном праве, я должен сказать: не все так благодушно относились к нему, как отец. И прежде всего не все так думала о нем мать наша, великоросска племенем.
Ее родители, из давней духовной семьи Оржевских, по имени села Оржевки. никогда не были крепостными, принадлежа к свободному сословию. Отец и дед ее были диаконами, мать – дочерью диакона.
Рассказывала она, как женили ее отца. Это вообще характерно для старого века... Как-то зимой мой прадед, диакон Василий, обращается к молодому сыну Николаю, лежавшему на теплой огромной русской печи, со словами:
– Николай, а Николай!
– Что, батюшка?
– Я решил тебя женить.
– На ком, батюшка? – поинтересовался дед мой.
– Да вот хочу взять у отца Василия (тоже диакона, но из другого прихода, село было большое – две церкви) Надежду.
– Батюшка, это – рябую-то?
А бабушка моя в детстве болела оспою, и на хорошем личике осталось с десяток малозаметных рябинок.
– Ка-ак? Что ты сказал?
– Я говорю, рябая она.
– Да как ты смел это? Ну-ка слезь сюда с печи! Сын повиновался. Прадед взял от печи рогач да
раза два вытянул им по спине своеумного жениха.
– Вот тебе рябая! Что, я не знаю, что ли, кого тебе выбрать? Надежда – смирная, а что рябая малость, так воду с ее лица, что ли, пить? Жить придется с нею. Душа нужна.
– Прости, батюшка! – смирился мой дед. -Хоть на рябой, хоть на кривой, ваша воля!
И поженились. И какая она была чудная жена и мать! Преданная, смиренная, благочестивая, чистая, терпеливая (дедушка последние 13 лет болел: от вина погубил рассудок, впал в тихое детство), молчальница. Никто никогда не видел ее сердитой или недовольной. Кротчайшее существо была. Могу сказать, святая! И умерла свято, безболезненно, подобно тому, как Л. Толстой описывал тихую смерть своей нянюшки Натальи Саввишны. Я еще помню ее кончину. Стоит рассказать потомству о таких людях, как они жили и как помирали. Ничем она не болела. Пришла старость. Было ей лет около семидесяти двух. Сложения она была полненького. Спала она на теплой лежанке – это продолговатая кирпичная прокладка сбоку главной печи, но со своей особой топкой. В эту ночь ей не спалось, видимо. В избе нашей горела керосиновая притушенная лампа. Бабушка заметила, что младший наш брат Сергей, еще младенец, во сне сбросил с себя одеяльце. В нашей избе, точнее, в третьей части длинного флигеля, была лишь одна комната, но только третья часть ее до печи была отгорожена перегородкой под кухню. Там же была и столовая, то есть стол для обеда и скамья. А в главной части, которую мы называли "зала", стояла единственная кровать с периною, стол, три-четыре стула и комод для платья, да еще горшки с цветами перед окном. В углу, конечно, много икон с лампадкой; в кухне – для молитвы перед пищей и после – висела одна, без лампадки. На постели обычно спала мать с младенцами, отец на печке, а мы все прочие – на полу, подостлав шерстяной войлок. Было так тесно, что и пройти мимо трудно. Нас было шестеро детей, тогда еще пятеро, да бабушка, а с родителями – восемь душ. Но мы не замечали этой тесноты, нам казалось, столько и нужно. Никто даже не обращал внимания и не жаловался. Спали безмятежно и сладко, нисколько не хуже любых богачей и господ.
Вдруг я слышу (у меня всегда был очень тонкий слух и способность к пению) тихий голос бабушки к моей матери:
– Наташа, Наташа!
Мама сразу вскочила. Она была очень чуткая, энергичная, горячая, не в пример отцу.
– Что, мама?
– Сережа-то разметался, посмотри-ка! Очевидно, бабушка сама уже не в силах была
покрыть братика.
Ну мама покрыла. А я все это слышал, мне было лет шесть тогда. Вдруг бабушка начала тяжело дышать. Мама, она тревожная была при всей своей телесной и душевной силе, испугалась. В таких случаях она всегда обращалась к безмятежному отцу, как она его называла сама.
– Отец, отец, проснись!
– Что? – спросил он.
– Маме худо!
Он неторопливо встал, подошел к лежанке, прислушался к дыханию кончавшейся и ровным тоном сказал:
– Бабушка (он так звал ее с нами) умира-а-ет! Взял из-под икон свечечку, зажег ее и, вкладывая в холодевшие уже руки, сказал:
– Бабушка, возьми свечечку!
Она удержала ее. Потом еще несколько раз вздохнула и безболезненно, тихо-мирно скончалась. Раздался раздирающий душу вопль матери. Дети все проснулись, и нас, полусонных, переправили в соседнюю комнату флигеля, где жил ключник-вдовец с красавицей взрослой дочерью, тоже Наташей.
Потом похороны. Я нес до церкви, версты с полторы, иконочку перед гробом бабушки. И верую, что она, несомненно, угодница Божия, святая женщина в миру. Постоянно поминаю я ее на службах. А в трудные минуты своей жизни молюсь я ей, прошу небесного заступления ее пред Богом... Через полгода скончался у другой дочери, тоже святой женщины, и дедушка.
Отец женился на моей матери, когда ему было уже тридцать три года, а ей – девятнадцать. Он носил уже усы, после отпустил и небольшую бородку, а она имела тяжелую косу. Он был блондин, она – шатенка.
Так вот эта моя мама, захватившая крепостное право лишь трехлетним ребенком, конечно, ничего не помнила о нем сама. Но со слов родителей и только что освобожденных крестьян она, конечно, знала, что это было за время! И у нее на всю жизнь осталось горькое воспоминание о нем. Не раз помню, как мать, кончив все дневные работы, присядет около нас с вязаньем чулка (она не могла сидеть без дела) и грустно-грустно, хорошим дискантом запоет песню о воле, и плачет, плачет... Я помню лишь первый куплет:
Ах ты, воля, моя воля, Золотая ты моя! Воля – сокол поднебесный, Воля – светлая заря!
И вся песня грустная.
Может быть, мать изливала в этой песне и свое личное горе, но, главное, она грустила о горькой жизни других, сама она не была же крепостною. А когда заходила какая-нибудь речь об этом времени и даже если отец вспоминал о нем спокойно или с похвалой, то мать мгновенно разражалась на это целым потоком слов и слезами... Отец обыкновенно тогда замолкал. К сожалению, я не помню, что именно тогда вспоминала она тяжелое, но одно знаю: не выносила она этой горькой доли народной. Была ли она не такой смиренной как отец или бабушка (скорее, она была в отца), или, как сама свободная от рабства, она потому сильнее возмущалась им за других, или по своей активной, горячей натуре, или от родных своих, как более интеллигентных и вдумчивых свидетелей жизни современного им общества, она наслушалась печальных рассказов, или, как великодержавная великоросска, не могла мириться с прибитостью людей, но только она в этом пункте никогда не соглашалась с отцом моим. И он уже не спорил с ней; и вообще, в семье нашей, естественно, главенствовала она, как необычайно сильная духом женщина,
Я иногда говорю: ее энергии хватило бы на трех матерей, и все они были бы все же твердыми творцами жизни. Нет никакого сомнения, что воспитанием всех нас, шестерых детей, из которых трое получили образование в высших учебных заведениях, а трое в средних, мы обязаны больше всего нашей могучей матери. Отец наш, добрая душа, лишь помогал ей в этом, конечно, тоже с радостью. Царство им небесное за одно это!
У них даже и походка была разная: отец немного сутулился и ходил не спеша, а она, прямая, немного подняв голову и устремивши грудь вперед, быстро и энергично шла, точно на борьбу, а иногда еще по-мужски складывала руки назад. Иной раз, сидя, наклонит голову вниз и о чем-то думает, думает. Конечно, о жизни да о нас, дорогих ей детях.
Но кончу о крепостном праве свои воспоминания. После мне пришлось читать много книг и рассказов о нем. И порою просто не верилось, как могли люди так издеваться над людьми, своими же братьями и сестрами! Да еще и христиане... Конечно, смирение прекрасная вещь для смиряющихся, это – великая, чудная, божественная красота в них! И апостол Павел таких смиренных рабов своего времени называет "украшение Евангелия". Да!
Но владение людьми совсем не божественное дело. Великий святой подвижник XI века Симеон Новый Богослов объясняет происхождение рабства – и политического и экономического – прямо от дьявола, который ожесточает одних против других. Конечно, горе можно терпеть, но оправдывать причиняющих его нельзя.
И еще можно сказать: конечно, всецелое спасение человечества от горя и страданий не приходило и не придет от политических и экономических свобод. Простое доказательство тому в самих богатых и свободных: разве они лучше бедных и подчиненных? Не хуже ли душою? Не грешнее ли? Не гордее ли? Не жесточе ли? Недаром же сказано Господом: "Трудно богатому войти в царство небесное", то есть быть хорошим здесь нравственно, чтобы удостоиться будущей награды там. Но и это соображение не оправдывает насилия одних над другими: как бы ни было мало или велико зло, оно остается им всегда. И, конечно, если бы мы все были святыми, высокими, идеальными христианами, тогда мы способны были бы переносить все трудности жизни, как их переносили мученики первых трех веков. Но и опять: и тогда были отступавшие от веры из-за жестокости невыносимых мук огнем, колесами с ножами, зверями. И тогда приходилось апостолам все же убеждать, уговаривать христиан, писать им – не отрекаться от креста страданий, терпеть и невинные муки. Значит, нелегко все это было и для святых! А если мы не святые? Тогда к нам относится иное слово того же апостола Павла: "Отцы! Не раздражайте чад своих!". А еще раньше его политический вождь – царь Давид – в псалме говорит: "Когда гордится (много о себе думает и позволяет) нечестивый, то возгорается нищий", то есть обижаемый, бедняк подчиненный. И тогда происходит революция.
Ровоам, сын Соломона, стал жестоко обращаться со своими подданными. Они взбунтовались, и отделились 10 колен израильских от Ровоама. Он собрал воинство, чтобы подавить эту революцию, но пришел к нему пророк и сказал от имени Господа; "Не ходи и не воюй, ибо это – от Меня произошло!" Значит, Божие попущение или изволение. Иногда у людей (несвятых) уже не хватает сил терпеть.
Мне пришлось читать одну интересную книжку, описание страданий одной крепостной девушки Федосьи, современницы преподобного Серафима Саровского (J1833). Ее красота приглянулась барину, но отказалась она быть во грехе с ним. Боже! Что потом он делал с ней! Как ее били, истязали по его приказанию. Потом она убежала, скрывалась летом и зимой в лесу. И какие-то бродячие собаки заходили к ней в логовище и согревали тело ее. А уж чем питалась она и говорить нечего... Но эти мои слова не дают никакого впечатления читателю, нужно читать в подробностях ее страдания. Описал их, со слов ее самой, духовник, священник Новгородской епархии, умерший незадолго до революции. О, сколько таких трагедий знает история, а отчасти и литература!
И я не тому дивлюсь, что бывали восстания крестьян, а нужно дивиться тому, что их было все же очень мало. Поразительно мало, как ни вычерпывай их из архивов. И это оттого, что народ наш был необычайно терпелив и кроток... Крестоносец народ. Но потом начало иссякать и смирение, а с ним и сила терпения. И началось иное, о чем речь в свое время будет.
Когда же это иное пришло, когда начали страдать уже "раздражающие нищих", то мне пришлось слышать от одной, прежде бывшей очень богатой и знатной, женщины, у которой большевики убили единственного сына, такие слова:
– Это Федосьины внуки отплачивают за наших дедов!
Она давно, как понимающий человек и как христианка, простила убийцам своего сына и теперь молится о победе советских людей над врагами. И, конечно, уж не мечтает о возвращении "доброго старого времени" и прежних богатств, хотя живет сейчас лишь на милостыню американского народа и правительства его.
И других, подобных ей, и даже лучше, видел я.
Один князь, потомок самых великих имен прошедшей истории, К., делился со мною своими мыслями. И между прочим сказал, что теперь ему ничего не нужно, хотя прежде он был богатейшим человеком в России.
Кто-то из знакомых посетил его скромную комнатку, заметил недостаток мебели и сказал:
– Я вам пришлю кресло.
– Зачем? – просто ответил он – оно мне не нужно, без лишнего богатства мне живется и легче, и спокойнее.
Но увы! Жена не выдержала такой бессребрености и примиренности мужа и ушла от него, развелась, вышла замуж за другого. Нелегко такое бескорыстие и бесстрастие к земным благам, другие защищали и защищают их всеми способами.
Помню, как единственный раз мне пришлось быть в Государственной думе на прениях о передаче земель крестьянам. Сам министр Кутлер был за какой-то широкий проект, но его отвергли... И мне припоминается трехчасовая речь южного помещика князя С.М-го: каких только доводов не приводил он в защиту крупного землевладения! И что же? Все было отнято потом...
Да, Федосьины внуки заявили свои права. И не нужно винить их одних: не больше ли виноваты деды и прадеды – крепостники? Потом я расскажу свои впечатления о деревенской жизни, как уже я застал ее. Я сейчас скажу, смирен был мой отец – и честь ему, но даже сама жена его, наша мать, в конце концов удивлялась такому его терпению: никогда не роптал. А не всякий на это способен... С силами человеческими нужно бы считаться больше, чем это бывает... Печальная история случилась и с отцом нашим...
Прослужил отец конторщиком у Баратынских около 33 лет подряд, служил честно, непорочно, как говорят, а в результате – лишение места. По рассказу матери от того времени, случилось это так. Умер старый барин Андрей Ильич. Его трое детей получили все в наследство и разделили его. Отцу моему, после такой долголетней службы, естественно было бы получить место управляющего в одном, вновь отделенном имении – в деревне Осиновке, упомянутой выше, в истории Марьи Григорьевны. Но отец был малоспособен к административной власти, как человек мягкой души. Однако, кажется, его прочили на это место. А в разделенном имении он был уже не нужен как конторщик. А тут помешала еще и правда. При разделе имения (не знаю уж кем, не управляющим ли?) брату Илье Андреевичу отведены были худшие места и в полях и лесах, и в займищах, то есть в заливных весною лугах. Конечно, отец знал это. И (не по совету ли энергичной матери?) написал обоим братьям, Михаилу и Илье (сестра Наталия получила Натальевку), в Москву письмо о том, желая добра своему будущему господину. Но братья на него обиделись: будто отец желает их перессорить. А может быть, была и третья причина: брат нашего управляющего, холостяк Петр Андреевич, тоже метил на это место. И вот однажды утром в зимний месяц я проснулся раньше других детей. Мать уже возилась около весело пылающей печи. Я вертелся около нее тоже радостно, ожидая ухода в школу вместе со старшим братом. А в нашем доме была пословица: "Кто рано встает, тому Бог дает". Но на этот раз, по-видимому (а, в сущности, один Он знал, что будет лучше всей семье нашей), случилось иначе.
– Знаешь, сынок (мне было лет восемь, вероятно), я ныне видела сон, будто получила я красивое яблоко. Разломила его, а там внутри оно гнилое. Как ты думаешь, к чему это?
Не нужно было иметь большого ума, чтобы ответить ей:
– Не к добру это, мама.
А когда я воротился из школы, родителями было уже получено письмо из Москвы, в котором наши помещики отказывали отцу совершенно от службы.
– Вот, сынок, – в слезах говорила мать, – и яблоко нам: конверт-то белый, а внутри – беда. Что будем делать? Что делать?
Кажется, это было первое горе и в нашей семье, и в моей жизни. Остро оно почувствовалось и мною. Но протестовать было нельзя. Я часто думал после, как холодны люди к несчастьям других. Ведь нас тогда уже было восемь человек: родители и шестеро ребятишек! Меньшой, Лизочке, едва ли был годик или полтора... Куда идти? Чем жить? Кому какое дело? Каждый думает лишь о себе... Да и мы сами такими были, конечно. У нашей соседки, жены лакея барского, было 10-12 детей. Они тоже остались без службы. А куда разбрелись, я не знаю, да, по совести сказать, и не интересовался этим. Не виню и господ теперь я. Такова уж была общая жизнь, общий уклад. Они не были хуже других, и даже, вероятно, добрее, но не нужен стал человек, прослуживший им 33 года и уходи, куда знаешь. А что с ним будет и с шестеркой детей – это на Божью волю. "Бог подаст, – говорили, бывало, в селе, отказывая через окошко нищему..."
Мать моя после очень жалела такого одного полуглупенького Кузьму Ивановича, ходившего без шапки с растрепанными рыжими длинными волосами, с двумя перекрестными мешками за плечами: один – для кусков (хлеба), другой -для муки. Бывало, зазовет его, покормит горячими щами или кашей, поговорит с ним дружески и даст еще чего-нибудь в мешок, а то поплачет вместе с ним. Кузьма Иваныч не жаловался: и дождь, и снег, и жар – все терпел равнодушно, точно птица. А где и как он жил, не поинтересовался я тогда и спросить, даже деревни его не знал. Опять – какое равнодушие! Вот господ-то я, пожалуй, готов обвинить за отца и семью, а сам вспоминал об этом нищем лишь тогда, когда наша собачонка неистово лаяла на него: почему-то собаки никогда не любили нищих. А потом тут же забывал: "С глаз долой – из сердца вон..." Нищий, ну пусть и будет нищим! Другие богаты, мы сыты, а ему суждено на роду быть бродягой... Так все мы жили. И кажется, крестьяне больше жалели этих нищих, чем другие. Конечно, в барский дом нищим за куском не полагалось обращаться. Странно! Но ко всему мы привыкаем, будто бы так и нужно...