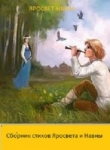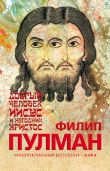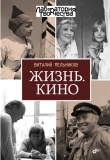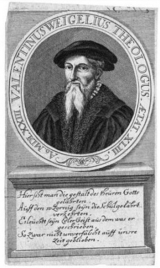
Текст книги "Валентин Вайгель. Избранные произведения"
Автор книги: Вайгель Валентин
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Что способствовало развитию у Вайгеля столь радикальных взглядов? «Виной» всему был, как представляется, бескомпромиссный, стремящийся додумать всё до самого предела философский ум Вайгеля. Он последовательно довёл интенции Лютера до безжалостного логического конца. Лютер всё же был очень «традиционный» мыслитель – и, несомненно, он принимал как данность, что Церкви как таковой всегда присуща антиномичность, двойственность, о которой мы уже говорили выше: она одновременно и Тело Христово, и некая земная институция, не избегающая падшести. Эта падшесть проявляется, в частности, в том, что Карл Барт в своей «Церковной догматике» называл «проклятым католическим "и"» – когда в сочетаниях «Иисус и Мария», «Писание и Предание», «Христос и Церковь» etc. вторая часть пары берёт верх над первой и по сути делает её лишней. Но так или иначе, пока мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5, 7) и видим всё как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13, 12), антиномия присуща Церкви. "И" остаётся хотя бы в таких контра позициях, как «Бог и человек», «внешнее и внутреннее», etc. Лютер это чувствовал и сам принцип антиномии «не трогал», хотя оспаривал частности («Писание и Предание» и проч.) Но для логического ума Вайгеля любая антиномичность, любое "и" было невыносимо. Он буквально воспринял принцип Лютера «Sola» – «только». Только вера, только внутреннее, и, в конце концов, – только Бог[31]31
См. «Проповедь на Благовещение», все его «ganz gleich», полное отсечение человеческой воли и проч.; также глл. 36– 38 «О жизни Христовой» – никакой синергии: человек может только упраздняться от себя самого и со смиреннейшей молитвой ожидать действия Божия.
[Закрыть]. В других произведениях Вайгель «сдерживается»; в трактате «О жизни Христовой» это проявляется очень ярко – скажем, давая себе волю, он доходит до утверждения о совершенной «опциональное™» Таинств (гл. 47).
Однако здесь важно отметить, что при всём том Вайгель, иначе, чем Лютер, но остаётся церковным мыслителем. Цшопауский пастор, несомненно, симпатизировал идеям спиритуалистов, «мечтателей» и «сакраментариев» и иногда (в частности, и в данной книге) сильно склонялся на их сторону, но всё же никогда не доходил до полного отрицания внешнего Слова Божия и Таинств. Спиритуализм Вайгеля – особый: синтетический, вобравший в себя как традицию, так и влияния своего времени. Его мировоззрение продолжает корениться в мистике «Немецкой теологии» и
раннего Лютера[32]32
Примечательно совпадение смыслов и даже образов (змея, обновляющая кожу, протискивающаяся между двух камней; необходимость для человека «отчаяться» (verzagen) в себе самом, чтобы придти к вере; соблюдение внутренней субботы и т. д.), используемых Вайгелем в 37-й, ключевой, главе своей книги, с §§-ми 109-114, 131-132 проповеди Лютера на 3-й день Рождества Христова (Luther. Samtliche Schriften, В. 11, Kirchenpostille. Groft Oesingen, 1987, S. 193-196, 201). Вообще очевидно, что Вайгель, критикуя богословские и церковные взгляды Лютера, вполне является его последователем в духовно-мистическом отношении.
[Закрыть], к которой присоединяется ранее не звучавшее у Вайгеля обращение к «внутреннему слову», расширение понятия «оправдания» до включения в него живого нового рождения свыше и «замена» падшей телесности Адама на небесную телесность Христа. Такой «синтетический спиритуализм» позволяет Вайгелю вывести замечательную и очень верную формулу церковной сочетаемости внешнего и внутреннего: «внутреннее слово»
(непосредственное действие Духа Святого в человеке, основа всякого спиритуализма) поверяется и свидетельствуется «внешним словом» (Священным Писанием, которое содержится Церковью); внешнее же слово выражает и запечатлевает слово внутреннее-и всё это в единстве. Священное Писание (и всякая церковная «внешность») отображает внутреннее богообщение, а последнее проверяет свою истинность по тому, совпадает ли оно со Священным Писанием. Тем самым Вайгелю, как никому другому, удалось, на наш взгляд, показать «точку соприкосновения» мистической Церкви – Тела Христова, личного богообщения – и церковной институциональное™[33]33
Поясним, подытоживая уже многое, сказанное на эту тему, что под «институциональностью» мы понимаем миссию земной Церкви приобщать богообщению и создавать условия для жизни человека во Христе посредством исторически сложившихся традиционных форм проповеди слова Божия и преподания Таинств, богослужения, канонической церковной дисциплины ит. п.
[Закрыть], точку сочетания всякого внешнего и внутреннего в Церкви.
Яркость языка, богатство мысли, непосредственность и искренность размышлений над всеми э™ми важными и сложными вопросами делают трактат «О жизни Христовой» одним из наиболее интересных памятников не только вайгелевского творчества, но и раннепротестантской письменности вообще.
* * *
Написав «О жизни Христовой», излив на страницы этого трактата поглощавшие его размышления, Валентин Вайгель ничуть не успокоился, и в том же настроении стал составлять самый объёмный свой труд -сборник проповедей под заглавием «Церковная или домашняя постилла»[34]34
Постилла (Postille)-проповедь, посвящённая разъяснению и толкованию того или иного фрагмента из Священного Писания.
[Закрыть] (1578-1579). Само наименование уже указывает на полемичность этого произведения – оно явно претендует на противопоставление очень популярным и любимым в Лютеранской Церкви «Церковной» и «Домашней» постиллам Мартина Лютера. В отличие от проповедей незаконченного «Рукописного сборника» эти постиллы Вайгеля не были предназначены для произнесения с церковной кафедры; они явно писались «в стол», «для себя»[35]35
См. об этом в предисловии Хорста Пфефферля в: Valentin Weigel. SamtlicheSchriften, Band 12, Seite XXXVff, Stuttgart – Bad Cannstadt,2010.
[Закрыть]. Сборник охватывает все праздничные и воскресные дни церковного года, даже те (5-я и 6-я недели по Богоявлении, 27-я неделя по Троице), которые не встречались в церковном календаре ближайших лет (лишнее доказательство небогослужебного назначения этих проповедей). Вайгель продолжает здесь развивать веете темы, которые он поднял в трактате «О жизни Христовой».
В нашей книге мы помещаем открывающую сборник Проповедь на Первое воскресенье Адвента, перекликающуюся с 37-й главой «О жизни Христовой». Проповедь не лишена обличительное™: сюда относится и пассаж о том, как различно встречают люди Христа и антихриста, и посыл Христа «Я никого не принуждаю к вере», в противовес антихристу, который «умертвиттех, кто не последует ему; он прибегнет к насилию и будет принуждать всех к вере»; и обвинение уже и новозаветной церкви в том, что в ней происходит «великое обольщение и обман душ». Вайгель настаивает на том, что в Новом Завете храм Божий – это человек, а не рукотворенные церковные стены. Но всё же главное содержание этой постиллы не полемическое. Проповедь с чрезвычайной яркостью говорит о мистическом единении человека со Христом; и её ценность заключается в том, что Вайгель даёт здесь «для простецов» практические, от опыта, критерии этого единения.
Интересно, что, обращаясь к практике, Вайгель снижает свой полемический градус и становится гораздо более церковно-традиционным. «Итак, простецам необходима благая весть, им необходимо услышать и воспринять Слово Божие, дабы научились они познавать свою беду и нищету. И никто не должен пренебрегать этим внешним указанием пути, и Бог чрез Христа установил церковное служение слова; а где такого служения нет, там всё равно слово Его наличествует и стучит в дверь ко всем человекам». Эти строки хотя и отдают первое место «внутреннему слову», но всё же не отрицают и даже предполагают необходимым внешнее церковное служение. Вайгель явно продолжает поиски равновесия между внешним и внутренним, что составляет одну из основных тем «Диалога о христианстве», к рассмотрению которого мы и переходим.
* * *
«Диалог» – последнее и главное сочинение Валентина Вайгеля (написан в 1584 году). За продуманностью всех линий, за удивительным литературным мастерством этого выдающегося произведения скрывается трагедия. В «Диалоге» Вайгель всею силою своего философского ума и мистического чувства, как мы только что сказали, ищет «баланс», пытается разрешить церковные антиномии, избежать всяческих "и", утверждая лютеровские «soli». Надо сказать, что у Вайгеля не получилось этого сделать «в общем» – тема также «ускользнула» от него, как и от всех, кто пытался решать эту проблему[36]36
Здесь нужно отметить a propos, что цшопауский пастор, как и все церковные писатели, не избежал главного недостатка аскетически-назидательного жанра всех времён, а именно: возведения личного опыта в общую норму. Церковь шире дидактических определений: она задаёт русло богообщения и оставляет многое на свободу. Но каждый сподобившийся богообщения человек под влиянием силы и абсолютной (и одновременно субъективной – вот ещё одна антиномия Церкви!) истинности своего религиозно-мистического опыта считает, что – вот только так и никак иначе. Частности личного опыта богообщения мыслятся и дидактически преподносятся какобщие. Этим всетексты св. отцов и церковных писателей отличаются от Священного Писания. Священное Писание удивительным образом «подходит» всем; прочие церковно-назидательные сочинения отображают личный опыт их авторов и годятся далеко не для всех, и если кому и подходят, то только частично.
[Закрыть]. На уровне же личном поиски этого баланса привели Вайгеля к вещам с одной стороны блестящим и неоспоримым, если рассматривать их с точки зрения церковного индивидуализма, а с другой – горьким и трагичным, конец которых -смерть.
Почему смерть? Для этого нужно вернуться немного назад. «Диалогу о христианстве» предшествовал трактат 1582 года «О прощении грехов» (которое, по Вайгелю, совершается только изнутри, верою, никакого внешнего отпущения грехов не нужно-об этом уже говорилось в раннем трактате «Об истинной спасающей вере»). Одновременно цшопауский пастор не переставал размышлять и о проблемах познания, поднятых им в своей второй гносеологической работе «Золотой ключ к познанию» (1578), в которой он доказывал, что предмет познания находится не вне, а исключительно внутри нас (здесь – корень его влияния на немецкую и английскую идеалистическую философию). И именно вайгелевская гносеология приводит его к тому, что хотя он несколько и отступает от крайностей, высказанных им в трактате «О жизни Христовой», и оставляет за Таинствами и внешним слышанием Слова Божия некое место в Церкви, средоточие христианской жизни он уже окончательно и бесповоротно полагает внутри человека. Таким образом, в «Диалоге» Вайгель решительно постулирует церковный индивидуализм, церковную ответственность христианина только перед самим собой. «Поистине, это достойное всякого оплакивания бедствие-что мы можем иметь свои глаза, но добровольно позволяем выкалывать их; можем слушать своими собственными ушами внутреннего нашего человека, можем говорить своим собственным языком – но столь безумны мы и глупы, что без всякого внутреннего подтверждения и опыта принимаем человеческие книги и человеческие учения, верим сладким речам и всему тому, что пишут, говорят и представляют нам наши проповедники», пишет он. При этом (вот тут проявляется вайгелевский «баланс») такой индивидуализм – вовсе не «уход из Церкви». Внутреннее слышание, внутреннее причащение Христу, внутренне разрешение грехов, или, что то же, жизнь Христова (последование Христу), совлечение ветхого Адама и новое рождение во Христе (всё это – разные названия одного и того же: веры, по терминологии Вайгеля) -как раз признак того, что человек поистине принадлежит Единой Истиной Христовой Церкви. То есть «разинституционализация» вовсе не выводит человека за пределы Церкви, а наоборот, только и вводит его в неё, из ложных человеческих церквей-сообществ в единую истинную Церковь Божию, вне которой нет спасения.
Но здесь сразу возникает и оборотная сторона. Если первые работы Вайгеля, его проповеди и даже книга «О жизни Христовой» обращены ко всем – все должны совлечься ветхого Адама, до всех досязает предваряющая благодать и т. д., – то в «Диалоге» цшопауский пастор настаивает на крайней элитарности и единичности подлинного мистического опыта Невидимой Церкви. «Мало кто верует»; «мы не должны принимать что-либо как предмет веры только потому, что так веруют многие люди в мире, но что почитают истиной немногие», – пишет он. Этой индивидуалистической элитарностью Вайгель возводит человека на такие горные вершины духовного мира, где у него отнимается всякое утешение Таинствами и церковным руководством, то есть вводитегоуже прямо в одиночество веры Авраама, закалающего Исаака (Быт. 22,1-10). Церковность здесь заключается в том, что человек сам становится Церковью. Но это уже совсем «твёрдая пища», высшая и предельная ступень духовной жизни. Во всей истории Церкви мы найдём исключительно редкие аналоги этому– преп. Мария Египетская, например... может быть, ещё несколько имён. Такое поле высочайшего духовного напряжения, такие запредельные мистические требования (Вайгель, в конце концов, будучи верен себе, заставляет героя своего Диалога умирать как Христос, в богооставленности-то есть если уж последование Христу, то до самого конца, до уподобления Ему и в смертных мучениях), конечно же, не могут быть уделом большинства членов Церкви. Это – для единиц, которые, как писал преп. Исаак Сирин, едва ли рождаются более чем один на поколение[37]37
См.: Преподобного аввы Исаака Сирина Слова подвижнические. М., 1998,стр. 62; 104.
[Закрыть]... Всё это значит– решительный отказ (не разрешение антиномии, а именно отказ) от «общего», общинно-церковного и игнорирование того обстоятельства, что Церковь – для всех, что состоит она отнюдь не только из «гениев» духовной жизни. И это привело Вайгеля, как нам представляется, к весьма драматической ситуации. Принцип церковной антиномии, который он хотел преодолеть, снять, сбалансировать, «отомстил» за себя – пастор из Цшопау в «Диалоге о христианстве» неким образом «раздвоился» сам...
Диалог ведётся между двумя действующими лицами – Проповедником и Мирянином. Примечательно, что позицию самого Вайгеля выражает Мирянин, а все доводы, с которыми Вайгель решительно не согласен, исходят от Проповедника. Но ведь Вайгель сам был пастором, проповедником, это часть его жизни, это его служение, которое он добросовестно совершал до последних своих дней... Вайгель внутренне становится Мирянином, отсекает себя от своего сана, лишает его какой бы то ни было ценности, и даже более того – возвещает, что такое церковное служение является причиной всех зол на земле. Это крайне серьёзная, трагическая, катастрофическая церковная коллизия. Это не «раздвоение личности», отнюдь нет – примешивать сюда современные легковесные психологические объяснения у нас нет никакого права: Вайгель остаётся до конца самим собой – блестящим, цельным, уверенным в себе мыслителем, погружённым одновременно в мистическую внутреннюю жизнь во Иисусе Христе. Это именно пределы церковных антиномий, к которым подошёл и которые смог «ощупать» Вайгель – редкий, уникальный, но и трагический опыт для христианина, приближающегося к высотам духовной жизни. В конце концов, можно сказать, что если Лютер, оттолкнувшись от озарившего его опыта личного богообщения и начав Реформацию, затем, по мнению многих его оппонентов, «свернул с полдороги», – то Вайгель прошёл этим путём до конца, коснувшись каких-то предельных границ, каких-то «силовых линий», где сопрягается индивидуализм во Христе, Церковь как Тело Христово и церковь как богоустановленная и одновременно принадлежащая падшей земле институция... За такой опыт люди всегда очень дорого платят. Такой опыт невозможно описать человеческим языком, передать другим – он сродни опыту ветхозаветного Иова, непонятого своими внешнеправедными друзьями... И Вайгель, судя по всему, попал в ту же внутреннюю ситуацию. Поэтому в Диалоге появляется третье действующее лицо – Смерть, ибо только смерть может разрешить эту коллизию иснять все эти неразрешаемыеантиномии;поэтомуумираюти Проповедник, и Мирянин – именно потому, что человеческий опыт дошёл до тех пределов, дальше которых в сей жизни ему идти не полагается.
Может быть, поэтому Вайгель ничего больше и не написал. Может быть, поэтому он и умер через четыре года после написания Диалога в возрасте 55 лет.
* * *
Каково влияние Вайгеля на последующие поколения? Чем он важен и актуален для нас -людей XXI века?
Мы не будем говорить о заслугах Вайгеля в области философии и теории познания -это отдельная тема[38]38
Об этом см. Siegfried Wollgast. Philosophiein Deutschland zwischen Reformation und Aufklarung 1550 -1650. Berlin, 1988, S. 499-600.
[Закрыть]. В области же духовно-церковной его влияние было очень сильным, хотя не всегда обнаруживаемым: каждого, кто был склонен согласиться с Вайгелем, могли обвинить в ереси. Прежде всего нужно отметить, что Валентин Вайгель, на ряду с Себастьяном Кастеллио[39]39
Себастьян Кастеллио (1515-1563)-первоначально соратник Кальвина, ректор богословской школы в Женеве. Затем разошёлся с Кальвином во взглядах и с 1545 года преподавал в Базеле.
[Закрыть], был одним из первых мыслителей Европы, исповедавших принцип религиозной свободы, ненасилия и толерантности[40]40
См. Horst Pfefferl. ReligioseToleratz und Friedesidee bei Valentin Weigel. В журн.: Manuskripte, Thesen, Informationen. Herausgeben von Deutschen Bombastus-Gesellschaft, №25, 2007,S. 24-46.
[Закрыть]. Сильнейшее влияние оказал Вайгель на Иоганна Арндта – хотя последний по вышеназванной причине не афишировал это и даже написал отрицательный отзыв на «Диалог о христианстве»[41]41
Cm. Johann Arnds Gesammelte KleineSchriften. Leipzig u. Gorlitz, 1736,S. 589-591.
[Закрыть]. Арндт не принимал догматику Вайгеля; в вопросах же духовно-мистической практики Арндт многому у Вайгеля научился и был единомыслен с ним, что подтверждается перенесением в главный труд Арндта «Об истинном христианстве» трактата Вайгеля о молитве[42]42
Cm. Johann Arnd's sechs BQcher vom wahren Christentum. Basel, o. J. (die zweite Halftedes 19. Jahrhunderts). 2. Buch, 34. Kapitel, S. 323-340. Эта очень интересная тема – об отношении Арндта к Вайгелю, и как Арндт пытался скрыть и приуменьшить его влияние на себя – требует отдельного и подробного рассмотрения.
[Закрыть]. Через Иоганна Арндта, дополнившего умозрительное лютеранство живой духовной практикой и бывшего поэтому в XVII веке не менее читаемым, чем сам Лютер, опосредованное влияние Вайгеля сказалось на пиетистах, а через них– на ГерхардеТерстегене (который самого Вайгеля не читал, но почти по всем вопросам внутренней жизни с ним примечательным образом почти буквально совпадал)[43]43
Наиболее сильное, непосредственное влияние оказал Вайгель на Якоба Бёме, но поскольку мировоззрение последнего далеко выходит за собственно церковные рамки, мы не поднимаем здесь этот вопрос.
[Закрыть]. Эпоха Просвещения, Великая французская революция, критическая философия Канта, новое богословие Шлейермахера и т. д. в значительной степени изменили облик Лютеранской Церкви, отодвинув мистическую традицию протестантизма на самый задний план, и Вайгель оказался почти забыт. Но с 1864 года, когда вышла в свет первая на немецком языке объёмная вайгелевская биография Юлиуса Опеля, возрождается интерес к цшопаускому пастору и философу. Подлинный же «ренессанс» Вайгеля наступил в XX веке. В 1922 году был переиздан «Диалог о христианстве»; начались научные исследования текстов Вайгеля, связанные прежде всего с именем уже упоминавшегося нами марбургского учёного и пастора Винфрида Целлера (1911 – 1982). В 1960-х гг. Целлер начал издавать академическое Полное собрание сочинений Вайгеля; эту работу продолжил – и она уже близка к завершению-ученики сотрудник Целлера д-р Хорст Пфефферль.
Мысли и идеи Вайгеля могутоказаться сегодня весьма актуальными. Делов том, что именнов наше время, когда очевидным образом переформатировался традиционный уклад жизни, в прежние времена охранявший церковные устои, многие христиане в своей внутренней жизни столкнулись с проблемой расцерковления – когда человек в процессе своего духовного роста доходит до границ внешней наличной церковности и исчерпывает её. Поскольку нынешняя церковная педагогика не предлагает таким христианам дальнейшей «методологии возрастания», многие христиане отходят от Церкви. Через пятьсот лет после того, как эта проблема встала перед Западной Церковью, она начинает выявляться и у нас. И здесь Вайгель может стать неким духовным ориентиром. Расцерковление – то, с чего мы начали свои размышления о Реформации: главный её внутренний импульс – когда внешняя церковность перестаёт «питать» повзрослевшего христианина. Вайгель решает эту проблему совсем иначе, чем Лютер и другие реформаторы – без каких бы то ни было внешних революций и реформаций, без разрушения наличного церковного уклада и т. п. Вайгель предлагает христианину начать смотреть на всё собственными глазами, слышать собственными ушами, то есть осознать своё «повзросление», стать честным перед самим собою, полностью принять на себя свою церковную за себя ответственность пред Богом и обратиться вовнутрь. «Нашей душе предлежит долгий путь – от плоти к внутреннему человеку, от буквы – к духу»[44]44
Из Проповеди 1764 г. на Богоявление. Цит. по: Winfried Zeller. Der feme Weg des Geistes. Zur WQrdigung Valentin Weigels. В кн.: Winfried Zeller.Theologie und Frommigkeit, B. 2. Marburg, 1978, S. 89.
[Закрыть] – это, можно сказать, девиз «всего Вайгеля». И тогда «расцерковление» приводит к подлинной церковности: Церковь с этого только начинается. Именно здесь, после «verzagen» своего «расцерковления», христианин приходит к постижению того, что есть подлинная вера – всецелая жизнь во Христе, всецелое последование Христу. И в свете вхождения человека верою во внутренней своей жизни в небесную Церковь Божию выстраивается для него и вся внешняя, институциональная церковность. Истинная вера не требует перехода из деноминации в деноминацию в поисках «лучшей», «более правильной» Церкви. Не нуждается она в реформах и сломе внешнего уклада наличной церковной жизни. Ей не нужно выпячивание себя, какое-то особое выявление себя вовне. Она не гонится за сторонниками и последователями. В этой небесной Церкви, она же вера, она же внутренняя жизнь во Христе, человек Святым Духом познаёт Божию истину– Господа нашего Иисуса Христа, и эта истина делаетего свободным – в рамках той внешней церковности, которая есть. И это, как нам представляется, необыкновенно ценно и практически очень важно для наших дней.
Книжка
Об истинной спасающей вере
как Адаму в нас надлежит прейти и умереть, Христу же – воскреснуть и жить
Преподобному, достопочтенному, высокоучёному господину Георгу Лангевойту,доктору Священного Писания, Суперинтенданту в
Иемнице
магистр Валентин Вайгель
спасительного познания во Христе Иисусе всячески
желает.
Усердно и обстоятельно рассматривая причины творения, мы находим, что человек предназначен к тому, чтобы быть единым с Богом, в Боге и у Бога. Он должен быть Божьим и не принадлежать самому себе. Бог изволит действовать в человеке, с человеком и посредством человека, творя, созидая и совершая всё чрез него. Человек же должен полностью предоставить себя таковому действию Божию, не приписывая его себе и не считая, что это его собственное действие, или что он принадлежитсамому себе. В основании нашей веры лежитто, что Бог Сам восхотел бытьчеловеком - всем во всём (1 Кор. 12, 16) – в Сыне Своём Иисусе Христе, ясно явив и показав, что Он всецело в Сыне и Сын всецело с Ним (Ин. 14, 20; 17, 21). И мы должны быть Его сынами, чадами Божиими, совершенными, как Небесный Отец (Мф. 5, 48) – каковое совершенство откроется тогда, во оной жизни (1 Ин. 3, 2), когда Бог будет всяческая во всех1 (1 Кор. 15, 28)[45]45
Переводчик употребляет цитирование церковно-славянского текста Священного Писания наряду с русским Синодальным переводом в зависимости от тех или иных, в том числе и стилистических, обстоятельств.
[Закрыть] [46]46
Точное цитирование Св. Писания Вайгелем выделяется полужирным курсивом. Неточное цитирование – курсивом. Парафраз – обыкновенный текст с отсылкой к соответствующему месту Священного Писания. Указания библейских ссылок, принадлежащие Вайгелю и находящиеся непосредственно в его тексте (сам Вайгель указывал только главы, без стихов), выделены полужирным шрифтом.
[Закрыть].
Когда Адам был ещё Божий (Лк. 3, 38) и не принадлежал самому себе, то есть Бог Сам был ещё всем в человеке[47]47
...Gott noch selber war der Mensch im Menschen... Буквально: ...Бог ещё Сам был человеком в человеке...
[Закрыть] (как тому и подобало быть), то заповедал ему Бог, чтобы он пребывал в Нём, как в своём средоточии, дабы сохранять емужизнь и блаженство, и не вкушал от древа познания добра и зла, дабы чрез сие не пасть ему в смерть и погибель. Но обманом коварного змия человек возжелал вкусить от сего древа. Это желание произвело грех, а грех – смерть (Иак. 1, 15), так что чрез вкушение запретного плода отвратился Адам от Бога к себе самому и стал не Божиим, а своим собственным. Ибо по совету змия восхотел он принадлежать самому себе, как Бог, жить для самого себя, как Бог, иметь радость в самом себе, как Бог, любить, искать и обретать самого себя etc. Но это значит-Quissicut Deus[48]48
В тексте: „АЬег es heiBet Michael, Quis sicut Deus, Wer ist wie Gott?" Лакуна в рукописи оставлена для написания имени «Михаил» на иврите. Так как к Архангелу Михаилу данное место не имеет отношения, a Michael даётся как еврейский эквивалент латинского и немецкого выражения, переводчик в целях ясности не стал вносить слово «Михаил» в основной текст.О ТОМ, ЧТО В ПРОПОВЕДЯХ ПОДОБАЕТ ГОВОРИТЬ О ДВУХ ВЕЩАХ Поскольку не только проповеднику для его служения, но и простым людям весьма желательно и полезно представлять себе основы христианской веры в кратком и правильном изложении, то да усердствует всякий проповедник по силам своим, чуждаясь бессмысленного многословия, указывать в своих проповедях всем понятными апостольскими словами на два предмета, а именно: на покаяние и оставление грехов, то есть на Закон, и на Евангелие; на Адама, ветхого человека, и на Христа, нового человека. Ибо если с прилежанием и обстоятельностью рассмотреть и обдумать основание всех пророческих иапостольских писаний,то с очевидностью обнаружится, что всё наше учение и все проповеди – и более того, вся наша жизнь – должны быть направлены и приведены к тому, чтобы чрез познание Закона мы смогли познать самих себя, и чрез Евангелие принять Христа; и принять Его не только как дар, но как образ, то есть: как Адаму, ветхому человеку, надлежит в нас умереть и прейти, и как новый человек в нас – и отнюдь не вне нас – должен восстать, жить и царствовать, что, собственно, все мы и обещали Богу при Крещении.
[Закрыть], кто, как Бог? Кто может принадлежать самому себе, как Бог? Никто, ни одно из творений.
И поскольку Адам чрез сие падение и отвращение от Бога ниспал к самому себе, возлюбил, взыскал и нашёл самого себя и в своих мыслях стал как нечто, как самоценное, то пришёл Христос, Семя Жены, и учил противоположному – что нужно вернуться к Богу (каковое возвращение именуется покаянием или обращением в вере), и говорил: отпади от себя самого, возненавидь себя самого, обратись и стань как дитя, погуби свою душу и умри себе самому, стань чрез сие самоумирание во
Мне совсем ничем – и тогда обрящешьты жизнь и спасение и подлинно родишься во Мне верою, как паки рождённое из Бога новое творение, чадо Божие и Мой сонаследник.
Посему во всё время нашей жизни мы должны со всякою старательностью учиться и познавать, как ветхий человек, природный Адам, становится новым и вышеестественным, то есть как сей новый человек паки зачинается в нас от Бога, рождается, приносится со Христом в жертву – принимает обрезание, крестится, распинается, умерщвляется и погребается, и затем воскресает во Христе для того, чтобы ходить в обновлённой жизни (Рим. 6, 4), здесь, на земле – в вере, а там – в совершенном видении (2 Кор. 5, 7).
Поскольку же это так, и не может быть иначе, и Сам Первородный (Евр. 1, 6) среди всех верующих говорит: так надлежало пострадать Христу, [и воскреснуть из мёртвых в третий день], и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов (Лк. 22, 46-47), – то, насколько это для меня возможно, я в своих проповедях всячески усердствую обращать внимание прихожан на две вещи, а именно: на познание греха из Закона и на благодать во Христе, особенно же на то, чтобы насаждена была истинная вера, из которой затем, в свою очередь, проистекают добрые, и отнюдь не подневольные, дела, кои являются истинным свидетельством веры и плодами доброго дерева (Мф. 7,16-20), равно как итого, что Адам в нас изо дня в день умерщвляется и приносится в жертву, сораспинается и спогребается со Христом, новый же человек воскресает от ветхого хождения во грехе к обновлённой жизни. Но поскольку я говорю обо всём этом не самоизмышлёнными словесами и не благоуветливою речью, также не задерживаюсь на внешней шелухе, но точнейшим образом указываю на внутреннее основание простыми и понятными апостольскими изречениями и выражениями,-то нашлись некоторые, судящие от незрелого своего рассудка и охуждающие то или иное в моих проповедях (тем самым обличая самих себя, что они суть), создавая мне чрез сие сомнительное имя пред теми, кто не имеет возможности слушать меня.
По сей причине я был вынужден воспомянуть все свои проповеди, кои я произносил доселе и произношу ныне, суммировать содержание их с Божиею помощью в краткий компендиум и предложить и предъявить оный Вашему досточтимому Преподобию как моему возлюбленному Суперинтенданту и Инспектору, усердно прося Ваше Преподобие принять его от меня наиблагосклоннейшим образом и способствовать восторжествованию истины во Христе. Засим предаю Ваше досточтимое Преподобие купно с Вашею супругою и чадами покрову и заступлению Божию.
Цшопау, 22 августа 1572 года.