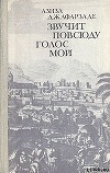Текст книги "Его-Моя биография Великого Футуриста"
Автор книги: Василий Каменский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Дебют
Дернулся в Пермь – взволнованный, задыхался от неуменья рассказать, как видел море.
Снова началась нелепая служба.
Мои славные товарищи Саша Реутов, Коля Мусатов острили надо мной, замечая мою нездешность и полное нераденье к делу.
Начал печатать статейки в пермском крае.
На лето переехал я на дачу – в деревню Васильевку – здесь близко познакомился с известными тогда и теперь в Перми светлыми политическими деятелями: П. Я. Матвеевым, Засулич, Каменевым, Бусыгиным – все они служили тоже в службе движенья
П. Д. Матвеев – популярный демократ – не раз пострадавший – оказал мне много духовной помощи в смысле политического сознанья свободного гражданина.
В Васильевке я с студентом Ионой начали издавать рукописную газету – где Поэт поместил Свои гражданские рассказы.
Но больше я увлекся основавшимся театром в Васильевке: стал играть главные роли простаков.
А осенью в Перми отправился к режиссеру в городской театр и безплатно предложил свои услуги последняго актера.
Для перваго дебюта меня одели толсто кучером, намазали, парикмахер клейко приклеил бороду и меня отослали кверху на колосники в мастерскую декоратора – пока непозовут на выход.
Я терпеливо ждал часа два, вспотел, устал, вдруг стали тушить электричество – я бросился в темноте книзу, путаясь в кучерском одеяньи – оказалось, что спектакль кончился, а про меня забыли.
Собравшись уходить домой парикмахер с остервененьем сорвал с меня бороду так, что неделю из моих глаз сыпались искры, как из паровозной трубы.
Другие выходы были удачнее и сезон кончился тем, что я решил серьезно поступить на сцену – от службы отказался
Под покровительством актера Н. Помпа-Лирскаго (из зимней труппы Никулина) весной я переехал в Москву – в театральное бюро – предварительно вручив Помпа-Лирскому все сбереженья пенсионной кассы в 350 рублей – взаймы (с явной без отдачей).
Дальше.
В Актерах
В Москве я вступил членом театрального бюро под псевдонимом Васильковский.
Помпа-Лирский устроил меня на зимний сезон к Леонову в Тамбов на вторые роли, а на лето предложил мне служить у него в товариществе на марках.
Я ясно непонимал, что это за марки такие, однако рыцарски согласился,
Мы – артисты – человек двадцать выехали во главе с Помпа-Лирским в Новызыбков, Черниговской губернии.
Имя актера Васильковского появилось в афишах – я возгордился.
Заказал визитные карточки, ходил в убийственном рыжем костюме или в сюртуке, брови, глаза подводил, носил много брелоков, колец, гулял на публике.
Отчаянно нравился евреечкам – гимназисткам – они кричали мило:
– Ай шейне, ай мишигинэ копф.
Играл хорошие роли и был вроде управляющего – составлял афиши, программы.
Брал разрешенья.
Сначало дела шли гладко.
Летний театр в саду слегка наполнялся.
Актеры: Цветков, Травин, Юматов, Гурко, Качурин, Помпа-Лирский, я – Васильковский, – пользовались успехом.
А как пошли дожди – все провалилось.
Никаких марок нестало – делить нечего и есть-пить нечего.
Начались скандалы.
Целый день – солнце, а как вечер – перед спектаклем – проливной дождь.
В один из таких дождливых вечеров перед немного собравшейся публикой мы – почти все артисты – уже загримированные – залезли в оркестр, схватили кто какие попало инструменты и под дирижерством Помпа-Лирскаго стали играть марш.
Во истину это было торжество какофонии – с горя да досады.
Я бил сумасшедше в барабан.
Публика спрашивала:
– Ну и что это значит
Потом труппа разделилась на две части и одна – верная Помпе-Лирскому – к которому принадлежал я – решила ехать в Клинцы и Стародуб.
Перед отъездом мы – обе части учинили драку из-за театрального имущества и стали лупить друг друга корневищами с землей (выдергивали из огородов) от подсолнечников по башкам.
Помпа-Лирский вскочил на извозчика и размахивая палкой обратился к публике вокруг:
– Православные христиане.
Речь успеха неимела.
Помпа-Лирский забыл, что нас окружало еврейское населенье.
Всех посадили в участок в одну кутузку – на нары: тут мы примирились
В Клинцах и Стародубе дела поправились.
На Зимний сезон я уехал служить в антрепризу Леонова в Тамбов.
Там дело было солидное, серьезное.
Из талантливых помню: П. И. Чардынина, Аксагарского, Соколова, Новского, Славянову, Аненскую, Мравина, Неметти.
П. И. Чардынина вспоминаю особенно благодарно: он писал въ газетах и производил культурное впечатленье.
В Тамбове с другом Новским увлеклись водочкой и впервые по земному женщинами.
Но то и другое скоро бросили: стало противно.
Я всегда предпочитал иное опьяненье, иные соблазны.
Восходяще во мне Поэт в пламенных фантазиях заклинал меня оставить актерство – эту бутафорскую жизнь, уехать куда нибудь далеко в горы, к морю, к весенним возможностям, к песням, к чудесам во славу расцветной молодости.
Хотелось жить легендой.
Затеять рыцарское
Совершить что нибудь удивительное, большое, вольнотворческое – дальше.
Ведь вся жизнь была в моей воле – в моих руках – в моих силах – надо только было неошибиться, непропасть, незгинуть зря.
Приближалась весна – кончался сезон.
Уехал в Москву.
Наташа
К Апрелю (1902) все мы – артисты труппы Дарьяловой, законтрактованные в Театральном Бюро, из Москвы съехались в Севастополь.
Из товарищей помню талантливыхъ: Тамарова Мишу [ныне часто выступает на экране]. Ватина, Яновскаго [внука Гоголя], яркую М. Юрьеву.
Я – под своим псевдонимом – Васильковский.
Дело провалилось.
Приехал знаменитый М. М. Петипа на гастроли – неспас, запировал, уехалъ: на что мы ему.
Труппа стала голодать.
Среди малочисленной публики в ложе гимназисток я начал замечать одну – неземную, с глазами будто друга, и узналъ, что ее зовутъ Наташей Гольденберг.
К маю труппа разъехалась.
Я один остался, полюбивший в первый раз рыцарски беззаветно, огненно, священно.
Я даже не смел подумать как нибудь подойти познакомиться: этого хотел Поэт.
Он в пламенно-юношеских мечтах вознес Наташу на нездешнюю высоту любви и стал писать повесть – в форме дневника – под заглавьем Наташа Севастопольская.
Глаза мая на море цвели бирюзовно до изумрудности.
Он проводил дни на приморском бульваре у самой воды на камнях – на солнце.
Лениво кричали качаясь чайки.
Корабли проходили виденьями важно-безшумно.
Где-то в порту громыхало железо.
Около играли дети, бросали в воду.
Поэт жил стихами – повестью о любви.
Вечером на бульваре – симфонический, Наташа, возможность познакомиться.
А я так жить не мог: мне нужны стали деньги, заработок.
Я нашел два великолепных урока – у директора банка Ф. А. Таци [занимался с гимназистом Костей] и у купца Д. Сотскова [с мальчиком Алешей и институткой Женей – по русскому – теория словесности] – эти две семьи отнеслись ко мне дружески светло и тепло.
После актерской голодовки я ожил, поправился, повеселел, разошелся, прифрантился.
Нашел еще урок – и зажил во всю колокольню.
И так широко, что Поэт согласился написать Наташе единственное большое письмо, полное земных желаний познакомиться ближе.
Я верил искренно в успех и ждал дружеского ответа: ведь она при встречах улыбалась радостно, призывно, обещающе.
Однако ничего Наташа неответила: какое ей дело до любви Его и моей.
С актером Васильковским в рыжем пальто вероятно шокингом считалось знакомиться благородным девушкам.
Стыдно стало за большее письмо к Наташе – Поэту и мне.
И нестерпимо больно встречать ее гордую.
Но Поэт неосуждал – Он только отчаянно загрустил, да такъ загрустил, что целые Ночи напролет просиживалъ в ночных турецких кофейнях за чорным кофе и плакал горячо, глубинно, одиноко.
А на рассвете ходил мимо дома ее и мученски страдая спрашивал:
– За что.
Он перестал писать повесть о любви.
Однако встречи с Наташей остро волновали – Ему еще верилось в ответность – Он ждал, горел, любил.
Напрасно.
Капитан торгового корабля – сыну которого я давал уроки – предложил мне на рейс прокатиться в Турцию, по берегам в Трапезунд и Константинополь.
Поэт встрепенулся – я бросилъ уроки.
Корабль вместе с товарами увез печаль Его к босфорским берегам.
Трапезунд встретил путешественника грозным штормом, отчаянной качкой, воем сирен, зато Константинопольский пролив успокоил небесным покоем, сказочной красотой приветного слиянья двух морей.
Константинополь с семью стами мечетей и величественной гаванью Золотого Рога, с карабельными верфями и чудом византийского искусства – Ая София с ярчайшей пестротой восточных народов, мечетью Солимана, Перой, Далма-Бахче, Кадикной, Галатой, огромным ковровошелковым базаром, кофейнами – произвел на Поэта впечатленье волшебства.
Опьяненный Поэт закружился в улицах, втол-пилсявбазар, перекочевывал из кофейни в кофейню наблюдая народ.
Он забылся в увлеченьи.
Нехотелось оставлять Константинополь, а было надо: уходил корабль в Россию и приближался срок актерского контракта с Кременчугом.
Возвращенье и Севастополь показалось скучным: слишком много сердечной обиды оставалось тут.
Дальше.
Я уехал в Кременчуг.
И там на пескахъ осеннчго Днепра ждалъ начала сезона у Филипповскаго.
Смена товарищей: Гурко, Б. Светловъ, Ф. Я. Яковлева, Родюков, Скуратов, Вельский, – развлекала меня от крымской грусти.
Я сильно скучал по Наташе.
Поэт видел ее во снах, во встречах с другими.
Моя большая работа над актерством скоро меня ярко выдвинула – мне очень повезло и молодежь – особенно гимназистки – горячо полюбили меня и бурно принимали.
По окончаньи сезона весной я укатил в Николаев, в гости к Илюше Грицаеву, у отца которого была контора похоронных процессий.
В интересах удобства проказ (шлялись ночами по кабачкам) мы изъявили охоту спать в складе гробов.
Илюша выбрал мне (склад завален – кроватей не было) дорогой в 125 рублей дубовый гроб и мне пришлось спать на мелких стружках в гробу на коленкоровой подушке, в отдельной комнате.
Себе Илюша выбрал металлический гроб в 90 р.
Первыя ночи спать с непривычки в гробу среди кучи гробов было жутко, а потом привык – что делать – зато пировали.
Один раз меня послали обмерять старушку-покойницу.
В Николаев на Пасху приехала в театр труппа ныне знаменитого Вс. Э. Мейерхольда.
Я устроился служить у него.
И Мейерхольд первый за все время моей актерской карьеры поразил меня своей интеллигентностью, культурой, вкусом, духовным обаяньем, темпераментом
По скромности и опыту я даже непредполагал, что режиссером может быть такой порядочный и культурный человек.
Удин раз Мейерхольд сорганизовал вечер поэзии шумевших тогда декадентов – В. Брюсова, Сологуба, Бальмонта, В. Иванова, Блока, Андрея Белого, Кузьмина и назвал вечер – Литургия Красоты (в сукнах, со свечами, аналоем).
После этого вечера стихов Поэт мне особенно громко крикнул:
Дальше от актерства.
Я был побежден и совершенно покинул театр пошлой драмы жалкого провинциализма, театр, которой я наивно идеализировал и который был только союзом любителей-неудачников драматическаго искусства, – обществом забавной борьбы за существованье.
И только забавной.
Отдельные таланты гибли, таяли в удушливых ядах всеактерской бездарщины.
Я уехал в Пармь обрадовать родных, что бросил к чертям сцену.
Дальше.
1905-й
Заводский уральский городъ чугуна, медной руды и золота – Нижний Тагил приютил меня таксировкой в товарную контору станции на 30 руб. в месяц.
Я служил с 6 час. утра – до 6-ти вечера.
В конторе среди сослуживцев было трое сильно чахоточных, постоянно кашляющих.
Один говорил топотом.
Забитость, рабское молчанье, тяжкий труд, нищенская жизнь, сыск начальника станции Кузнецова, кроткие, безропотные товарищи – сделали меня борцом за светлую долю.
Тайно я вступил в партию социалистов-революционеров среди рабочих завода и железнодорожных мастерских.
Чтобы увеличить влиянье и заработок я начал сотрудничать в екатеринбургских газетах – Уральская жизнь и Урал
Стихи и некоторые статьи подписывал – Василий Каменский.
Поэт был настроен граждански.
Сотрудничество в газетах – на службе и в партии принесло мне популярность.
Я начал выступать на литературных вечерах завода – в клубе.
С учащимися, чаще с рабочими, иногда с сослуживцами организовывал лесные прогулки, маевки, рыбалки и там – на свободе – пели революционные песни, говорили о необходимости борьбы за идеи человечества.
Я пробовал говорить речи, учился держать себя убежденно, твердо.
Мне очень всегда хотелось жить оратором.
Нехватало эрудиции, размаха культуры.
Я волновался, стеснялся, стыдился.
А товарищи поддерживали страстно.
Горы прочитанных книг помогали мало.
Небыло образованья, учености, все кругом брал интуицией, стихийностью, чутьем и многие считали меня необыкновенным, удивительным, оригинальным.
И все любили, баловали меня исключительным вниманием за искренность, доброту, товарищеское сердце, вольность.
Иные же – с кем толковал о революции (в лесу) – относились с великим внутренним уваженьем, преданностью.
Весной (1905) чуть непропал в земской больнице от дефтерита острой формы.
Осенью вспыхнула первая российская революция.
Я весь, всей головой отдался освободительному движенью.
После 17 октября я начал открыто энергично действовать.
Митинги, собранья, резолюции.
Захват станции, поездов, телеграфа.
Меня избирают депутатом в Пермь на съезд всех депутатов железной дороги.
Вернувшегося меня избирают в исполнительный забастовочный комитет (огромный район станций и мастерских) Председателем Депутатов.
Мои политические речи действуют гипнотически, энтузиазно, огненно.
Товарищи меня качают, идут в бой, клянутся умереть за свободу, поют песни.
Я проповедую полною автономию Нижняго Тагила на время революции, я сливаю всех с заводскими рабочими в единую семью, целые дни и ночи ораторствую на заводе.
И вдруг – черная пасть контр-революции – Петербург спасовал.
Царский террор в разгаре.
Разстреливают, бьют, арестуют.
Полиция взялась зверски.
Меня ночью хватают врасплох и бросают в тюрьму.
Через два дня народ штурмом берет мое освобожденье и товарищей.
Несут по улицам на руках с песнями.
Еще некоторое время скрываюсь в квартире машиниста.
Потом находят, хватают и под усиленным конвоем увозят вглухю, но огромную Николаевскою тюрьму Верхотурскаго уезда.
Дорогой я пытаюсь уговорить конвойных и жандармов дать мне возможность сбежать – напрасно.
Ну что-ж.
Дальше.
В одиночке
Тюрьма.
Январь 1906.
Реакция – чорный террор – царизм.
Николаевская тюрьма (Верхотурскаго у-около Нижней Туры) знаменита уголовными и политическими знаменитостями.
Там побывали многие из теперь здравствующих во славу Свободы.
Меня замуровали в одиночную камеру № 16 – все одиночки в подвале, глухие, узкие, с маленькими высоко оконцами, с привинченными к стене койками, в углах параши.
Начальники – зверье – палачи.
Надзиратели – собаки цепные.
Истинная кровопийственная николаевщина.
Арестантов бьют по лицу палками, шашками плашмя, карцеры заполнены, в канцелярии тюрьмы большой царский портрет.
И вот в такой обстановке потянулись дни вечности.
Кормят отвратительно, гулять по дворику отпускают 6 минут в день.
Мысли в больной голове заживопогребеннаго, забытаго.
А еще так недавно верилось в подобное шествие революции.
И свежи были в снах светлые голоса товарищей рабочих, говорящих свято-призывно.
Пробужденье под звонок в 5 ч. утра угнетало,
Еще ведь 3 часа горели лампы до света.
Шли недели, а потом и месяцы.
Смутные известия с воли рисовали картину чорного пира палачей среди висилиц.
Реакция торжествовала.
Подходила весна – март.
У меня выросла большая рыжая борода.
Иногда я делал гимнастику.
Появились вновь арестованные и с ними книги: Маркс, Каутские, Луначарский, Чернов, Пешехонов, Герцен, Крапоткин.
Все эти книги мне передавались хитростями на улице в снегу и даже газеты.
Я зачитывался.
Стал усердно изучать французский и делал переводы: матерьял был с собой.
В апреле на пасхе меня посетили – сестра Маруся и тетя Саша – свиданье длилось 15 минут.
Потом прилетели птицы – принесли тепло, песни
Поэт вдруг всколыхнулся, посветлел, ожил, расправился.
Будто Он почуял Волю: начал писать стихи.
Привезли в тюрьму еще кого —
Снег от солнца растает —
Развейся судьба алошелково
Все равно Весна расцветает.
Давайте в небо взглянем
Довольно святой кротости
Эй рабочие – крестьяне
Бунтуйте во имя Молодости.
Мне тоже хотелось верить в освобожденье, но причин небыло.
Однако прошел и Апрель. Поэт неунывал – писал стихи. Я же стал нервничать: май слишком был май и нехотелось сидеть.
В средних числах вдруг по всей тюрьме среди политических объявили голодовку товарищескую.
Начали голодать – день, два, три.
Это был протест против избиенья в одиночке крестьянина – депутата администрацией.
Голодать было трудно первый день и второй а потом ничего.
Больные лекарства выбросили.
Наехали власти из Перми.
И тогда многих освободили и в том числе меня, но с обязательством постояннаго надзора полиции и невыезда из Нижняго-Тагила: меня освидетельствовали и признали здоровье скверным – поэтому только уволили.
Я дал массу всяких подписок о невыезде (в тюрьме), а как только доехал под надзором до Н-Тагила – то ночью же ловко скрылся в товарный поезд до Перми.
Там на пароход и укатил в Крым – в родной Севастополь – дальше.
Через неделю тюрьма казалась идиотским сном, кошмарной черной болезнью.
Будто я сорвался с висилицы.
Поэт сиял и прыгал на берегу моря.
Пестрая судьба
Снова майское море, ленивые под солнцем чайки, корабли, дельфины, высокий воздух, ялики.
Снова я на берегу приморского бульвара, на камнях.
Набираюсь приливного света – здоровья, а здоровье сильно убавилось.
Внушаю себе декоративные радости, преувеличиваю красоту.
Прохожу мимо пустого дома Наташи – их нет – давно уехали совсем.
И все стало не то – чужое, одинокое.
Схожусь с флотскими революционерами.
Дружу с лейтенантом А. Кусковым, другом лейтенанта Шмидта.
А. Кусков – уже исключенный от службы – накануне ссылки в Сибирь.
Мечтаю о поездке в Константинополь еще раз и Кусков устраивает у знакомого капитана торгового корабля.
Снова Константинополь.
Корабль стоит 4 дня в гавани и я успеваю по по прежнему восторгаться византийским очарованьем, фескоголовой, яркоцветной толпой, встречаю на базаре семейство диких, одежды которых растенья, а у девочки на груди пустой кокосовый орех и там живет змея.
Из кофейни в кофейню перебегаю: всюду масса интересного.
Покупаю кальян старинный эмалево-стеклянный с кожаной кишкой – на память.
Капитану нравится, что я умею писать стихи и хорошо читаю.
Он устраивает мне торговую поездку в Персию – в Тавриз – Тегеран за шолком.
Еду туда – в царство ковров.
И вижу дивные реки Джагату и Аджи-чай, озеро Урмию, караваны верблюдов.
Встречаюсь с Персидскими революционерами меджелиса.
Покупаю в Тегеране на базаре несколько старинных вещей на память.
Возвращаюсь Каспийским морем, Волгой до Нижняго Новгорода – дальше.
Оттуда в Петербург.
Месяц готовлюсь к экзамену на аттестат зрелости, сдаю в василеостровской гимназии, поступаю на высшие сельскохозяйственные курсы и одновременно слушаю лекции в университете, на естественном.
Курсы основали профессора университета (Адамов, Каракаш) и здесь работали пожалуй интенсивнее.
Студенты курсов выбрали меня от эсеров старшиной.
А в девятой аудитории университета по вечерам партийные дела.
Началась студенческая жизнь.
Мои богатые двоюродные братья Александр Петрович и Петр Петрович Каменские и – после – Марья Викторовна Вабинцева (Из Перми, сестра Августы – впоследствии жены) – слегка помогали.
На курсах дружу с товарищами Колей Косач и его сестрой Марусей.
Потом и вся семья Косач – еще Петя, Вера и врач – генерал – все становятся друзьями: здесь я провожу лучшее время, живу светло, культурно, радостно.
Маруся кончала филологический, чутко была подготовлена к новой литературе и несомненно влияла на мое самолюбие печатающего Поэта в истинную сторону.
Я полюбил Марусю.
Мы стали кристальными друзьями.
В неразлучности духовной и земной дружбы, мы обрели право называться сильными детьми своей вольной Современности, мы без берегов радовались приливающим дням во имя своего гордого сознанья культурности
Грядущее обещало нам победное торжество.
Нас закалял в борьбе царящий тогда чорный террор – мы много работали, учились.
На все лето я уехал в Московский уезд, в экономию Карамышево вместе со всеми студентами на практические занятья по агрономии.
Там мы создали студенческую коммуну, много занимались: слушали лекции, работали с микроскопом по анатомии растений, группами ходили с профессорами по лугам и лесам, собирая насекомых, червей, паразитов, изучая на месте флору и фауну.
С профессором лесного института Сукачевым мы ходили в дальние экскурсии на озера для общого исследованья.
Сами вели огромное молочное хозяйство экономии, доили, наблюдали, практиковались.
В конце лета зачета ради желающим были даны разные участки для самостоятельного исследования флоры и фауны – по составу которых должно было определить прошлое, настоящее и будущее данного куска земли – и представить диссертацию.
Мне дали большой лесной холм, заросший по краям смешанными деревьями, а – в средине высокими соснами.
Осенью я с успехом сдал свою диссертацию – знаменитый профессор Сукачев, искренно меня поблагодарил за работу.
Я определил, что в историческом прошлом жизни земли – в четвертичном периоде (пост плиоцен) образовал дюну ветронаносным песком.
Было разобрано поступательное движенье этой дюны до настоящего дня.
Под соснами оказался здоровый еловый подрост, который указывал мне что через 15–20 лет вся сосновая роща исчезнет и ее заменит еловый лес до новой смены – лиственной.
Жизнь леса я изучал с такой любовно что построил себе землянку в роще и жил, иногда ночуя на кронах сосен, где я устроил себе колыбель, вспоминая жизнь предков, живших на деревьях.
Зимой я учился дальше.
Начал занимался живописью.
По прежнему дружил с семьей Косач ставшей родной, своей, дружеской.
В январе отношенья с Марусей как то вдруг неожиданно для меня изменились – и до сих пор я не знаю причины разрыва – мы странно расстались.
Я без границ горевал.
Мне невезло в идеальной любви, а Поэт был настроен идеально.
Я чувствовал какое то несоответствие между мной – человеком реальности и Им, ищущим нездешняго блаженства.
В чем то таилась глубокая ошибка, нелепость.
Но сильный и свободный орел – Я не хотел навязываться на исправленье отношений принципиально – тем более, что нечувствовал за собой вины никакой.
Я оставил любимую гордо.
И всю свою печаль неизбывную, всю нестерпимую боль разлуки, все силы любви я отдал Поэту во имя Искусства.
До самозабвенья, до фанатизма, до экстаза грустинный Поэт, отдался Своей поэзии – скорбной, но гордой, как Он.
Так одиноко кричит лебедь, если вдруг потеряет подругу свою снежнокрылую.
Загрустили луга
Озимые поля
Осеннее небо, земля —
Листины
Травины
Цвети мы
Ветвины
Чистейшие слезы —
Святые росины —
Всем жалко лебедя.
(Девушка босиком)
Поэт целые дни сидел в своей комнате (на петербургской, стороне) и писал стихи, поэмии.
Только милая хозяйка квартиры Ольга Ивановна да ее дочь Лида иногда развлекали Поэта музыкой за вечерним чаем.
Весной я прочитал (под влияньем товарищей) на курсах первую лекцию Проблемы Пола и Отто Вейнингер.
Весной же из газет я узнал об организации известным Шебуевым альманаха – Весна.
Я показал свои вещи – Шебуев сразу встретил меня чутко, широко, культурно.
Он мне предложил секретарствовать – помочь редактировать обильный матерьял стихов и прозы
Альманах Весна вышел Красиным изданьем альбомного формата с рисунками талантливого Ив. Грабовского, но содержимое – слабо, бледно, неуверенно.
На лето (с расшатанным здоровьем) я уехал к спасительным берегам Чорного моря.
Поселился жить в Балаклаве, а потом переехал в Георгиевский монастырь: там работал под руководством художника Цветкова по реставрации иконописи.
Монахи угощали вином, фруктами, сочными отелами.
Я скоро поправился.
Поэт мечтал, работал, созерцал.
Захотелось перед Петербургом – побывать в Перми – почувствовать родных и Каму.
Побывал в Перми и снова – в Петербург.
Осенью в Петербурге Шебуев затеял издавать еженедельный журнал Весна и меня пригласил редактором.
Одновременно я стал сотрудничать в Обозреньи театров у И. О. Абельсона – писать рецензии о театрах и еще в – Вечерних новостях (печатал рассказы).
Журнал Весна продолжался месяца три.
Меня привлекли к суду за порнографию стихов Шебуева.
В Весне впервые начал печататься Игорь Северянин, Хлебников, Арк. Бухов, Пимен Карпов, Николай Карпов, Е. Курлов.
Здесь печатались: Андреев, Куприн, Петр Пильский, Аверченко, Алексей Ремизов.
Поэт стал глубоко дышать воздухом своих товарищей по печатному слову.
На одном из редакторских приемов (принимали попеременно Шебуев и я) пришел в редакцию Хлебников, принес спиралью скомканную тетрадку – Мучоба во взорах – и странно попятившись до дверей исчез.
И что то курлыкнул про себя.
Мучобу во взорах – напечатали.
Хлебников нечаянно в случайные часы вновь появился: новый, светлый, удивительный.
И с этой поры – когда Поэт нашел Поэта – мы – друзья на веки звездные.
Он нерасставался с Ним.
Журнал прогорел.
В Петербурге возникла ежедневная газета Белкова – Луч света.
Меня пригласили редактировать.
Я сгруппировал почти всю новую литературу.
Предложил сотрудничать Ф. Сологубу, Алексею Ремизову, А. Блоку, Вяч. Иванову, Кузьмину, Г. Чулкову, Хлебникову, Гумилеву, Городецкому.
На одном из первых редакционных собраний Г. Чулков и Городецкий вероятно из желанья завладеть моим портфелем редактора осудили зло мой образ действий.
Я ушел из редакции и газета кончилась.
Стал наниматься живописью и узнал, что Кульбин организовывает выставку картин (на морской) – Импрессионисты.
Я понес на жюри свою вещь – Березы – (масло, пуантелизм) и счастье мне разом привалило.
Картину повесили, оценили ярко и на верниссаже она продалась.
Тут знакомлюсь с Бурлюками, Ар. Лентуловым, Борисом и Элей Григорьевыми, Еленой Гуро, Матюшиным, Кульбиным, Дыдышко, Быстрениным, Спандиковым, Школьник.
Сплошь – самоцветы – глубокие парни.
Быстро и неразрывно схожусь с гениальным Давидом Бурлюком и его великолепными братьями Володей и Колей.
Я, Бурлкжи, Хлебников, начинаем часто бывать у Елены Гуро (жена Матюшина) у Кульбина, у Григорьевых, у Алексея Ремизова.
Всюду читаем стихи, говорим об искусстве (за чаем с печеньем – Додя улыбнись), спорим, острим, гогочем.
В биржевке вечерней Н. Н. Брешко-Брешковский офельетонил нас – мальчиками в курточках, и нам стало еще веселее.
Мы закурили трубки.
Молодость юность, детство были всегда нашими солнцевеющими источниками творческих радостей.
Наша культурная вольность, буйная отчаянность, урожайный размах, упругие наливные бицепсы и без-предельная талантливость от природы – всюду оставляли ярчайший след нашего пришествия.
Стариковское искусство окончательно сморщилось, закряхтело.
Любого невинного лозунга нашего, вроде: – Левая нажимай-было достаточно, чтобы искусство старости сдохло, но – защищенное полицией, дворцами, буржуазной своей прессой, капиталом и мещанами изящного вкуса, – оно настолько неиздыхало, а даже решилось бороться доносами и намеками на нашу вредную анархичность и неблагонадежность.
А мы – истые демократы, загорелые, взлохмаченные (тогда я ходил в сапогах и в красной рубахе без пояса, иногда с сигарой), трепетные – уверенно ждали своего Часа.
Футуризм воссолнился.
Мы явились идеальными Детьми своей Современности.
За нами была гениальность, раздолье, бунт, молодость, культура, великая интуиция.
У нас еще небыло обильных плодов труда, зато была мировая энергия, стремительность, высшее напряженье сил.
Наконец было достаточно нас видеть или слышать, чтобы чуять пронзенность острого присутствия гениев.
А количество трудов никому ненужно.
Вот в такой – амплитуде назреванья от Грядущаго – Футуризма – расцветал Поэт.
Я стал работать в студии Давида Бурлюка, не переставая посещать вновь лекции.
Весной гостил у Елены Гуро-Матюшина на даче в Ораниенбауме.
Но лето уехал в Пермь и поселился жить в глухой деревушке Новоселы с братом Петей.
Здесь я начал жить по-стихийному, по-истинному – только как Поэт.
С утра до вечера я уходил в луга, в лес, в простор полей, жег костры.
Нашел где то в глуши – на речке Ласьве – заброшенную землянку, уладил ее и стал там проводить да как: задумал написать книгу – Землянка – в форме романа, с поэтическими сдвигами.
Но писались только стихи.
Впрочем Поэт написал там лирическую сагу в трех перемнах – Семь слепых сестер – для театра (до сих пор лежит без движенья на Каменке).
Я много охотился на рябчиков, играл на гармошке в деревне, пел частушки, кутил с парнями на вечерках.
Меня любили за гармошку.
К осени я написал большую лекцию (для заработка) – о Новой Поэзии – и прочитал ее в Пермском Научном Музее.
Ожиданья оправдались – успех был славный.
Василий Каменский – лектор.
Дальше.