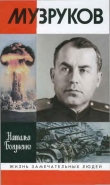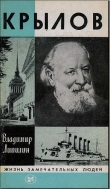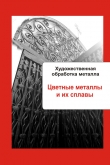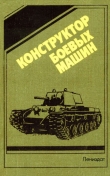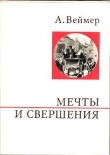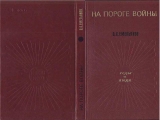
Текст книги "На пороге войны"
Автор книги: Василий Емельянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Как отвратить опасность?
Большое внимание на съезде было уделено вопросам внешней политики. «Новая империалистическая война стала фактом», – об этом И.В. Сталин сказал уже в начале своего доклада на XVIII съезде.
Характеризуя сложившееся в мире положение, он перечислил наиболее важные события последних лет. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в Испанском Марокко, а Италия на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония после захвата Маньчжурии вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньдзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия вторглась в Австрию, а осенью 1938 года в Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года – остров Хайнань.
Война, незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию от Тяньдзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. В этих трудных международных условиях Советский Союз последовательно отстаивал дело сохранения мира, поддерживал народы, ставшие жертвами агрессии и борющиеся за независимость своей родины.
Раскрывая истинную природу политики невмешательства, проводимую Англией и Францией, И.В. Сталин подробно остановился на событиях, развивающихся в Европе. Он говорил о том, как «миротворцы» Европы – сторонники политики невмешательства – отступали перед требованиями Германии, отказывались от своих обязательств перед другими странами, толкая немцев дальше на Восток. Они как бы говорили: «Вы только начтите войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо».
Отчетный доклад XVIII съезду мы потом подробно изучали в политкружках. Всем нам было ясно: Гитлер и дальше будет раздвигать границы своего государства, он готовится к большой войне. Но куда же он направит свой основной удар?
Еще в начале тридцатых годов, когда я проходил практику в Германии, в немецкой печати находили свое отражение две концепции немецкой геополитики. Одна из них заключалась в формуле: Drang nach Osten, – и вторая – требование возврата бывших немецких колоний. Гитлер говорил о том, что на каждого англичанина в колониях работает семь человек, на каждого немца должны работать по крайней мере четверо. Куда же будут направлены ближайшие удары Гитлера —па Восток пли на Запад? Вряд ли он решится двинуться на Восток. В Германии есть все же разумные люди. Они помнят предостережения Бисмарка.
Однажды я случайно попал на лекцию профессора Тарле. Он говорил о политике Бисмарка и его наказах. «Я видел, как русский мужик запрягает знаменитую тройку. Он делает это медленно. Но не обольщайтесь этим. Когда он садится на козлы, он преображается, и никто его тогда догнать не сможет». Бисмарк предупреждал своих сограждан: «Не гневите русских, добивайтесь того, чтобы иметь Россию дружественной или по крайней мере нейтральной». Эту лекцию Тарле я хорошо запомнил.
За время пребывания в Германии я много встречал разумных людей, которые разделяли концепции Бисмарка и критиковали политику Гитлера.
«Это маньяк!» – так называли Гитлера в Германии до прихода его к власти. «Маньяк-авантюрист», – стали называть его после прихода к власти те из немцев, кто успел бежать за пределы Германии.
Неужели он все же посмеет двинуть свои вооруженные силы на Советский Союз? Эти вопросы часто возникали при обсуждении международного положения.
В марте 1939 года в газетах было опубликовало обращение представителей французской интеллигенции, направленное президенту республики, главе правительства, а также председателям палаты депутатов и сената. В письме говорилось, что после мюнхенского соглашения и событий, которые ему сопутствовали, французский парод испытывает глубокое недовольство и тревогу перед лицом «крушения важнейших основ французской безопасности». Резкой критике подвергалась внешняя политика министра иностранных дел Франции Боннэ, и указывалось на его ответственность за капитуляцию Чехословакии. В заключении авторы требовали, чтобы президент республики, глава правительства, а также председатели палаты депутатов и сената отдали приказ о расследовании деятельности министра иностранных дел Боннэ.
Письмо подписало Лапжевеном, Перрепом, Виктором Бошем и другими представителями французской общественности.
Когда я читал это заявление, мне, конечно, и в голову не приходило, что через пятнадцать лет я не только встречусь с профессором Франсисом Перроном – одним из ученых, подписавших заявление, по на протяжении длительного времени буду совместно с ним работать в различных международных организациях, и мы поставим рядом свои подписи под договором Франции и Советского Союза о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Заявление произвело на меня большое впечатление. Мы всегда питали к чехословацкому пароду большую симпатию, и судьба этой страны нас волновала. Отказ Бенеша принять предложенную Советским правительством военную помощь даже в том случае, если этого не сделает Франция, нас еще больше убеждал в том, что Бенеш не повернется лицом к Востоку, а будет искать сотрудничества с Западом.
И вот прошло всего несколько месяцев после подписания мюнхенского соглашения с Германией, как над Чехословакией нависла угроза дальнейшего расчленения. Бенеша уже в Чехословакии нет – он в Англии, у тех, кто продал Чехословакию, главой правительства которой он был.
Мы хорошо знакомы с коварством английских политиков, их умением загребать жар чужими руками, их способностью стравливать страны и добиваться тем самым успеха малой ценой.
Не то ли происходило в 1918 году в Баку? Правда, в других исторических, географических и политических условиях. Тогда английские войска ушли с фронта и оголили его на значительном пространстве. Обещали помощь, защиту мирного населения, а отдали город на разграбление армии Нури-паши. При этом они сразу решили ряд задач: при помощи турецкой армии разгромили все рабочие организации, вывезли из Баку в Красноводск руководителей Советской власти – двадцать шесть бакинских комиссаров и расстреляли их. А затем вновь пришли в Баку.
…И вот теперь, через двадцать лет, то же самое предательство совершается в отношении Чехословакии. Было ясно, что Чехословакия предается неспроста, она является платой. Об этом мы говорили во время докладов по международному положению и во время политзанятий.
Английский либеральный журнал «Нью-стейтс мен энд пейшеп», откликаясь на речь Чемберлена в Бирмингеме, писал в номере от 25 марта: «Мистер Чемберлеп указывал, что новая война будет означать конец европейской цивилизации и что отнюдь не пеизбежно столкновение англо-германских интересов. Если бы удалось убедить Германию направить свою экспансию на Восток, а не на Запад, то мы были бы гарантированы от войны».
Прогрессивная общественность Европы была встревожена новыми агрессивными мерами германского фашизма и попустительством правительства Англии и Франции.
В эти дни Густав Эрвэ в газете «Винтуар» писал: «Некоторые близорукие французы полагают, что, постыдно бросая своих союзников, как это мы сделали в отношении Чехословакии, мы тем самым избежим войны. Отнюдь нет. Постоянно уступая, мы не избежим войны, мы лишь ее отсрочим на несколько месяцев, на год или на два, но мы ее не избежим. Наоборот, мы ее сделаем этим более неизбежной. Отказ от союзников на Востоке представляет собой не только опасность для нас, но является самоубийством для Франции».
В выступлении на заседании палаты общин лейборист Гарро-Джонс, настаивая на необходимости более тесного сотрудничества Англии и СССР, с возмущением ставит вопрос: «Почему же наше правительство проявляет такое нежелание заключить соглашение и встать на путь более тесного сотрудничества с СССР? Не может быть никакого сомнения в искреннем желании Советского Союза проводить и в дальнейшем политику сохранения и укрепления всеобщего мира».
Даже консервативная газета «Йоркшир пост» в статье «Плоды Мюнхена» писала: «Сейчас Германия применяет ту же тактику, что и в прошлом году, нисколько не скрывая своих целей. Очевидно, Гитлер считает, что ему и сейчас все сойдет с рук, как сошло в сентябре прошлого года. Он убежден в том, что Англия и Франция не будут бороться во имя спасения оставшейся части Чехословакии от полного ее расчленения и подчинения Германии».
В газетах приводится заявление Альберта Эйнштейна, бежавшего в США после захвата фашистами власти в Германии. В день своего шестидесятилетия он заявил, что, поскольку фашистская опасность все усиливается, он не верит больше в действенность пассивного пацифизма. Всеобщий мир невозможно сохранить до тех пор, пока в Европе господствует фашизм.
Но ни английское, на французское правительство не намеревалось вести борьбу с фашизмом.
Чемберлен, выступая 15 мая в палате общин, разъяснил, что, поскольку попытки английского правительства договориться с участниками мюнхенского соглашения о гарантии чехословацких границ провалились, английское правительство не считает себя больше связанным какими-либо обязательствами в отношении границ Чехословакии.
В тот же день министр иностранных дел Галифакс заявил в палате лордов, что английское правительство не считает себя связанным обязательствами гарантировать границы Чехословакии.
Мавр сделал свое дело – мавр может удалиться.
Нам было известно, что Советский Союз предпринимал ряд попыток договориться с Англией и Фрапцией о совместных действиях против германской агрессии. Но эти попытки не имели успеха.
В мае на третьей сессии Верховного Совета СССР было сообщено, что Советское правительство вступило в переговоры с английским и французским правительствами по поводу необходимых мер борьбы с агрессией. Начавшиеся переговоры еще не закончены. Для создания дееспособного фронта миролюбивых стран против агрессии необходимо было заключить между Англией, Францией и СССР пакт о взаимопомощи, имеющий исключительно оборонительный характер; гарантировать безопасность государств центральной и восточной Европы, включая все без исключения пограничные с СССР европейские страны, заключить конкретное соглашение между Англией, Францией и СССР о формах и размерах немедленной и эффективной помощи, оказываемой друг другу и гарантируемым государствам в случае нападения агрессоров.
Однако в июне в еженедельнике «Нейер форвертс была напечатана статья, которая привела слова Чемберлена о готовности в любое время обсудить на международной конференции претензии Германии и всякой другой страны, если налицо будет достаточная предпосылка для того, чтобы эти вопросы были урегулированы путем переговоров. Еженедельник ставил вполне резонный вопрос: «Не может ли в Москве возникнуть подозрение, что английское правительство все же в последний момент предпочтет соглашение с Гитлером и Муссолини последовательной политике сопротивления агрессии?»
Об этом часто думали и мы. «Английское правительство не будет вести никакой борьбы с Гитлером. Гитлер-то двигается не на Запад, а на Восток, то есть туда, куда они его и толкают», – горячо говорили участники кружка по международному положению, организованного в нашем главке по настоянию сотрудников. В оценке позиции западных стран по отношению к Германии мы все были единодушны. Тем более что сведения о ходе переговоров с Англией и Францией были неутешительными.
Скупые газетные строки свидетельствовали о том, что ни Англия, пи Франция не имеют намерений ввязываться в борьбу с Гитлером. 15 июня В.М. Молотов принял английского посла Синдса, французского посла Наджиора и директора Центрального департамента Министерства иностранных дел Великобритании Стрэнга. Беседа продолжалась более двух часов. Обсуждались основные вопросы разногласий. «Результаты первой беседы и ознакомления с англо-французскими формулировками расцеппваются в кругах Наркоминдела как не вполне благоприятные», – сообщала «Правда».
На следующий день состоялась вторая беседа. 21 июня – третья беседа с послами, которые передали новые англо-французские предложения.
«В кругах Наркоминдела отмечают, что новые англо-французские предложения не представляют какого-либо прогресса по сравнению с предыдущими предложениями», – писали паши газеты.
А угроза нависла уже над Польшей.
Война приближалась к нашим границам. Нам нужен мир. Поэтому все усилия правительства, направленные на обуздание агрессии Германии, находили искреннюю всеобщую поддержку и одобрение. Что же еще следовало бы предпринять? Эти вопросы постоянно возникали при встречах с руководителями, старыми большевиками, политинформаторами и просто когда имелась возможность перекинуться словом, отвлекаясь от невероятной занятости текущими делами наркомата и главка.
Ванников с его проницательностью при каждой встрече упорно твердил:
– Воевать все-таки придется. Разве немцы остановятся сами – их остановить надо. А кто в этом заинтересован? Англичане, что ли, или французы? Что ты думаешь, французам так уж интересно немцам все время в лицо смотреть? Нет. Для них много лучше, если немец к ним задом повернется. Ну, сам посуди, если перед тобой будет все время маячить здоровый верзила, весь увешанный пистолетами, так ты все-таки рад будешь, если он или отойдет от тебя, или по крайней мере спиной, или боком к тебе повернется. Остановить Гитлера теперь можем только мы. И не словом, а силой. Поэтому нам и надо больше оружия и снарядов. Вот, если бы удалось немцев как-то заговорить годика на три – это дело было бы. Много у нас еще кое-чего недоделано. Одной рукой в одно и то же время нельзя и поясницу чесать и бороду разглаживать. У Хруничева – вон какая рука, и то он не может. Ты нажимай на строительство завода – броня не только вам, но и нам для артиллерийских систем нужна.
А на следующий день поело разговора с Ванниковым мне позволил Тевосян. Он только пришел с какого-то заседания из Кремля.
– Зайди. Поговорить надо о строительстве вашего броневого завода.
– Голованова надо пригласить? – спросил я.
– Нет, никого приглашать не надо. Заходи один.
Когда я открыл дверь в кабинет, Тевосян выходил из второй небольшой комнаты. Волосы у него были влажные и блестели.
– Что, голова болит?
– Немного, а почему ты узнал?
– Волосы мокрые. Когда у меня начинается нестерпимая головная боль, я немедленно наклоняю голову над раковиной и на затылок пускаю струю горячей воды. Это единственное средство, что снимает боль.
– Ну, а мне холодная помогает. Садись. Хочу разобраться со строительством вашего броневого завода. Он нам очень нужен. Вообще надо ускорить строительство заводов на Востоке. Сегодня рассматривали этот вопрос. Госплан докладывал, какие заводы мы в этой пятилетке должны будем начать строить в Сибири. Когда Вознесенский закончил свое сообщение, Сталин сказал: «Нереальный план вы подготовили. Я подсчитал, для выполнения этого плана надо допустить, что средняя производительность труда одного рабочего в Сибири должна быть в три с половиной, четыре раза выше по сравнению с производительностью рабочих индустриально развитых районов нашей страны. Надо или в чудо верить, или увеличить в Сибири население приблизительно на двадцать миллионов человек. Подумайте еще раз над планом. Промышленность в Сибири надо развивать».
Тевосян был взволнован.
– Никогда я не видел Сталина таким. Он очень хочет побыстрее создать в Сибири мощпую промышленность, но, видимо, опасается, что в короткие сроки этого не сделать. Давай-ка мы еще раз посмотрим, что следует предпринять, чтобы сократить сроки строительства. Будет хорошо, если мы внесем предложение о сокращении сроков сооружения завода по производству бропевой стали. Давай подумаем! Время очень тревожное. Спешить надо.
Когда я уходил из кабинета, тревога Тевосяна передалась и мне.
Успеем ли? Ведь столько надо еще всего построить. А нерешенные вопросы? Как будто бы все было продумано, когда начинали строительство. А затем оказалось, что если из реки забирать потребное количество воды, то остановятся предприятия, расположенные ниже по течению реки. Необходимо строить водовод. А труб для него нет, и нам их скоро не дадут.
А куда девать фенольные воды? Надо бы строить рядом химический завод, чтобы извлекать из отходов производства все ценное. Ну, если не извлекать, так хоть бы не отравлять реку. Но это ведет не только к дополнительным затратам, но и к потери времени. А время для нас сегодня самое важное.
Мы начали строительство в бескрайней степи. До ближайших населенных пунктов десятки километров. Здесь необходимо все сооружать самим – не только заводские корпуса и жилые дома, по также школы, больницы, почту и телеграф, прокладывать трамвайные пути, приобретать автобусы – одним словом, все, что является жизненно необходимым для современного индустриального района.
И мы все построим, в этом сомнения нет. Не это нас беспокоит. Нам надо закончить строительство возможно быстрее. Темпы строительства новых заводов теперь решают все.
Оборонительные сооружения
Вопросы обороны в нашей стране всегда были в центре внимания. Еще с тех времен, когда я в Баку посещал школу общественных знаний, хорошо помнилась работа В.И. Ленина «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности». Она написана с большой страстью, и о ней с огоньком, чрезвычайно красочно рассказывал нам Бесо Ломппадзе.
И вот через двадцать лет, когда мне самому пришлось вести кружок по истории партии, я вновь обратился к этой ленинской работе. Тогда, в мае 1918 года, я читал ее в газете «Правда», теперь передо мной был XXVII том собраний сочинений В.И. Ленина.
«Мы – оборонцы после 25 октября 1917 г. Я говорил это не раз с полной определенностью, и оспорить это вы не решаетесь… Когда мы были представителями угнетенного класса, мы не относились легкомысленно к защите отечества в империалистической войне, мы принципиально отрицали такую защиту.
Когда мы стали представителями господствующего класса, начавшего организовывать социализм, мы требуем от всех серьезного отношения к обороне страны».
Сегодня вечером занятие кружка по истории партии. мне очень хотелось, чтобы политическая учеба была не только интересной, но и связанной с текущей работой главка.
Ведь нам надлежит не только изучать политическую суть обороны социалистического государства, но и практически возводить на всех границах оборонительные сооружения. Броня – это не оружие нападения – это средство защиты. Надо эту мысль подчеркнуть при проведении политзанятий.
На партийном бюро многие обращали внимание на необходимость усилить политическое просвещение, особенно среди беспартийных специалистов.
– Беленький из планового отдела. Он прилежный и внимательный ко всему, что касается планирования, но ребенок во всем, что относится к текущим политическим событиям, – поддерживая необходимость организации кружка для беспартийных специалистов главка, сказал секретарь нашей партийной организации Васильев. – С людьми надо работать. Если люди путаются, то в этом прежде всего виноваты мы. Если это путаница несознательная – надо помочь им стать на ноги. Ну, а если это сознательное искажение нашей политики, тогда надо принимать другие меры. С врагами мы церемониться не будем!
Как-то утром позвонил Тевосян:
– Сегодня в пять вечера у Кулика совещание.
Г.И. Кулик в то время был заместителем наркома обороны и отвечал за оснащение Вооруженных Сил СССР новой военной техникой. Я немного знал его. мне приходилось встречаться с ним на разного рода совещаниях.
– А какой вопрос будет обсуждаться? – спросил я Тевосяна.
Тевосян подробно меня информировал и, как обычно, кратко изложил свои соображения.
– Будет идти речь о дополнительных заказах на броневые амбразуры и башни для артиллерийских систем. Имей в виду – Кулик мастер заявлять несуразные цифры. Если он предложит изготовить какое-то невероятное количество амбразур, ты не давай согласия или во всяком случае попроси отложить окончательное решение. Мы потом, когда вернешься, посоветуемся. Но все, что заводы в состоянии выполнить, следует принять. Сам понимаешь, насколько это важно. Директор Северного завода еще не уехал?
– Нет, сегодня вечером уезжает.
Возьми его с собой.
…Тевосян хорошо знал этого директора. У нас с ним не раз были горячие споры, когда нужно было убедить его принять новый заказ.
– Дополнительный заказ изготовить не можем. Не один раз считали. Не знаю, как с основным заданием справимся.
– Прошлый раз ты то же самое говорил, а ведь справились, и хорошо справились. Квартальный-то план на сколько тогда перевыполнили?
Лицо директора смягчалось. Он даже улыбался.
– Ну, конечно, выполнили. Как же иначе. Позор бы какой был, если бы не сделали. Но эти дополнительные заказы просто никак не пролезут. Поверьте мне.
– А ты еще подумай, что сделать можно. Ты еще не все карманы вывернул. Что мы не знаем, что ли.
Директор Северного завода всегда боролся за разумный план. Но если схему даже записывали то, против чего он горячо возражал, то на заводе он со всей своей страстностью защищал увеличенный план, поднимая на его выполнение многотысячный коллектив.
Как-то я приехал на Северный завод и сразу же направился, как обычно, к директору. Большой кабинет был заполнен народом. Шло совещание. Мы поздоровались.
– Подождите. Мы скоро кончим. Никак не могу убедить Никифорова и Иванова, уперлись – с места не сдвинешь, – вполголоса объяснил мне директор ситуацию, сложившуюся на совещании.
– Я дал обещание наркому выполнить все это в текущем месяце. Дал слово от всех нас. Что же, вы меня обманщиком хотите сделать? Я не хочу и слышать рассуждения о том, что порученное нам задание выполнить невозможно. Если нужно помочь, скажите чем? Вот к нам на завод и начальник главка приехал. Мы и его можем попросить. Да я думаю, что у нас и у самих хватит и сил, и умения справиться с заданием…
– Так не забудь пригласить директора. Он тебе поможет, если Кулик будет слишком напрягать. – И Тевосян улыбнулся.
На совещание прибыли представители промышленности, непосредственно занимавшиеся изготовлением военной техники. Когда мы вошли в кабинет к Кулику, то помимо гражданских лиц встретили несколько военных. Всего на совещание собралось человек тридцать. Среди них были начальники главных управлений и директора заводов оборонной промышленности.
Открывая совещание, Кулик сказал, что нам необходимо рассмотреть предложения, которые возникли в Наркомате обороны по дальнейшему усовершенствованию оборонительных сооружений, строительство которых заканчивается на западной границе.
Кулик любил поговорить, но на сей раз сразу же перешел к делу. Заявленные им цифры были внушительны. Когда я услышал количество дополнительных броневых амбразур, то сразу даже не мог оцепить всех трудностей, связанных с их изготовлением.
– Ну как, сможем выполнить? – спросил я директора завода.
– Трудно, но сделаем, если, конечно, нам никель дадут. Ведь это хромоникелевая сталь. Никеля у нас в обрез – только на установленную программу.
– Когда будут готовить проект постановления, мы запишем, чтобы вам дополнительно выделили необходимое количество никеля, – сказал я.
С совещания уходил со смутной тревогой. По всей видимости, угроза войны стала ближе. Зачем же тогда было бы созывать это совещание. Совсем недавно был принят план. Мы его подробно обсуждали вместе с военными. Значит, появились новые соображения. По-видимому, немцы что-то затевают.
А из памяти не выходили страницы из книги Эрнста Генри «Гитлер над Европой», где был приведен детальный план гитлеровских военных операций против Советского Союза.
– Вы сразу же приступайте к работам, не ожидая выхода постановления, – сказал я директору.
– Конечно, – лаконично ответил он, также занятый своими мыслями. – Ждать нельзя.
Директор выехал на завод. А у меня в этот вечер были занятия кружка. Тема: «Вопросы обороны социалистического государства и задачи коммунистов в социалистическом и капиталистических государствах в случае военного конфликта. между ними».
Мы вспомнили слова В.И. Ленина: «Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с пим обращались, как с рабами».
Во время занятий несколько раз выступали Горелов и Рабипский. Они – наиболее активные участники кружка и вместе с тем очень хорошие специалисты – опора главка.
Через несколько дней я выехал на Северный завод.
Здесь уже полным ходом шли работы по изготовлению броневых амбразур, а также башен для артиллерийских систем.
Один из мартеновских цехов был полностью преобразован для выпуска многотонных стальных отливок. Только высокая квалификация и сильно развитое чувство сознательности сталеваров и литейщиков позволили в такие короткие сроки наладить отливку этих сложных изделий. Люди не уходили из цехов, пока технология изготовления не была полностью отработана. Все попималп ответственность, возложенную на заводской коллектив.
Сколько в эти дни возникало различных разумных предложений, позволявших паходпть выход из, казалось бы, безвыходных положений.
С завода пошли стальные амбразуры и башни на рубежи страны, где проходила оборонительная линия.
– Ну, теперь можно не волноваться, – сказал мне вечером директор завода, когда мы наконец смогли зайти с ним на квартиру для приезжих, чтобы перекусить. – Теперь дело пошло. Можно и другим заняться, – и он платком вытер пот с лица. – Домой надо будет сегодня съездить. Своих проведать, как они там живут.
За эти дпп директор заметно осунулся.
– Целую неделю не выходил с завода, – кивая на директора, сказал мне главный инженер.
– А вы сколько? – спросил я его.
– Что же мне, одного его здесь оставлять было. Не так мы воспитаны. Вот теперь можно и отоспаться, а затем и за другие дела. Нам скучать некогда, – уже совсем весело закончил главный инженер.