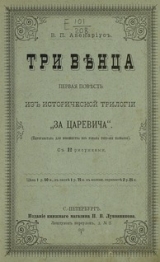
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– А коли так, – воскликнула она, и во взоре ее сверкнула отчаянная решимость, – коли так, то мне молчать уже никто не запретит! Пусть весь свет знает, кто замыслил поджог, пусть они же, убийцы его, казнятся, отвечают за него головами!
– Ты, Муся, в самом деле с ума сошла! – резко уже и повелительно заметила панна Марина. – Ты будешь молчать...
– Не буду я молчать!
– Что?! Я тебя к себе приблизила; но чуть только ты слово скажешь, как все между нами с тобой навсегда кончено!
– И пускай! – с не меньшим уже задором отозвалась Маруся. – Ежели вы, пани, заодно с поджигателями и убийцами, ежели они вам дороже меня, то вы для меня совсем уже чужая, и я вас знать не хочу! Завтра же ноги моей здесь не будет; но допрежь того я все, все выложу начистоту, и молчать не буду, не буду, не буду!
Биркинское упрямство сказалось с такою силой, что порвало неразрывную, по-видимому, девичью дружбу разом и бесповоротно. Упрямство Маруси, однако, на сей раз ни к чему ей не послужило. Едва только удалилась она в свою комнатку, чтобы собрать свои пожитки, как следовавшая за нею по пятам панночка ее замкнула там на ключ, после чего отрядила панну Брониславу к патеру Сераковскому. Тот, узнав в чем дело, не преминул в свою очередь послать за расторопным княжеским секретарем и возложил на него довольно щекотливую миссию – не медля, среди ночи еще, под благовидным предлогом выпроводить из Жалосц обоих Биркиных: дядю и племянницу, чтобы к утру их и духу не было.
Начало вызванной пожаром кутерьмы Степан Маркович Биркин и верный телохранитель его Данило Дударь проспали сном праведных. Только когда с возвращением панов возобновился на дворе прежний гам и шум, Биркин пробудился, растолкал запорожца и велел ему узнать о причине суматохи. Дворовая челядь очень охотно, во всей подробности и с надлежащими комментариями, удовлетворила их любопытство; так что, когда пан Бучинский вошел к Биркину, тот прямо встретил входящего вопросом:
– Ужели же это правда, господин честной? Верить не хочется! Этот бравый молодец, красавец писаный, Михайло, или князь Курбский, что ли, каким он теперича объявился, так-таки и сгорел, и праху его не осталось?
– И сам бы не поверил, кабы своими очами не видел, – с соболезнующим видом отозвался княжеский секретарь. – Но то-то и горе, что беда редко одна идет...
– Уж не без того-с, сударь, – подтвердил Степан Маркович, – едет беда на беде, беду бедой погоняет. А что же еще такое, смею спросить, приключилося.
Пан Бучинский тихо вздохнул.
– Покамест еще не приключилося, но легко может статься. Ведь эта фрейлина Сендомирской панночки, панна Мария Биркина, вам, почтеннейший, никак племянницей доводится?
– Племянницей. А что с нею?
– Да изволите видеть... пожара этого, что ли, она так испугалась, или же... Не хотелось бы мне, признаться, выговаривать...
Пан Бучинский сострадательно потупил глаза и замолк.
– Договаривайте, сударь! – в серьезном уже беспокойстве приступил к нему дядя Марусин. – Ради Бога, что с нею?
– Вы сами требуете. Этот покойный князь Курбский (царство ему небесное!) как будто вкрался вдо-верие и в самое сердце панны Марии... Как узнала она тут про его внезапную кончину, бедняжку как молотом в голову ударило; ибо теперь (не смею скрыть уже от вас) она бредит, беснуется как полоумная...
– Господи помилуй!
Степан Маркович набожно осенил себя крестом.
– Представилось ей вдруг, что чуть ли не все тут в замке в тайном заговоре противу нее, – продолжал прежним грустно-сочувственным тоном пан Бучинский, – представилося, будто сама она день-два назад, в полночь, ходила на кладбище и по пути, спрятавшись под мостиком, подслушала разговор поджигателей церкви...
– Ну, это и точно на умопомешательство похоже! Совсем сбрендила девка! – воскликнул Биркини в вол-нени и зашагал по горнице.
– И добро бы еще о себе одной бы говорила; а то, сами посудите, ведь и ясновельможную панночку свою к делу припутала: уверяет, будто и та ходила с нею вместе на погост...
Биркин на ходу остановился.
– Вот что! А та что же?
– Панна Марина, конечно, говорит только то, что на самом деле было: что обе они никогда ночью и думать не думали отлучаться из замка. Но примите, почтеннейший, в рассуждение: каково-то положение нашей дорогой гостьи, дочери воеводы Мнишка и родной сестры княгини Вишневецкой Урсулы! Что говору-то про нее будет по всему воеводству! И все ведь из-за чего? Из-за помешательства вашей племянницы. Поэтому вот вам, не во гнев, дружеский совет мой: ни часу не откладывая, теперь же увезти ее восвояси. И для нее-то, и для панночки ее будет куда спокойней.
– Оно точно... Ох, уж с этим бабьем – наказанье Божие! Не было печали... Что же, Данило, ведь, кажись, и впрямь-то нечего нам делать, как поворачивать оглобли?
Особенная ли вдруг заботливость о дальнейшей судьбе православия в крае, или же неохота так скоро "поворотить оглобли" от жирных княжеских харчей было причиною, что более в данном случае хладнокровный запорожец взглянул на дело гораздо прямее и трезвее.
– А почем знать нам с тобой, Степан Маркыч, – возразил он, – так ли, иначе ли было дело? А ну, как племянница твоя и вправду-то знает поджигателей, а мы увезем ее и, стало быть, сами же скроем злодеев?
Степан Маркович еще пуще насупился и почесал в затылке.
– Беда сущая! И то, ведь, на совесть свою этакий грех взять...
– Так позвольте же, почтеннейший, предварить вас еще вот о чем, – заговорил тут уже настоятельно-деловым тоном пан Бучинский, – разбираться дело будет вероятно завтра же в здешнем доминиальном суде, под руководством самого нашего светлейшего князя-воеводы. Что его светлость будет, как всегда, беспристрастен и терпеливо выслушает вашу племянницу – ни минуты я, конечно, не сомневаюсь. Будут ли показания ее иметь надлежащую силу или нет – другое дело; этого ни вы, ни я вперед не знаем. Но что несомненно – это то, что подозреваемый поджигатель, в случае обвинительного приговора, обжалует решение доминиального суда коронному трибуналу в Люблине; а тогда, вместе с ним, будут вызваны в Люблин все свидетели, в том числе, разумеется, и племянница ваша...
– Вот на! А без этого не обойтись?
– Отнюдь. Без конфронтования (очная ставка) какой же суд? Судебные же разбирательства в нашем коронном трибунале, надо вам знать, производятся обстоятельно, но потому самому тянутся иной раз месяцы, а то и годы. Вестимо, что пока разбирательство не кончено, панну Марию из Люблина уже не выпустят... А случись так, что коронный суд признает поджог недоказанным, и кверелу (жалобу) панны Марии недобросовестною, так ей самой, пожалуй, "куны" не миновать.
– "Куны?" Это что же такое?
– "Куна" – столб с железным обручем, который надевается на шею инкульпата.
– Всенародно?!
– А-то как же? Столб на помосте перед самым костелом...
Заключительный аргумент княжеского секретаря разом прекратил колебание осторожного коммерсанта.
– Это уж последнее дело! – в ужасе воскликнул он. – Пойти, в самом деле, потолковать сейчас с Машей... Авось, опомнится, утихомирится...
– И толковать вам с нею, право же, не к чему. Разве от молодой девицы, да еще обуянной горем и страстью, можно ожидать толку? Забрать ее без дальних разговоров – и все тут!
– Забрать – и все тут! – согласился Биркин. – Спасибо вам, господин честной, на добром совете! А ты, Данилко, ступай-ка живо да коней обряди.
Было уже за полночь, и из целого ряда окон жалосцского замка в одном единственном только окошке брезжил еще запоздалый свет. То было окошко княжеского секретаря, пана Бучинского, заносившего в памятную книжку текущие заметки.
Вдруг до слуха его долетел какой-то необычайный в ночную пору шум из соседнего коридора. Пан Бучинский накинул на себя чамарку (сюртук в персидском вкусе, застегивавшийся под шеей и носившийся под жупаном), схватил со стола светильник и вышел в коридор.
– Сам Бог посылает мне вас, пане! – воззвала к нему в слезах Маруся, насильно увлекаемая за руки своим дядей и двумя саженными гайдуками. – Разбудите царевича!
– Рад бы всей душой, пани, – отвечал со всегдашнею своей готовностью любезный княжеский секретарь. – Но мое подначальное положение...
– Ну, сделайте мне такую Божескую милость! У меня есть до него просьба, которую он один только может исполнить!
– Простите, но будить его ночью я своей властью не смею. Не могу ли я сам для вас что-нибудь сделать?
– Ах, да, вы такой добрый ведь человек... Вы были тоже на этом пожаре, где сгорел будто бы...
– Гайдук царевича, или, вернее сказать, молодой князь русский? Сгорел, увы! В этом не может быть сомнения.
– Вы и все говорят, что он сгорел, – прервала снова Маруся, – но он жив, он должен быть жив! Обещаетесь ли вы мне разыскать его – разыскать хоть под золою на пожарище?
– Ежели бы я и разыскал его там, то как же ему еще живу быть?
– Живым ли, мертвым ли разыщите – отпишите мне о том тотчас в Лубны. Обещаетесь?
– Все, что в моих силах, я сделаю, милая пани.
– Я верю вам... Благослови вас Бог, добрый пане!
"Как есть сбрендила девка!" – мысленно повторял про себя Степан Маркович, уразумевший общий смысл их полупольского, полумалорусского разговора, и был очень рад, когда усадил наконец племянницу в свою фуру и вывез ее за ворота княжеского замка, за которыми не угрожала уже ей позорная "куна".
Глава двадцать пятая
СУД СТРОГИЙ И НЕУМЫТНЫЙ
Княжеский «доминиальный» суд над поджигателем должен был состояться на следующее же утро после пожара, благо в Жалосцах ночевали двое из ближайших соседей Вишневецких, явившиеся на поклон к царевичу: теперь, в качестве ассистентов, они должны были участвовать в заседании домашнего уголовного суда. Но уже в восемь часов утра по замку разнеслась весть, что инкульпат, заключенный в нижнем жилье одной из «веж», бежал – бежал вместе с приставленными к нему стражами.
Князь Константин объявил было, что к розыску скрывшихся будут немедленно приняты надлежащие меры, впредь же до их поимки судебное производство будет приостановлено. Но князь Адам решительно восстал против такой проволочки суда и настаивал на том, чтобы возмутительное преступление против дорогой ему восточной церкви было самым тщательным образом расследовано теперь же, пока обстоятельства дела еще свежи в памяти у каждого. Царевич Димитрий, все еще не примирившийся с мыслью о потере своего гайдука, довольно сочувственно поддержал требование князя Адама.
Тут князь Константин заявил, что сам он, как католик, не находит достаточного повода преследовать поджигателя (буде был таковой): а так как обвинителем в доминиальном суде может являться только потерпевший, то обвинение падает само собою. Тогда потерпевшим, вместе со всеми православными в Малой Польше от поругания родной святыни, речником (адвокатом) оной и обвинителем святотатства выступил уже князь Адам, требуя осуждения виновного заочно: по польскому уголовному кодексу, в случае неизвестности местопребывания преступника, заочные решения допускались. Князю Константину, чтобы показать себя беспристрастным, ничего не оставалось, как нарядить заочный суд. Ровно в десять часов утра открылось заседание суда.
Хотя судейская зала в Жалосцах была предназначена исключительно для доминиального суда, но князь Константин устроил судилище свое по точному образцу, только в уменьшенном виде, такой же залы Люблинского трибунала. Против входных дверей, между высоких готических окон с цветными стеклами в оловянной оправе, висел, в богатой золотой раме, портрет, масляными красками, царствующего короля польского Сигизмунда III во весь рост. Под портретом, на амвоне в три ступени, стоял полукругом покрытый красным сукном стол. По ту сторону стола было поставлено несколько высоких кресел, крытых пунцовым аксамитом (бархат) с золотыми бурдалонами (позументами) и кистями. Против срединного кресла президента-воеводы виднелись большое серебряное распятие, экземпляр Статуса польского и воеводский жезл. С левого краю к самому амвону был приставлен небольшой пюпитр для докладчика-секретаря: на пюпитре возвышался крест с надписью: "Judicia vestra judicabo". С правой стороны, несколько подалее от амвона, была скамья подсудимых. Часть залы, предназначенная для суда, была отгорожена деревянной решеткой, около которой было еще несколько скамеек для свидетелей. Вне решетки по стенам были поставлены для "благородной" публики мягкие диваны, обитые красной материей.
Царевичу, как особенно почетному гостю, князь-президент, уже из приличия, предложил место в числе судей. По-видимому, он рассчитывал, что тот, не будучи близко знаком с порядком местного судопроизводства, откажется от предложенной чести; но царевич ее принял. Тогда в виде противовеса, Вишневецкий пригласил еще второго почетного ассистента – патера Сераковского. Таким образом, в состав суда вошли пять лиц: князь-президент, два постоянные члена и два почетные.
Князь Адам, взявший на себя роль "речника", поместился около судейского стола и отказался даже от услужливо придвинутого ему возным (судейский пристав) кресла. Молодцевато опершись на свою могучую турецкую саблю, он стоял с необычным для него мрачным видом и нервно подергивал и покусывал свои, длиною в добрых поллоктя, усы.
Скамья подсудимых оставалась пустою. Зато диваны по стенам были сплошь заняты привилегированными зрителями: придворными и приживальщиками обоих братьев Вишневецких. "Черной" публики не было ни души.
После краткой молитвы капеллана, выслушанной всеми стоя, пан Бучинский, исполнявший обязанности докладчика-секретаря, бесстрастным, неизменно-приятным голосом прочел протокол о том, как инкульпат, Юрий Петровский, aliter Юшка, был схвачен несколькими из диевских поселян на месте пожара и заподозрен ими в поджоге церкви. Акт был снабжен всеми судейскими выкрутасами и латинскими терминами, считавшимися необходимою прикрасой тогдашнего судопроизводства. Для непосвященного в тонкости судебного языка такое изложение значительно затрудняло самое понимание дела. Но надо отдать справедливость молодому княжескому секретарю, что, при всем том, изложение его было вполне удобопонятно, а в то же время и крайне осмотрительно, сдержанно: ни слова неуместного или лишнего. Все присутствующие с затаенным вниманием выслушали протокол до конца.
– Пане возный, – отнесся князь-президент к судебному приставу, – введите свидетелей.
Свидетелями оказались двое православных пастырей: епископ Паисий и отец Никандр; и три диевские парубка, схватившие Юшку на пожаре.
Преосвященный был внесен на носилках; голова его была перевязана; в лице его не было ни кровинки, но взор был спокоен и светел; каким-то святым смирением веяло от его страдальчески изможденного лица.
Совершенную противоположность ему представлял отец Никандр. Всю ночь, должно быть, проволновавшись и не сомкнув глаз, он был в сильном нервном возбуждении и с каким-то диким ожесточением, почти с озлоблением водил кругом воспаленным взором.
Парубки переминались с ноги на ногу и поглядывали на судей исподлобья, с запуганными лицами.
– Свидетелям предстояло бы теперь juramentum (присяга), – заговорил князь Константин, – трем смердам – juramentum corporale (присяга телесная, то есть с коленопреклонением), двум священнослужителям – juramentum pectorale (с приложением руки к груди); но все они – православного закона; а священников этого закона, неприкосновенных к делу, в крае нет. Поэтому обойдемся без присяги. Но предваряю вас, свидетели, что вы должны показывать все по чистой совести.
– Слышите ли, дети мои: по чистой совести! – с одушевлением подхватил отец Никандр, выступая вперед к трем диевским свидетелям. – "А ще кто отвержется Мене пред человеки, – глаголет сам Господь наш Иисус Христос, – отвержуся и Аз его пред Отцом моим небесным". А дабы вы тверже памятовали сии слова Спасителя, целуйте на том святой крест Его.
Он обернулся к епископу Паисию, который стал снимать висевший на груди у него тяжелый золотой крест. Но князь-президент повелительным мановением руки остановил обоих и наотрез объявил, что ввиду подсудности самого епископа, принадлежащий ему крест не может уже иметь на суде законной силы; буде же свидетели желают быть допущены к крестному целованию, то могут приложиться к "пекторалю" (католический наперсный крест) ксендза-капеллана. Этому, однако, воспротивились в свою очередь как отец Никандр, так и младший Вишневецкий.
Председатель приступил к допросу. Вызвав вперед трех парубков, он предложил им по очереди рассказать все, что им знамо и ведомо о поджоге.
– Ничего как есть не знаем, ваша княжеская милость, ничего не ведаем! – единодушно загалдели все трое, земно кланяясь своему светлейшему господину.
– Так зачем же вы схватили на пожаре Юрия Петровского?
– Виноваты, князь-государь, помилуй нас!
– Аль пьяны были?
– Пьяны, батьку, пьянехоньки!
– До беспамятства?
– До беспамятства, батьку! Сами не ведаем, что творили. Не вели казнить, вели миловать!
– А много ль вам, христопродавцы окаянные, за лжесвидетельства ваше посулили, или чем вам пригрозили? – неожиданно подал вдруг голос князь Адам.
Старший Вишневецкий вспыхнул и сделал забывшемуся брату строгое внушение; затем отдал приказание отвести трех пьяниц на конюшню и "отсыпать им по полусотне".
– Спасибо тебе, князь-государь, на милостивом слове! – в один голос опять закричали те, видимо довольные, что так дешево отделались, и поспешили выбраться за двери.
Теперь настала очередь двух пастырей. Отец Никандр, как прирожденный оратор, был многословен и велеречив. Но он горячился и повторялся; а так как притом же на пожар он прибыл уже после поимки Юшки, то собственно от себя не прибавил ничего существенного к тому, что и без того было известно о пожаре из протокола. Председателю не раз приходилось останавливать расходившегося старца.
Речь епископа Паисия была гораздо короче, толковее и содержательнее. По словам его, укрытый в алтаре храма, он ночью был разбужен необычным треском, – как оказалось, от загоревшихся церковных стропил. Сквозь царские врата к нему падал уже яркий свет от быстро распространявшегося пламени. Он понял, что храм обречен огню и что самому ему грозит в нем неминуемая гибель. Ступни ног его, однако, были еще в таких язвах, что он и помыслить не смел ступать на них. И вот он пополз на руках, волоча за собою изъязвленные ноги, к вратам царским. Но тут врата разом растворились: перед ним стоял какой-то чернявый малый с дарохранительницей в руках. Увидев на полу перед собой человека, живого очевидца содеянного святотатства, поджигатель в страхе было отпрянул; но затем решил в помраченном своем разуме смертоубийством отделаться от свидетеля и занес на беспомощного старца руку. Что дальше было – преосвященный не помнил: нанесенный ему Юшкой в голову дарохранительницей удар лишил его памяти. Кто его вынес из пламени – он не ведал; слышал он только от других, что спас его добрый молодец, который сам тотчас поплатился за то жизнью. Очнулся он, владыка, только на воздухе, когда поджигатель был уже задержан.
– Записали, пане секретарь? – спросил князь Константин, когда епископ Паисий на этом закончил свои показания.
– Записал.
– Согласно выраженному его царским величеством желанию, – возгласил президент, – к даче показаний призваны были паном возным все желающие. Таковых, однако, кроме выслушанных, никого не явилось. Объявляю судебное следствие конченным. Слово за паном речником.
"Пан речник", младший Вишневецкий, выступил вперед и, вскинув на судей вызывающий взгляд, заговорил:
– Милостивые панове судьи! Человек я ратный; место мне в ратном поле и разводить долгие речи не мое дело. Был храм Божий; нету храма. Что же сталось с ним? Он сгорел – сгорел не от искры небесной: грозы не было в помине; не от шальной искры: некому было заходить туда в ночь глухую. Стало быть, храм подожжен преступною рукою. Все вы, панове судьи, были на пожарище; все, конечно, слышали, что говорилось там народом. Глас народа – глас Божий: из окна церковного, на виду у всех, выпрыгнул человек с награбленным церковным добром; а преосвященный владыка веноцкий видел человека этого и в самом храме. Кому ж, как не ему, было и подпалить храм? Здесь, на суде, правда, мы слышали сейчас другое: те самые люди, что задержали святотатца на месте преступления, теперь от всего отреклися. Почему отреклися? Не станем разбирать. Бог им да будет на том свете судиею! Но коли совесть инкульпата была бы чиста – зачем бы ему было бежать из-под стражи? Убоялся, знать, не снести головы буйной на плечах. Но вы, панове судьи, не попустите такого наглого надругания над народной святыней, вы признаете злодея виновным в злостном поджоге и изречете над ним заочно, без всякой пощады, смертную казнь; бессовестных же стражей его, утекших вместе с ним, осудите к вечной инфамии (заочное изгнание из края, с лишением всех гражданских прав).
Небольшая, бесхитростная, но вразумительная речь светлейшего "речника" произвела на присутствующую публику заметное впечатление. Значительное большинство, правда, исповедывало римскую веру и втайне не только не было возмущено поджогом православного храма, а скорее даже сочувствовало поджигателю. Тем не менее факт поджога был, по-видимому, доказан; в личности поджигателя нельзя было, казалось, сомневаться, и поджог все-таки оставался поджогом, уголовным преступлением. Как-то отнесутся к делу судьи, из числа которых один только русский царевич Димитрий открыто признает схизму?..
Пять судей за красным столом тихонько совещались между собою. Не сводя с них взора, многочисленные зрители также без умолку перешептывались с ближайшими соседями, стараясь предугадать приговор суда.
– Оправдают! Ну, понятное дело, оправдают! Кому, кроме разве этого царевича, охота осуждать человека за такую вину, которую скорее можно поставить ему в заслугу? Да и кто же, наконец, видел, как он поджигал?
– Нет, нет, глядите-ка: не один царевич князю возражает – возражает вон и патер Сераковский, да как еще убежденно, как горячо! Что это с ним, право?
Ожидание публики было напряжено до крайней степени: между судьями, очевидно, произошел серьезный раскол. Но вот, красноречие иезуита, должно быть, одерживает верх: остальные судьи внимательно слушают его, кивают уже головою, и князь-президент, с нахмуренным челом, макает в чернильницу большое лебяжье перо, чтобы начертать резолюцию суда.
Кругом воцарилось гробовое молчание. Один скрип председательского пера прерывал мертвую тишину. Дописав резолюцию, князь Константин тихонько прочитал ее еще раз своим сочленам, после чего, вместе с ними, приподнялся с сиденья. Все присутствующие шумно сорвались также со своих мест и стоя выслушали приговор, начинавшийся словами:
"Году 1603, месяца июля 22 дня.
Я, князь Константин Вишневецкий, воевода русский, а при мне его царская милость царевич московский Димитрий Иоаннович, патер ордена бернардинов Николай Сераковский, пан Флориан Рымша и пан Ярош Станишевский, смотрели дело о холопе моем Юрие Петровском, aliter Юшка, заочно обвиняемом в подпале церкви христианской закона стародавнего греческого в Диеве, жалосцского повета".
После краткого изложения обстоятельств дела, следовала резолюция суда:
"Ино мы, выслухавши тех очевидцев и речника, за злонамеренный подпал оной церкви, холопа Юрия Петровского, aliter Юшку, на вечную инфамию заочно присудили, ознаймуя всем вообще и каждому в особину, чтобы того запаляча и вора, под винами, в праве посполитом описанными, в домах своих ховать не важилися; утекших же купно с ним холопей: Панька Верещака и Марка Корыта, за самовольный убег, на гнев и милость полномочного пана их, князя Константина Вишневецкого, предали. Что все для памяти до книг головных жалосцского доминиального суда есть записано".
Большинство публики, уверенное в оправдательном приговоре, было положительно озадачено, разочаровано. Но заметив давеча, что самым ярым оппонентом председательствующего был представитель римского духовенства, патер Сераковский, и догадываясь поэтому, что обвинение последовало именно по особенному настоянию последнего, никто не решился заявить вслух своего неудовольствия. Сам князь Адам преклонил голову перед судьями и отдал им справедливость.
– Суд был милостивее, – сказал он, – чем был бы он, может статься, при поджоге латинского костела; но для суда иноверческого, надо признать, то был суд строгий и неумытный.
– А что же храм-то мой? – послышался растерянный голос отца Никандра, стоявшего по-прежнему около распростертого на носилках епископа Паисия.
– И то правда, – подхватил младший Вишневецкий, обращаясь к брату, – сгоревший храм будет, конечно, опять восстановлен?
Тот переглянулся с иезуитом, обвел окружающих властным взглядом и холодно, внятно отчеканил:
– Храм будет восстановлен; но храм уже не восточной церкви, а униатский. Господь попустил сгореть последнему в крае православному храму: не явный ли то перст Божий, что восточная церковь у нас Всевышнему уже неугодна?
– Vivat lesus, vivat Maria! – воскликнул патер Сераковский, и ликования всех присутствующих приверженцев латинства слились с его восторженным возгласом. Толпа придворных хлынула через открытую возным решетку к амвону и с льстивыми поздравлениями окружила сходившего князя-президента.
Князь Адам протискался вперед и готов был еще протестовать; но на плечо ему легла дружеская рука, у самого уха его раздался тихий, успокоительный голос.
– Полноте, любезный князь: и то ведь мы с вами можем быть благодарны.
Он нервно обернулся и увидел около себя царевича.
– Благодарны, ваше величество? Кому? За что?
– Между нами сказать, патеру Сераковскому, – еще тише отвечал царевич, отводя князя в сторону. – А за что? За то, что без него, могу вам прямо засвидетельствовать, поджигатель, наверное, не был бы осужден; без него же храм был бы восстановлен не униатский, а католический.
Князь Адам с горечью сомнительно усмехнулся.
– А ваше величество думаете, что он сделал то и другое не из тонкого расчета?
– Какой же ему мог быть расчет?
– Оправдай вы святотатца, здешние смерды и челядь православного закона, чего доброго, возроптали бы, возмутились бы против своего князя; а того негодяя Юшку чего им обоим особенно жалеть-то? Что же до храма, то построй брат мой сразу католический костел, ни один из людей его, пожалуй, не пошел бы туда. А так этот патер добьется-таки своего, по пословице: тише едешь – дальше будешь. Вон, смотрите-ка, смотрите: к врагам же своим подошел первый, чтобы явить свое истинно христианское смирение и благочестие.
Патер Сераковский, точно, приблизился к двум православным пастырям и медовым голосом своим старался примирить их с мыслью о постройке, вместо православного, униатского храма, объясняя, что "всякая пташка по-своему Бога хвалит, и униатские иереи такие же пастухи, как и православные, в винограднике Божием".
– Пастухи, да! Но такие ль? – запальчиво подхватил отец Никандр, до глубины души, как видно, возмущенный предполагаемым упразднением его православного прихода и не считавший уже нужным взвешивать свои слова. – Сам Господь наш глаголет: "Мнози пастухи погубиша виноградник мой". Пастухи – книжники, а виноград – вера; сколькие же в вере погибают лихими пастухами, особливо же вашею братнею – красноглагольниками, человекоугодниками, волками в шкуре овечьей!
Столь предусмотрительный всегда патер раскаивался уже вероятно в том, что в тонкой тактике своей зашел слишком далеко, протянув руку погубленному им "коллеге", который не умел оценить такой чести. Лицо иезуита на миг побледнело, губы сжались, глаза прищурились и приняли, может быть против его воли, презрительное, почти враждебное выражение. Но он, как всегда, сдержался и, не ответив обидчику своему ни словом, с достоинством отвернулся.
Зато светлейший князь-воевода, выходивший в это время за решетку и услыхавший мимоходом последние слова раззадоренного попа, не дал в обиду своего краковского гостя. Попросив у последнего извинения за причиненное ему под кровлей его оскорбление, он обратился сурово к отцу Никандру со словами:
– Кто волк, кто овца тут, честный отче, – судить не нам: рассудят это в Кракове!
– О, я-то ему от всей души прощаю, – великодушно объявил патер Сераковский с ласковым видом. – Меня, ваша светлость, оставьте в стороне...
– Будь так. Но за укрывательство беглого епископа он подлежит строжайшему суду, и оба они, беглец и укрыватель, ныне же будут отправлены к королю в Краков.
Вечером того же дня в жалосцском замке был устроен роскошный банкет, а затем и танцы. Никому из пирующих не было уже дела до одинокой закрытой фуры, которая во время банкета под усиленным конвоем выехала за ворота замка и повернула на Краков.
Глаза двадцать шестая
ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА
Предчувствие не обмануло Маруси Биркиной: гайдук царевича не погиб в горящей церкви. Когда он сдал только что в окошко бесчувственного епископа Паисия на руки подбежавшим парубкам, и вслед затем обрушившиеся сверху пылающие балки загородили самому ему выход, он соскочил с подставленного к окошку аналоя назад в церковь. Благодаря только тому, что он дал окатить себя перед тем водою, волосы и платье на нем еще не загорелись, хотя и дымились. Весь храм кругом был уже охвачен пламенем, и жар стоял такой палящий, что дух захватывало, голова кружилась. Смерть казалась решительно неизбежной.
Вдруг под ступней молодого человека подалась каменная плита. То была одна из нагробных плит, которыми была выложена середина церковного пола. Михайло – или, вернее сказать теперь, Курбский – вспомнил, что здесь, в церкви же, как слышал он как-то за княжеским столом, были похоронены предки князей Вишневецких. Стало быть, тут, под полом, был фамильный склеп их.
Выбора не было. Мигом, со всем напряжением своих молодых богатырских сил, он приподнял тяжеловесную плиту и соскользнул в зиявшую под нею темную яму. Плита, как гробовая доска, захлопнулась над ним, а сам он, ударившись довольно чувствительно коленом и локтем о крышку стоявшего внизу гроба, отделался только ушибами. Вокруг царствовал непроглядный мрак, и после одуряющей, жгущей духоты вверху, Курбский с жадностью впивал в себя прохладную, хотя и затхлую сырость подземелья.
Надо было поискать лазу: не было ли возможности выбраться на свободу? Подземные ходы были нередкость в таких старинных зданиях.
Курбский ощупью стал пробираться в темноте от гроба к гробу. Вот и конец – каменная стена. Вдоль стены он обошел кругом все подземелье: везде один и тот же плотный камень; фамильный склеп отовсюду крепко замуравлен.
Что делать? Коли Господь судил ему быть заживо погребенным – на то Его святая воля! Меньше жить – меньше грешить... А там, в вышине, ненасытное адское пламя глухо грохочет...








![Книга Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] автора Даниил Мордовцев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ten-iroda-idealisty-i-realisty-22051.jpg)