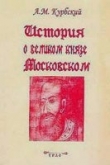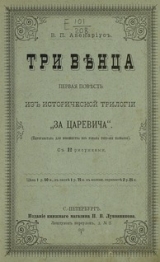
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Где и встретился с тобой? – нагло усмехнулся Юшка.
– Не обо мне теперь речь! – сухо оборвал его Михайло. – Заговорю я – так мне, пожалуй, все же более твоего веры дадут: я – гайдук царевича. Стало быть, знай, молчи, и я промолчу.
– Ин будь по твоему; чего мне болтать? Ловит волк – ловят и волка. А того лучше, может, Михайлушко, коли работать нам, как летось, опять заодно с тобой...
– Никакой работы у меня с твоей братьей доселе не было, да и быть не может!
– Ишь, какой пышный! Чинить я тебе помехи не стану – и ты же мне, чур, не препятствуй. Больше тебе ничего от меня не требуется?
– Ничего... Постой! Скажи мне только еще про царевича: точно ли ты... Да нет, не нужно! – сам себя перебил Михайло. – Заруби себе на носу, что ты мне чужой! А чуть что – неровен час – шутить я, ты знаешь, не стану...
Он сжал руку Юшке с такой силой, что у того пальцы хрустнули.
– Пошел!
Добродушные голубые глаза гайдука сверкнули так грозно, что Юшка, морщась от вынесенной боли, поторопился отойти. Михайло не подозревал, что нажил себе непримиримого врага, не слышал, как тот проворчал сквозь зубы:
– Погоди, дьявол, – ужо посчитаемся!
Когда Михайло последовал за царевичем Димитрием в отведенную последнему опочивальню, когда стал помогать ему разоблачаться, то не мог не заметить мечтательно счастливого выражения лица царевича, а затем уловил слышанную уже им давеча латинскую фразу, которую будто безотчетно прошептал теперь про себя царевич:
– Vivat Demetrius, monarchiae Moscoviticae domenus et rex...
– Что это значит, государь? – спросил гайдук. – Да здравствует Димитрий, господин и царь московский?
Димитрий поднял на вопрошающего задумчивый взор и счастливо улыбнулся.
– Да, братец... Кабы знал ты, как я доволен нынешним днем-то! Скажи-ка, Михайло: хорошо ты помнишь свои детские годы?
Михайло удивленно уставился на царевича и слегка смутился.
– Помню, государь, – с запинкой промолвил он, – но, не погневись, уволь меня пока рассказывать тебе...
– Я спрашивал тебя вовсе не за тем, – успокоил его Димитрий, – я хотел лишь знать, так ли мало памятны другим их первые годы, как мне... Мальчиком ведь я хворал немочью падучей, – пояснил он, – а хворь эта, сказывают, отбивает память. Кое-что помнишь, да словно сквозь думан какой, сквозь сон; не ведаешь, точно ли оно так было, или же наслышался ты от других и сам потом уверовал. Вот потому-то я так благодарен этому самовидцу Юшке, что знал меня еще малым ребенком. Ведь он, кажись, честный малый, говорил по чистой совести? Он так рад был мне, так рад, – прослезился даже; не правда ли?
Михайло был правдив, и на языке его уже вертелось предостережение царевичу: не давать большой веры Юшке. Но к чему бы это послужило? Сам царевич, конечно, не был обманщик, и ему, видно, так хотелось, чтобы показание Юшки еще более подтвердило его собственные показания. Гайдуку стало жаль своего господина, и язык у него не повернулся.
– Правда, – отвечал он.
– А что ты скажешь, Михайло, про эту панну Марину? – спросил вдруг Димитрий, и глаза его заискрились совсем особенным огнем.
– Что я скажу, государь? Пригожица, чаровница, но...
– Но что?
– Но... полячка!
– Что ж из того?
– Привередница; как мысли ее вызнать? И не нашего закона.
– Ну, закон законом, и коли на то уж пошло...
Спохватившись, что, пожалуй, сказал лишнее, царевич не договорил и махнул рукой гайдуку:
– Ступай теперь, Михайло. Чай, шибко притомился тоже? Сон клонит? Я еще помолюсь Богу, а там один уже лягу.
И он опустился на колени перед образом Божьей Матери, подаренным ему князем Адамом Вишневецким и взятым им с собой в дорогу из Вишневца. С четверть часа еще после того Михайло мог слышать из соседнего покоя, как царевич истово молился: клал поклоны и призывал на себя благодать Божию.
Часть вторая
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ
Глава четырнадцатая
ДЕНЬ ВИШНЕВЕЦКИХ
Опочивальня царевича помещалась около одной из угловых башен замка, и окна ее выходили на главный двор. Димитрий, как оказалось, был очень наблюдателен: когда он встал на другое утро, то, одеваясь, не отходил от открытого окна. Отрывочные замечания, которые делал он Михайле, свидетельствовали, что ничего из происходящего на дворе не ускользало от его внимания.
Тут под порталом парадного крыльца показался сам владелец замка, в сопровождении дежурного маршалка. Позади обоих высилась могучая фигура саженного, усатого гайдука, вооруженного нагайкой. Оглядев орлиным взором двор, Вишневецкий вдруг грозно приосанился и величественным жестом указал гайдуку на середину двора. В два прыжка был гайдук на указанном месте и поднял с земли арбузную корку. По зычному окрику светлейшего, со всех концов двора бросилась к нему теперь стремглав с непокрытыми головами дворовая челядь. После краткого допроса, двое из дворовых, ответственные, должно быть, на этот день в чистоте двора, преклонили один за другим спину перед княжеским гайдуком, который отсчитал каждому нагайкой по два десятка "горячих". Сделав еще отеческое внушение остальным, князь Константин, сопутствуемый маршалком и гайдуком, величаво направился к внутренним воротам на задний двор.
Едва лишь князь пропал из виду, как из-за угла соседней башни со злорадным смехом выскочил Юшка.
– А! Да я ведь еще не рассчитался с этим малым! – сказал царевич и окликнул Юшку.
Того так и передернуло: он готов был, казалось, пойти наутек: но, сообразив, видно, что он узнан и делать нечего, отвесил Димитрию земной поклон и осклабился до ушей.
– Подобру, поздорову ли, надежа-государь? Что прикажешь низкому смерду твоему?
– Поди-ка сюда.
– Мигом, батюшка-государь!
Минуту спустя он стоял уже перед царевичем в его опочивальне с полусмиренным, полунахальным видом.
– Я не отблагодарил тебя еще за твое правдивое показание, – сказал Димитрий, подавая ему несколько дукатов.
Юшка жадно принял деньги, шумно пал ниц перед дарителем и припал губами к его сапогу.
– Кормилец ты наш!
Царевич отдернул ногу и отступил на шаг.
– Ты совсем никак ополячился, – промолвил он, – падаешь до ног, хоть сам и русский?
– Чье кушаю, того и слушаю, надежа-государь, – бойко отвечал шустрый малый, поспешно опять приподнимаясь с полу.
– Но чего ты сейчас вот тулялся тут за углом?
– Да как же, родимый, не туляться, коли меч над головой?
– Так другим, стало, за тебя досталось?
– Не то чтобы: не мое нынче дело то было за двором смотреть.
– Но ты, сам, поди, арбузную корку подбросил? Юшка самодовольно усмехнулся, обнажая снова свои красные десна и острые хищные зубы.
– А чего ж они, дурни, не доглядели? Но ты, батюшка, меня же не выдашь?
Царевич свысока только покосился на него и спросил в свой черед:
– Что, князь Константин, каждый день обходит так замок?
– С нагайкой-то? Каждый день, государь, в урочный час, как пить дать! Такой уж обиход, значит. Не мирволить же черному люду? Чу! Слышишь рев-то?
Откуда-то издалека, с задворков, в самом деле долетали болезненные вопли.
– Это на конюшне, – объяснил, лукаво подмигивая, Юшка. – Здорово, знать, опять кому из конюхов перепало! А вон и княгинюшка наша, – понижая голос, прибавил он. – Тоже и-и куда горазда! Распалится гневом – охулки на руку не положит.
Из бокового флигеля показалась, в обществе дежурной фрейлины, княгиня Урсула с бревиарием (молитвенником) в руках.
– Ну, это ты, братец, не дело говоришь, на барыню свою напраслину взводишь! – строго заметил Димитрий.
– Будь я анафема, коли вру.
– Да не видишь, что ли, что она на молитву идет?
– На молитву! Что бревиарий-то при ней? Так она ж его до вечера, почитай, из ручек белых не выпустит, а ночью под подушкой держит. Молельня-то княжеская вона где; а светлейшая наша идет, вишь, вон куда – прямехонько, значит, в девичью.
– Что же она девушек читать заставляет? Аль сама читает, уму-разуму учит?
Юшка закрыл рот ладонью и фыркнул.
– Научит! Переплет-то, государь, у книжицы не видел нешто какой – здоровенный, деревянный, с медными застежками? Ну, так коли им этак по башке-то погладить – не токмо что уму-разуму научишься, а и последнего-то, поди, умишка решишься!
Царевич насупился и молча кивнул Михаиле, чтоб тот подал ему лосиные перчатки и шапку.
– Да это что! – продолжал разговорившийся Юшка, – хошь больно, да перетерпишь, до свадьбы заживет! Нашему брату без такой науки – без лозы березовой, без арапника, а либо батожья, – как без Отче наш, никак невозможно: забалуемся. А вот уж коли за крупную какую провинность запрут тебя в свиной хлев, засадят в волчью яму, да недельку другую голодом поморят, ни росинки маковой в рот не дадут...
Поток злословья разбитного малого долго еще, быть может, не иссяк бы, если бы Димитрий не приказал замолчать болтуну и не удалился сам из опочивальни.
Михайле, по крайней мере, не хотелось верить вначале, чтобы все было так, как расписывал Юшка. Благодаря именно княгине Урсуле, весь быт в замке был проникнут неуклонным благочестием. После легкой утренней закуски все домочадцы, как "латынцы", так и "схизматики", чинной процессией двинулись в домовую церковь к обедне. Служили ее совместно оба патера в своих нарядных белых ризах с епитрахилью на плече. Перед ними шел прехорошенький мальчик-паж, звоня в колокольчик. Среди богатой церковной обстановки, озаряемой проникавшими снаружи сквозь цветные стекла готических окон солнечными лучами каким-то празднично-волшебным светом, торжественные звуки органа на хорах настраивали религиозно и "схизматиков". Так, Маруся Биркина, как "схизматичка", стоявшая поодаль от "верующей" панны Марины, крестилась не менее усердно, как ее панночка, и ни раз не подняла глаз, не оглянулась. При чтении Евангелия, все мужчины-поляки, по стародавнему польскому обычаю, накрылись шапками и наполовину обнажили сабли из ножен, в доказательство всегдашней готовности пролить свою кровь за веру и Речь Посполитую. Но всех истовее молилась сама светлейшая: она без устали нервно перебирала четки, без отдышки в который раз шептала про себя "аже мачиа". Дочтя молитву, она только наскоро переводила дух и с каким-то фанатическим увлечением явственно начинала ее сызнова:
– Angelus Domini nunciavit Mariae...
Когда затем патер Лович взошел на амвон и прочел вдохновенную проповедь о муках ада, княгиней овладел духовный экстаз; она вдруг распласталась на полу крыжем (крестом) и принялась стукаться лбом о каменные плиты.
Впрочем, такое богомольное настроение у светлейшей подчинялось также условиям времени и места. При выходе из церкви она не преминула внушительно прикоснуться к щеке одной из камер-юнгфер, которая прозевала оправить отвернувшийся у нее шлейф платья. Когда же дежурные маршалки и пажи повели дам в столовую к обеденному столу, и паны по чинам пошли за ними следом, молитвенник княгини перешел в руки капеллану, который прочел по нему установленную молитву.
Накануне, за ужином, в новой обстановке у Михайлы глаза разбегались, внимание рассеивалось. Теперь, за обедом, стоя точно также за стулом царевича, он мог (по крайней мере, вначале) наблюдать за трапезующими гораздо спокойнее, беспристрастнее. Так успел он еще ближе приглядеться к тому образцовому этикету, которому пан Тарло произнес вчера такой восторженный дифирамб. Стоило только княгине Урсуле милостиво улыбнуться чьей-либо остроте, как весь женский штат ее заливался также одобрительным смехом, который тут же подхватывался мужчинами и звучно перекатывался до другого конца стола. Стоило ей, напротив, после душеспасительной сентенции одного из патеров, со вздохом поднести кружевной "фацелет" к глазам, как весь дамский хор также доставал платочки и испускал сочувственные вздохи. Мужчины в последнем случае ограничивались тем, что, покрякивая, опорожняли свои пугары (высокие кружки) и кубки, которые услужливыми слугами тотчас, конечно, доливались опять до краев.
"Рыцарское" внимание к светлейшей хозяйке не мешало, впрочем, столующим панам меняться мыслями относительно более насущных для них предметов, как, например, относительно ожидаемого урожая.
Несмотря на крестьянское происхождение Михаилы, сельские темы почему-то не особенно его занимали, и он охотнее приглядывался к тому, как вели себя те немногие присутствующие, которые успели возбудить его интерес.
Панна Марина продолжала по-вчерашнему приковывать внимание царевича. Не то, чтобы она сколько-нибудь напрашивалась на это внимание. Нимало! В отношении к нему она была, пожалуй, еще сдержаннее, говорила почти исключительно с особами своего пола, а на одно слишком развязное замечание пана Тарло ответила так гордо и колко, что тот прикусил язык и, в отместку, обратился к Марусе Биркиной.
Хорошенькая москалька не на шутку, казалось, заняла самонадеянного щеголя: она так мило менялась в лице, так забавно путалась в ответах... Не мог он знать, конечно, что смущение ее происходило сегодня от совершенно особенной причины. Дело в том, что и намедни уже рослая, молодцеватая фигура красавца-гайдука за стулом царевича не осталась не замеченною ею: был же он русский, как и она, земляк ей, почти родня! И с лица-то он, что ни говори, на холопа ничуть не похож: скорее какой-то сын боярский; ни одному из здешних вельможных панов видом не уступит. Вчера еще она втайне стыдилась перед всем этим надменным панством своего русского происхождения; вчера еще она была бы куда как рада такому вниманию самборского "рыцаря", пана Тарло; а теперь – теперь она и не слушала бы его! Что это, право, с нею? Верно, "земляк" напомнил ей так родину ее...
Безотчетно глянула она опять на "земляка", и взоры их встретились...
Пан же Тарло, принимая замешательство молодой москальки на свой счет, стал с нею еще любезнее. Михайло, искоса посматривая на обоих, хмурился и был очень доволен, когда светлейшая хозяйка наконец поднялась с места, и обедающие по чинам стали подходить к ее ручке.
– Как тебе, Михайло, здешнее житье-бытье показалося? Не то, небось, что у нас на Руси? – милостиво спросил гайдука царевич, располагаясь у себя на оттоманке. – Аль путем еще не огляделся? Ступай же с Богом. Я отдохну часок, а там князь хотел показать мне свои конюшни. До подвечерка ты мне не нужен.
Хотя Михайло за утро кое к чему уже пригляделся, но с благодарностью воспользовался данной ему царевичем свободой: ему все еще мерещилась нахально улыбающаяся, "дьявольски красивая рожа" пана Тарло (по крайней мере, про себя он не мог назвать ее иначе) рядом со стыдливо поникшей, девственно-чистой головкой Маруси Биркиной; надо было забыться, стереть их обоих из памяти.
Он пошел бродить по замку. Разных переходов, коридоров и лестниц в старинном жалосцском замке было так много и переплетались они так часто, что чужому человеку, а тем более такому рассеянному, каким был теперь Михайло, не мудрено было заблудиться. Сам не зная как, он очутился в подземном жилье, где помещалась княжеская прислуга. Посреди длинного, полутемного коридора, куда выходили отдельные каморки слуг, столпилась кучка ребятишек вокруг ливрейного толстяка лакея.
– Мне, батьку! А мне-то что же? – перекрикивали они друг друга, насильно вырывая один у другого из рук всевозможные сласти с панского стола пряники марципанные, винные ягоды, орехи грецкие и волошские, изюм да миндаль, которые батько их выгружал из туго набитых карманов.
Увидев гайдука царевича, запасливый родитель во весь рот усмехнулся.
– Вот принес Бог гостя нежданного да желанного! – сказал он и растолкал ребят. – Ну вас совсем, бисовы дети! Добро пожаловать, дорогой гость! Заедки, вишь, ребяткам припас, не одним же панам банкетовать. Да ровно знал, что ты тоже заглянешь в нашу берлогу: нарочно "золотую" фляжину прихватил. Знатное, друже, винцо! Я чай, не откажешься пригубить?
Из заднего кармана его появилась заморская фляга за золотою печатью.
Михайло поблагодарил за "уваженье", но отговорился тем, что торопится-де по поручению царевича, да, вишь, ненароком забрел сюда, и просил дать ему с собой "мальца", который вывел бы его на вольный воздух. Новый ливрейный знакомец не без видимого сожаления отпустил редкого гостя, но обещался приберечь "золотую фляжину" до другого раза, посулив раздобыть тогда для него и меду игристово, и браги похмельной.
Выбравшись из лабиринта замка на заднее крыльцо, Михайло сошел в парк. Первое лицо, попавшееся ему тут, была Маруся. Ускоренным шагом вела она под уздцы златорогого козлика, запряженного в нарядную детскую тележку. В самой тележке сидели двое детей князя Адама Вишневецкого. Увидев гайдука царевича, Маруся закраснелась и, понукая козлика, поспешила мимо. Михайло, посторонившись, чтобы дать им дорогу, невольно опять загляделся вслед девушке.
Глава пятнадцатая
НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЮТ ИЕЗУИТЫ
С полчаса уже лежал Михайло в траве, позади небольшой беседки, под тенистым кустом жимолости. За густою зеленью беседки и куста никому и в голову не могло бы прийти подозревать его присутствие. Лежал он с закрытыми глазами и хотел забыться; но все пережитое им с утра пестрым калейдоскопом мелькало перед его внутренним зрением.
Тут до слуха его донеслись два мужские голоса, говорившие по-польски.
"Никак это два патера? – подумал Михайло. – Гуляют, знать, и сейчас пройдут мимо".
Он старался не шелохнуться, чтобы остаться незамеченным. Но голоса стали совсем явственны и уже не удалялись: патеры вошли в беседку, и по шелесту листьев можно было догадаться, что кто-то раздвигает ветви, чтобы удостовериться, нет ли кого поблизости.
– Никого! – говорил патер Лович. – Это, как вы знаете, clarissime, мой излюбленный уголок: здесь ничто не мешает мне после мирских сует предаваться моим духовным медитациям.
– Подобные медитации в нашем звании, несомненно, полезны, – отозвался, патер Сераковский, – чтобы изо дня в день изыскивать способы к прославлению общины Иисуса и к возбуждению в мирянах благоговения перед ее чудесами и всемирной властью.
– Виноват, clarissime, – прервал патер Лович, – но ведь мы же с вами тайные члены общины, и явно пропагандировать ее – не значит ли выдать себя головой?
Михайло насторожился: "Как! Они тайные иезуиты?!" Когда патеры вошли только что в беседку, он был еще в нерешимости: не показаться ли ему из-за куста? Теперь же он решился не шелохнуться, не дохнуть: соблазн был слишком велик подслушать беседу с глазу на глаз двух членов опаснейшего для православия духовного союза.
Патер Сераковский, очевидно, принял на себя в отношении к младшему собрату роль ментора и отвечал ему на вопрос с дружелюбной иронией:
– Как вы юны еще, коллега! Кто же велит вам поднимать сейчас перед всяким непосвященным ваше забрало? Отбивайтесь боковыми ударами.
– Как же так?
– Да так. Вы можете, например, выражать сердечное сокрушение, что вот-де орден иезуитов приобрел такую силу, что даже у язычников самых отдаленных мест Азии, Америки одни только иезуиты имеют безусловный успех; но что, по правде сказать, они-то более всех до самозабвения и преданы своему христианскому долгу: отказываясь сами от всяких благ земных, самоотверженно посвящают весь век свой на утешение грешных и страждущих, сирых и убогих. С тем же завистливым сожалением вы можете упомянуть тут о небывалых индультах, дарованных иезуитам папами; особенно же упирайте на индульгенции – на право наше за самые тяжкие преступления налагать самые легкие наказания и даже вовсе отпускать грехи, – все, конечно, только во имя любви Христовой.
– Понимаю, – раздумчиво промолвил младший иезуит, начиная, казалось, усваивать себе поучения старшего собрата.
– Всего податливее миряне, разумеется, на исповеди, – продолжал патер Сераковский, – и тут-то, когда они так расположены к откровенности, всего легче также выведать у них их имущественное и семейное положение, их самые сокровенные помыслы и желания. Но у людей простых и ограниченных (а таковы ведь большинство людей!) ловкому диалектику и казуисту есть возможность и во всякое вообще время выпытать всю подноготную не только относительно их самих, но о чем и о ком угодно, особенно под действием винных паров: in vino Veritas (в вине правда). При этом я рекомендовал бы вам, друг мой, не пренебрегать и прислугой: от нее то как раз мне доводилось узнавать такие тайны их господ, такие общественные, даже государственные тайны, что я диву давался, волос у меня дыбом становился!
– И мне тоже случилось еще нынче... – ввернул с живостью патер Лович и вдруг осекся.
– Что вам случилось, друг мой?
– Нет, нет! У меня невзначай как-то с языка сорвалось... Неблагородно было бы злоупотреблять чужою оплошностью...
– Расскажите наперед в чем дело, а там вместе решим: благородно, нет ли. Тайна эта имеет также не частное, а общее значение?
– Н-да...
– Не религиозное ли?
– И религиозное.
– В таком случае умолчать, сохранить ее про себя было бы с вашей стороны по меньшей мере легкомысленно.
– Но я же узнал ее, повторяю, совершенно негаданно, случайно...
– И благодарите Всевышнего, что Он избрал вас именно своим орудием. Вопросы общие, а тем паче религиозные решать единолично вы генералом нашим не уполномочены. Как высший чин общины, я требую теперь от вас, fater reverende, полной откровенности! Извольте говорить, в чем дело?
Короткое молчание, последовавшее за этим, свидетельствовало о некоторой внутренней борьбе, происходившей еще в младшем иезуите между долгом совести и формальным долгом. Но сообразив, вероятно, что противиться орденским постановлениям все равно было бы бесполезно, он со вздохом покорился неизбежному.
– Как вам известно, – начал он, – я не без успеха пропагандирую нашу римскую веру между здешними княжескими холопами. Один из новейших моих прозелитов, который не нынче завтра перейдет в лоно нашей церкви, – Юшка, тот самый хлопец, что вечор указал приметы московского царевича.
До сих пор Михайло прислушивался к беседе иезуитов только из любознательности. Теперь же, когда зашла у них речь о какой-то тайне, которую личный враг его, Юшка, выдал меньшому иезуиту, сердце в груди его екнуло, кулаки сжались: он был почти уверен, что услышит сейчас свою собственную тайну.
Но он ошибся. Услышал он нечто другое, от чего, однако, в душе его поднялась не меньшая буря.
– Так что же выдал вам этот Юшка? – спросил патер Сераковский, когда младший собрат его на минуту опять примолк.
– Что... в доме здешнего попа, отца Никандра, нашел будто бы refugium (убежище) от преследования властей епископ веноцкий Паисий...
– Паисий? Этот ярый, отъявленный схизматик! И имея в своем распоряжении такую драгоценную весть, которая отдает в наши руки и его, и самого Никандра, а с ним, значит, и все православное в воеводстве, – вы молчите!
– Да ведь все это, clarissime, еще одни только слухи, и если бы они даже подтвердились, то можно ли особенно винить отца Никандра, что приютил он у себя бездомного брата церкви? А этот Паисий низложен, в бегах, стало быть – уже безвреден...
– А кто же отвечает вам за то, что он не выступит опять где-нибудь открыто, не станет опять мутить эту безмозглую чернь? Безвреден! А сколько вреда он нанес уже нам до сих пор! Нет, эти ядовитые плевелы Должны быть вырваны с корнем! "Censio Schismam delendam!", – повторял Катон каждодневно в сенате. "Censio Schismam delendam!" – должен быть наш боевой крик. Благо вам, юный друг мой, что все же не утаили от меня вашей тайны; а не то, дойди она до меня стороною, я обязан был бы не медля донести в Рим.
– Но теперь, ведь, не донесете? – тревожно вопросил патер Лович. – Будьте великодушны!..
– На сей раз, так и быть, из особого только благоволения к вам, умолчу. Но времени терять нечего. Нам требуются по меньшей мере два мирские сообщника, два очные свидетеля – testes oculares, которые вместе с тем служили бы нам надежным щитом. Одним из них мог бы быть пан Тарло: он теперь наш покорнейший раб. Другим разве взять здешнего майор-домуса, пана Бучинского?
– Только не его, clarissime!
– Почему же нет?
– Потому что пан Бучинский, хотя тоже верный католик, коренной поляк, но слишком... как бы сказать...
– Слишком совестлив тоже, подобно вам? Да, вы правы. Тут нужно орудие самое послушное, бессловесное. А что, каков ваш Юшка?
Патеру Ловичу не пришлось ответить. С аллеи перед беседкой, где совещались два иезуита, раздались звонкие голоса и легкий шум колес. Михайло за своим густым жимолостным кустом ничего не мог видеть, но он явственно расслышал голос Маруси Биркиной. Она извинялась перед патерами, что в этой самой беседке ей довелось уже как-то сказывать сказки княжеским деткам, и те вот пристали, чтобы здесь же рассказать им новую сказку.
– А вы, дочь моя, такая искусная сказочница? – с благодушною шутливостью спросил старший патер. – Какая жалость, право, что нам нет времени послушать вас! Но в следующий раз, позвольте надеяться, вы не обойдете нас? Идемте, reverendissime!
"К царевичу!" – было первою мыслью Михайлы, когда две темные фигуры иезуитов промелькнули между зеленью вверх по аллее. Он осторожно приподнялся на локоть; но при этом из-за частой листвы беседки на глаза ему попались болтавшиеся ножки усевшегося уже на скамейку маленького княжича. Совсем встать он поопасился, и так же неслышно припал снова за свой куст.
– Садись вот тут, ко мне, Муся, – говорил княжич.
– Нет, ко мне! – ревниво подхватила маленькая княжна.
– К обоим вам, деточки, по самой середке. Ах, вы, мои приветные! – ласково отвечала Маруся, польщенная, видно, такою привязанностью к ней двух княжеских малюток.
Тут княжна внезапно заполошилась.
– Ай! Ай!
– Чего ты вспорхнулась, мое серденько? – успокаивала ее Маруся, – ведь это ж не шмель, а жук!
Михайло в самом деле расслышал оттуда басистое гудение жука. Маруся же продолжала:
– Летит жук да шумит: "Убью!" Гусь гогочет: "Кого?" Теленок мычит: "Ме-ня!" А уточка поддакивает: "Так! так! так!"
Дети рассмеялись и стали наперерыв повторять прибаутку.
– А хочешь, Маруся, я тебе загадку загану? – спросил княжич.
– Ну?
– "Летела птаха мимо Божья страха, – ах, мое дело на огне сгорело". Что это? Ну-ка, скажи.
– Что бы это могло быть?.. Говорила, как бы соображая, Маруся. – Не пчела ли и церковная свеча?
– Как это ты угадала?
– Какой ты глупишка, Котик! – нетерпеливо прервала его сестрица. – От самой же Муси давеча слышал...
– Так у меня есть еще другая...
– Да ну же! Муся нам ведь сказку сказывать хотела...
– Ах, да, сказку, сказку!
– Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли... – начала Маруся.
Сказка была одна из тех старинных и все же вечно юных, безыскусственных и в то же время наивно-замысловатых народных сказок, которых главную прелесть составляют их здоровый юмор и образные обороты речи. Хотя Михаилу не покидала еще мысль, что ему надо незаметно встать и идти к царевичу, но словно какая-то необоримая сила приковала его к земле.
Он заслушался – и не самой даже сказки, давно ему знакомой, а звучного голоса молодой рассказчицы.
Окончить, однако, свою сказку Марусе на этот раз не было суждено, и виновником в том был никто иной, как он же, Михайло. Уткнувшись лицом в густую траву, он нечаянно-негаданно втянул в нос какую-то мелкую букашку – и чихнул громогласно. Легко представить себе, какой это вызвало переполох в беседке. Дети с визгом выскочили вон на дорогу. Менее пугливая Маруся заглянула за беседку, и смешавшись, остолбенела, зарделась кумач-кумачом: перед нею стоял взъерошенный, со смущенной улыбкой, великан-гайдук царевича. Недослушав его путанного извинения, она упорхнула к детям, наскоро усадила обоих в тележку и ускоренно погнала запряженного в тележку козлика к замку.
"Ах, как глупо! Боже, как глупо! – говорил сам себе Михайло. – И хоть бы толком по крайней мере объяснил ей; а то на первом же слове, вишь, сбился... Ну, да теперь не до нее. К царевичу!"
Царевич отдыхал у себя, но при входе гайдука открыл глаза. Тот доложил ему сущность подслушанной им знаменательной беседы двух патеров-иезуитов.
– Умно и красно, – задумчиво промолвил Димитрий. – Что оба они иезуиты – ни я, ни ты никому, конечно, не выдадим.
– Почему же нет? Кабы сведал только князь здешний...
– Ничего б из того, поверь, не вышло. Торопок ты больно. С иезуитами, братец, тягаться не рука. От них же, я так чаю, будет мне однажды в Кракове большая помога.
– Но это же, государь, осиное гнездо...
– Вот то-то ж: ворошить его нам не задача. От их укола ничем себя не оправишь; с ними надо держаться сторожко.
– Твоя воля, государь. Не возьми во гнев, негоже мне, может, выговаривать; но достохвально ли тебе, царскому сыну, мирволить этим пакостникам, предавать в их нечистые руки нашего православного святителя?
– Зачем предавать? Может, он и без меня стороной как-нибудь про все прознает.
– Стороной?
– Да, повещен кем будет... может, нынче даже, до вечера. Я тебе ведь давеча поминал, что до подвечерка ты мне не нужен. Ступай же куда тебе твоя совесть велит. Куда ты пойдешь, что у тебя на уме – я не знаю и знать не хочу. Никто тебя не нудит, никто никуда не шлет: слышишь? Но и к ответу никто требовать не станет. Ни наказа тебе нет, ни запрета. Зато коли раз что неладное учинится – ты один во всем в ответе. Уразумел ли?
– Не сразу уразумел, государь, прости. Этак-то оно, точно, поваднее будет. Благослови тебя Господь!
На дворе Михайло остановил первого встречного прислужника, чтобы справиться о ближайшей дороге в Диево.
– В Диево? – переспросил тот. – Да сейчас вот только панночка эта приезжая, Марья Гордеевна, прошла туда; к больным да убогим своим, знать, опять собралася.
– К больным да убогим?
– Да, друже; сердцем-то она, вишь, больно добрая, жалостливая. Как выйдешь за ворота на подъемный мост, заверни налево в поле – еще, может, нагонишь.
И точно, как только гайдук выбрался через подъемный мост в чистое поле и зашагал между сжатыми полосами жита, в отдалении перед собою он завидел Марусю. С корзиной через руку, она стройная, воздушная, казалось, не шла, а неслась веред, не касаясь стопой земли, а сама весело распевала песню, не чуя, конечно, что кто-нибудь ее слышит.
"Ага! по-русски поет. Не совсем, стало, еще ополячилась. Аль нагнать, поклон от дяди передать? Да нет! Не помыслила бы неравно..."
Маруся тем временем шла вперед да вперед. На ходу она наклонилась, сорвала придорожный пунцовый мак и вплела себе в толстую русую косу.
Вот кончились поля; пошел темный дубовый бор. То-то чудно в нем в экой летний зной, то-то прохладно, укромно! А вот и бору конец. У самого бора – кузня: из трубы черный дым валит, а перед пылающим горном кузнец стоит, мехи раздувает.
Михайло, подавив вздох, остановился на опушке и выждал, пока Маруся, обменявшись с кузнецом приветствием, скрылась за низкою дверью хаты. Тогда он большими шагами продолжал путь по лежавшей впереди его аллее к видневшейся в отдалении на холме Церкви.