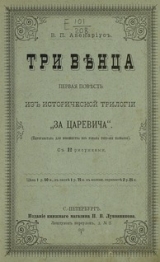
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Дальнейших слов обоих Маруся уже не расслышала; но одно ей было ясно: что последнее убежище свое преосвященный Паисий нашел в святилище храма, и что панна Марина, вместе с нею, слышала разговор удаляющихся. Но поняла ли их панночка так же, как поняла она? Ведь о кознях патеров ей вряд ли что ведомо? Надо было притвориться, отвести глаза.
– Ах, какие же мы с вами трусихи! – рассмеялась Маруся. – Батюшку чуть не за грабителя приняли...
– Н-да... – как-то нерешительно отозвалась панна Марина.
– У меня и из ума-то вон, что дары святые вносятся у нас в храм в новолуние... – продолжала болтать Маруся, а сама про себя подумала: "Что я горожу такое! Господи, отпусти мне мое кощунство!" – А что, панночка моя, подслушаем еще у дверей, аль нет?
– Нет, детка моя; всякую охоту отбило.
На возвратном пути Маруся прилагала все старания, чтобы отвлечь мысли своей панночки от того, что слышали они на погосте, и, по-видимому, ей это удалось, потому что панна Марина на шутки ее отшучивалась, правда, довольно рассеянно, о слышанном уже не заикнулась, и сама же взяла с подруги слово отнюдь ни душе не проболтаться о их ночной прогулке, чтобы как-нибудь до ушей царевича не дошло.
"Ну, и слава Богу! Кажись, ни о чем не домекнулась, – соображала про себя Маруся, – сама, небось, боится огласки: стало, промолчит; на утро же дам знать через Бурноса отцу Никандру..."
Исполнить свое намерение, однако, ни поутру, ни после ей не было уже суждено.
Глава двадцать вторая
НОРОВ БИРКИНЫХ СКАЗЫВАЕТСЯ
Прибытие в Жалосцы московского царевича было для всего панства червонно-русского воеводства своего рода событием. Дав царевичу сутки с лишком на отдых после дороги, местные магнаты теперь с самого утра стали гурьбой наезжать в замок князя-воеводы поглазеть на царственного гостя, да и себя, кстати, показать. Весь замок наполнился приезжими; а так как в числе их были и пани, и паненки, то панна Марина, естественно, ни на шаг не отпускала от себя своей любимой фрейлины Маруси.
В довершение всего, и к самой Марусе пожаловал ожидаемый уже гость – дядя ее, Степан Маркович Биркин. Приютив его кое-как в надворной пристройке замка вместе с его разбитным вожатым, запорожцем Данилою Дударем, она поспешила опять к своей панночке. Отлучиться, при таких обстоятельствах, на более продолжительное время к кузнецу Бурносу, не возбуждая подозрения, – ей пока и думать нельзя было. Она рассчитывала, впрочем, сделать это еще как-нибудь между обедом и подвечерком: ведь раньше-то сумерек выбираться преосвященному Паисию из церкви все равно не пришлось бы. Чтобы панночка ее объяснялась уже с патерами – она не успела заметить но за обедом ей показалось, что иезуиты обменивались между собой, а также с паном Тарло, какими-то загадочными взглядами, – и молодая девушка не могла просто дождаться конца столованья, которое, по случаю множества тостов, затянулось еще долее обыкновенного.
Наконец, задвигали стульями и разбрелись по всему замку, чтобы в сладкой дремоте на досуге переварить грузную трапезу до следующей оказии – подвечерка.
Тем временем Биркин Степан Маркович, хмурый и сердитый, большими шагами расхаживал по своей горнице.
– Ай да племянница! Ай да заботница! – говорил он. – Дядя хоть ложись, с голоду околевай, а она и ухом не ведет, ей и горя мало! Сходил бы, Даничко, что ли, проведал: долго ль они, паны эти, еще бражничать будут?
Не скоро добрался бы до цели своей запорожец, которого в его неказистом дорожном наряде привратник наотрез отказался пропустить в замок, если бы, на счастье свое, он случайно не наткнулся тут же, при входе, на гайдука царевича. Михайло обрадовался ему, как старому знакомому.
– Ты ли это, Данило?
– Он самый, – был ответ, и они трижды обнялись и поцеловались.
– Слышал я, друже, слышал, как ты в люди-то вышел. Ишь ты, на радостях даже виршами говорить стал! – сам себя похвалил Данило.
– От кого ты слышал-то?
– От кого, как не от этой племянницы купчины моего. Ай, девка! (Запорожец от удовольствия, как кот, зажмурился и причмокнул). И как ведь радехонька была твоему, братец, гостинцу...
– Моему гостинцу?
– Ну да, тому туренку-сосуну, что Степан Маркыч намедни от тебя через жида в корчме раздобыл. "Дяденька, миленький, отец родной!" – присела это наземь к сосуну, и ну его ласкать, миловать. А как проведала еще, что от тебя получен, так ровно ошалела: "Ах, ты, серденько мое, матусенька моя!" Да давай его в морду целовать: ей-Богу, не вру! Индо глядеть было потешно да весело. "Эге – думаю себе, – не даром, знать". Дядю-то она, с панами бенкетуя, совсем-таки, вишь, забыла, а он с голоду злобится, на стену лезет.
– Сейчас велю сказать ей. Ступай себе, Данило. Верно, не заставит себя ждать.
И точно: едва только Марусе присланная к ней Михайлой прислужница напомнила о проголодавшемся дяде, как она опрометью бросилась на княжескую "пекарню" и, вопреки установленному порядку, с бою, так сказать, забрала там для дяди всяких снедей и питий.
– Здравствуйте, чарочки, мои ярочки! Здорово, кружечки, мои душечки! Каково поживали, меня поминали? – говорил Данило Дударь, с видом знатока разбирая расставленные перед ним и его патроном на столе разной величины глечики и фляги, кружки и чарки. – Ну-ка, Степан Маркыч!
Степан Маркович ограничился одной чаркой зелена вина – старой водки, чтобы затем с волчьей алчностью накинуться на съестное.
Маруся так усердно подавала ему одно сытное блюдо за другим, подливала ему то того, то другого хмельного напитка, что когда дело дошло до "заедков": маковников, медовиков, пампушек, – Биркин, тяжело отдуваясь, решительно отодвинулся с креслом от стола.
– Уф! Не приставай: и так на убой откормила... Как погляжу я, девонька, захлопоталась ты для дяди-то, и хозяюшка из тебя преизрядная вышла. Пора, знать, сожителя выбрать.
Племянница порывисто воззрилась на него.
– Ты что это, дядя? Про что говоришь-то? Запорожец, продолжавший еще трапезовать, с полным ртом обернулся к ней и подмигнул лукаво.
– Заневестилась, брат, пора на торг везти.
– Был бы товар, а покупатель найдется, – досказал Биркин. – Покойный родитель твой тебя, слава Богу, тоже не в одной сорочке оставил; и собой ты, девонька, грех сказать, не уродом родилась.
– Еще бы! – принужденно рассмеялась Маруся. – Такое сокровище! Нарасхват возьмут!
– Небось, – заметил опять Данило, – у дяди-то твоего и покупатель свой есть уже на примете.
Девушка обомлела; во взоре ее блеснул недобрый огонек.
– Правда это, дядя?
– Чего тут долго в жмурки играть: есть.
– И я его знаю? Уж не Илья ли Савельич?
– А хошь бы и он.
– Нет, дяденька; за него я не пойду! Не пойду!
Высокая, стройная, она стояла посреди горницы, закинув назад головку и вытянув перед собой обе руки, словно отталкивая от себя немилого жениха; отдавшись порыву негодования, она гневно поводила кругом искристыми очами. Запорожец просто загляделся на нее.
– А хороша девчина, Степан Маркыч, ой, хороша!
– Да уж породы Биркиных, одно слово, – сказал Степан Маркович, сам невольно залюбовавшись на племянницу. – И норовиста же, одначе, как Биркина: все делай, мол, по ней, как ей в башку забрело. Только ведь я, голубушка, не забудь, такой же Биркин, и что раз у меня сказано, то свято.
– Илья-то, точно, противу такой крали из себя-то куда неказист, – вступился Данило.
– Кого ей еще: Бову-королевича, что ли! Мужчина, коли немножко показистее черта, так уж и красавец.
– Да коли сам он не люб мне! Не пришли за мной тогда панночка моя колымаги, так меня бы на белом свете уже не было, давно бы утопилася! А что он с покойным-то тятенькой проделал!
– Знамо, спасибо не за что сказать; около дела вашего руки-таки погрел, – должен был согласиться Биркин. – Травленая лиса!
– Ты, дядя, словно его еще одобряешь!
– Одобрять не одобряю, а честь отдать – отдам: ловкач! Стало, плохо лежало. Так кто тут больше-то виноват: он, или родитель твой, не тем будь помянут? Но опутал он нас с тобой так, что ни тпру, ни ну. А выйдешь за него, так к тебе же твое все разом и вернется. Приручишь его, так станет он у тебя по ниточке ходить. И будешь жить да поживать, в богатстве, да в холе...
– Не с богатством, дяденька, жить, а с человеком. Смилуйся, не мучь ты меня, не делай меня навек несчастной! Не прихоть это у меня... Не хочу я вовсе замуж – ни за Илью Савельича, ни за кого в мире... Лучше в девках останусь... Миленький, добрый ты мой!..
Голос девушки оборвался. Она с мольбой сложила руки; на ресницах ее блеснули слезы.
Подгулявший казак украдкой сочувственно подмигнул ей опять.
– Хе-хе-хе! "Ни за кого в мире!" – повторил он. – "Лучше в девках останусь!" Сказал бы я словечко, да волк недалечко...
Маруся вспыхнула и смущенно потупилась.
– А? Что такое?! – нахмурясь, возвысил голос Степан Маркович, подхвативший их взгляд. – Коли так, то напрямки уже тебе, милая, отрежу: добро твое – все едино, что добро мое, что добро всех нас, Биркиных, и я по совести не хочу, да и не могу, из-за девичьей дури твоей, добро это в чужих руках оставлять! Ты выйдешь за Илью Савельича – и вся недолга!
Маруся отерла уже рукавом свои слезы и гордо выпрямилась.
– Так и я же напрямик скажу тебе, дядя: я не выйду за него!
Долготерпение сдержанного вообще Биркина истощилось. Лунообразное, загорелое, с сизоватым отливом, лицо его приняло багровый оттенок; жилы на висках его налились; он опустил полновесный кулак свой на стол с таким глухим треском, точно то была пудовая гиря.
– О-го-го! Так ты вот как, сударыня! Разговаривать со мной стала, а? Нет, ты, видно, дядю своего, Степана Маркыча, еще не знаешь: коли он в сердце войдет, так ау, брат! Берегись, девонька, берегись, говорю тебе, не раздражай меня...
Душевное волнение после сытной трапезы было тучному купчине не под силу: задыхаясь, он схватился вдруг за грудь и закатил глаза – с ним сделалось дурно. Племяннице и запорожцу стоило немалого труда привести его снова в чувство. Но обморок его, по крайней мере, оборвал семейный раздор и не дал биркинскому норову выйти из крайних пределов: щекотливая тема пока не возобновлялась, и между дядей и племянницей наступило временное затишье.
Глава двадцать третья
В ОГНЕ И В ПОЛЬШЕ
Тяжелые оконные занавеси в опочивальне царевича Димитрия были уже опущены; сам царевич укладывался в свою пышную, поистине царскую постель и беседовал опять с прислуживавшим ему при этом молодым гайдуком.
– Так он, стало быть, надежно укрыт? – говорил Димитрий. – Очень рад! Где он укрыт – мне знать не нужно; это ты держи про себя.
– Надежно-то, надежно, государь, – начал Михайло, – но ежели бы ты ведал...
– Повторяю тебе, братец, что ничего более я знать не желаю! – властно перебил его царевич. – Имея дело с князем Константином, с иезуитами, я, чего доброго, еще выдал бы себя; а так, по малости, моя совесть перед ними спокойна и чиста.
В это время из-за окон, со двора раздались гулкие удары набата, донеслись звуки смешанных голосов.
– Что это? Уж не пожар ли? – сказал, прислушиваясь, царевич. – Погляди-ка в окошко.
Михайло бросился к окну и откинул занавес. Все небо в сторону села Диева было залито алым заревом; широкий княжеский двор внизу, за полчаса назад еше погруженный в полный мрак, был озарен ярким отблеском неба и кишел княжескою челядью.
– Пожар! – отвечал гайдук. – И никак в Диеве... Уж не иезуиты ли опять.
– Ну вот!
– Нет, государь; тебе за разговором, вестимо, не до них было; я же хорошо подметил, как они за ужином шушукались меж собой, да с паном Тарло то и дело переглядывались. Что-то тут, верь мне, неладно. Сердце мое словно чует, что не село даже, а дом отца Никандра, либо сама церковь его горит. Дозволь мне, государь, бежать туда!
– Беги; но чур, не забывай, что ты – гайдук мой. На дворе от зарева было светлее сумерек. Сквозь бестолково суетившуюся там толпу Михайло протолкался к выходным воротам. На подъемном мосту налетел на него всадник, в котором он, к немалому удивлению своему, узнал пана Тарло. Завидев бежавших навстречу ему людей, тот, не желая обращать на себя внимание, соскочил наземь и, не заботясь уже о своем коне, скрылся за деревьями парка. Один дворовый схватил было уже панского аргамака под уздцы; но Михайло вырвал у него повод, сам вскочил в седло, повернул коня и гикнул. Конь был в мыле, но, не остыв еще от быстрого бега и почуяв на себе снова лихого наездника, помчался во всю свою конскую прыть.
Подозрение Михайлы, что пан Тарло сообща с иезуитами, затеял опять что-нибудь на пагубу последних двух поборников восточной церкви в крае, обратилось в нем почти в уверенность. Но много размышлять об этом теперь не приходилось: надо было спасать!
При изгибе дороги в лесной чащине он увидел в некотором отдалении перед собою скачущего в том же направлении другого всадника. По небольшой стройной фигуре он тотчас признал в нем пана Бучинского. Ну, понятное дело, этот вездесущий, расторопный человечек и тут должен был быть первым!
Между зеленью редеющего бора прорывались уже зловещие, ослепительные огненные блики. Наконец, чаща разом расступилась... Так и есть ведь! Возвышавшийся на холме древний православный храм и рядом с ним колокольня стояли в огне! Сухой, годами нево-зобновлявшийся древесный материал их служил огню самой благодарной пищей. Колокольня от основания до крыши представляла уже сплошной пылающий костер; церковь с одного конца также занялась, а по куполу бежали огненные языки.
Когда Михайло на аргамаке своем взлетел через низкую церковную ограду к самому храму, он застал там в сборе все мужское и значительную часть женского населения Диева. Кто из поселян захватил с собой, как оказалось, топор, кто багор, кто ведро с водой; но никто в эту минуту не думал о спасении храма Божия: все сбились в кучу и галдели, перебивая друг друга, около сидевшего еще на своем коне княжеского секретаря.
– Згвалтуете ведь, убьете, говорю я вам! – звучал повелительнее обыкновенного мягкий голос пана Бучинского, – сами за то головой ответите.
– Кормилец! Отец родной! На вас вся надежда! Не выдавайте меня им, собакам-кровопийцам! – жалобно орал другой, также как бы знакомый Михайле голос.
Михайло спешился и протискался вперед. В руках нескольких поселян барахтался никто иной, как Юшка. Но как его, беднягу, истрепали! Платье на нем было положительно в лохмотьях, волоса на голове всклочены, искаженное от боли и страха лицо вздуто и окровавлено.
– Да ведь он же, лайдак, никто как он, мосьпане, запаляч (поджигатель)! – горланил один.
– Вон из этого самого окошка при нас выпрыгнул, гаспид! – кричал другой.
– И ризы с икон, и крест напрестольный, и утварь-то всю церковную пограбил: чашу, дарохранительницу, дискос! – подхватил третий.
– Лгут, пане, брешут, бездельники! – огрызался обвиняемый.
– Что?! Брешем, москаль проклятый?! Уступите его нам, добродию, уступите, любый пане...
Несколько кулаков угрожающе занеслось снова над головой Юшки.
– Не уступайте, голубе мой! Ой, не уступайте! Совсем змордуют (замучат)!
Он так стремительно рванулся к единственному своему защитнику, так судорожно ухватился за его стремя, что горячий арабский конь под маленьким седоком взвился на дыбы и шарахнулся в сторону. Толпа с испугом отхлынула.
– Коли и в поджоге он, точно, виновен, то от суда, верьте моему слову, не уйдет, – объявил пан Бучинский. – Покамест же, братове, будет нам балакать, есть дело для вас поважнее: искры-то ветром вон куда несет – прямехонько на село ваше: того гляди, что солома на крышах займется; тогда ни единой хате вашей не устоять.
Последнее указание разом охладило, отрезвило бушевавшую громаду, возбудило общий переполох. Бабы с криками метались под гору к своим жилищам. Некоторые из крестьян последовали за ними. Подозвав к себе сельского войта, пан Бучинский отдал ему несколько определенных приказаний, как отстоять село; затем внушил трем коренастым парубкам, державшим по-прежнему за руки и за шиворот поджигателя, под страхом строжайшей ответственности, отнюдь не отпускать его.
Тут на месте действия появилось новое лицо, отец Никандр. В подряснике, с развевающимися прядями редких седых волос, взбегал он впопыхах со стороны дома своего к горящей церкви, и махая руками, вопил в полном отчаянии:
– Детушки, братове, спасите мне его!
Некоторые из прихожан, недоумевая, о ком он говорит, двинулись навстречу своему пастырю; Михайло впереди всех.
– Кого, пан-отец, спасти-то?
– Да отца владыку... Наслал на меня, знать, враг человеческий такой глубокий сон, что сейчас только в себя пришел...
Старец-пастырь задохнулся и, вместо слов, докончил речь безмолвным умоляющим жестом в сторону горящей церкви.
– Преосвященный в церкви? – догадался Михайло.
– Да, да... Вынесите его, православные!.. Рассудительные, осмотрительные малороссы только переглянулись и не тронулись с места.
– Ишь ты, ловок, пан батьку! Других-то шлешь в пекло, а сам, небось, не полезешь.
Пламя, в самом деле, все более охватывало храм, шипя и свистя ползло вверх по стенам, по окнам и вдоль "басани", так что в некотором даже расстоянии жар становился уже нестерпимым. Один только угол церкви, тот самый, где было окно с разбитой рамой, через которое выскочил с награбленной святыней Юшка, был еще пощажен огнем.
– А где он, в каком месте схоронен у тебя? – спросил священника Михайло.
– В алтаре, голубчик ты мой, за вратами царскими...
– В уме ли ты, Михаль! – вмешался подъехавший к ним пан Бучинский. – Его тебе уже не спасти; самого себя только погубишь.
– Бог милостив, пане. Нет ли, братцы, воды? Окатить бы меня на всякий случай.
Полное ведро воды, на счастье, оказалось тут же к услугам. Облитый из него с головы до ног, молодой богатырь наш встряхнул только промокшими кудрями, принял благословение отца Никандра и с разбегу взобрался на "басань", а оттуда скрылся в выломанном окне.
– Бесшабашный! Не сдобровать ему... погиб ни за что, бидолаха! Упокой Господь его грешную душу! – говорили оставшиеся, глядя ему вслед и набожно осеняясь крестным знамением.
Отец Никандр, опустясь на колени, ударял себя в грудь и творил усердную молитву:
– Господи Христе Вседержителю! Кровь брата моего вопиет на меня, как Авелева на Каина!
В это время на басань около того окна, откуда должен был вылезать Михайло, рухнула с пылающей крыши горящая головня. Сухая басань вспыхнула как порох.
– Рушь басань! – крикнул пан Бучинский.
Трое-четверо крестьян с топорами бросились исполнять приказ. Мигом ветхая басань под угловым окном была срублена и горящие обломки отброшены в сторону. Но пламя успело уже перейти на окружающую стену и подбиралось к самому окну. Тут в окне показался Михайло с бездыханным на вид человеком на руках.
– Принимай, братове! – донесся его зычный голос. Несколько паробков, несмотря на палящий жар, приняли с рук на руки преосвященного владыку, лишившегося, как оказалось, чувств. Для Михаилы же выход из церкви был уже загражден: окно стояло в полном огне, и самого Михаилы не стало видно, – откинулся, должно быть, назад, в церковь.
Отец Никандр и прихожане были настолько заняты приведением в чувство епископа Паисия, что на время как будто даже забыли про нашего героя. Один только пан Бучинский, сообразив тотчас, что гибель любимого гайдука царевича в умышленно, очевидно, подожженном храме легко может отозваться неблагоприятно на отношениях царевича к князю Константину, открытому гонителю православия, вонзил шпоры в бока своего коня и обскакал кругом церковь, чтобы удостовериться – нет ли оттуда гайдуку другого выхода. Но церковь, подобно колокольне, пылала уже со всех концов: молодая жизнь, без сомнения, прекратилась там, в полыме, среди ужаснейших мучений... Губы пана Бучинского побелели, болезненно сжались.
Много размышлять о погибшем ему, впрочем, не пришлось. Прискакавший во весь опор верховой возвестил скорое прибытие самого светлейшего; а пять минут спустя пожаловали, действительно, на пожарище как оба брата Вишневецкие, так и царевич Димитрий, а с ними патер Лович и многочисленная придворная свита. О прекращении пожара не могло быть уже и речи; вновь прибывшим оставалось только, сложа руки, наблюдать за окончательным истреблением огнем последнего в воеводстве храма и слушать рапорт маленького княжеского секретаря. Сжато, но чрезвычайно ясно и толково доложил пан Бучинский о поимке подозреваемого "запаляча", о чудесном спасении беглеца-епископа, о гибели гайдука "его царского величества" и о принятых им самим мерах к локализации пожара.
Заметно опечален был, казалось, один только царевич: потеря единственного, быть может, вполне преданного ему душой и телом человека была для него, без сомнения, чувствительна.
– Я надеюсь, князь, – сказал он, – что вы нарядите над поджигателем строгий суд.
– Поджигатель ли он, государь, покажет следствие, – отвечал князь Константин, – но я считаю долгом предварить ваше величество, что, по установленному порядку, должен буду направить все дело о поджоге, по принадлежности, в коронный гродский суд, ведающий уголовные дела...
– Однако, мне сказывали, помнится, – возразил Димитрий, – что здесь, в Малой, как и в Большой Польше, всякие преступления челяди и смердов, даже шляхтичей и духовных лиц, состоящих на службе того или другого пана, может судить сам пан их своим доминиальным судом при участии всего двух-трех соседей, хотя бы вопрос шел о животе и смерти. Так или нет, любезный князь?
– Так-то так, конечно...
– А этот Юшка, которого одного ведь только пока подозревают в поджоге, не простой ли ваш челядинец? Почему же вам самим не учинить над ним суда и расправы? Покойный же гайдук мой, скажу прямо, служил мне хоть и недолго, но стал мне уже так дорог, что убийце его не должно быть пощады.
– Да я же не убивал его, надежа-государь! Помилуй, я ни в чем неповинен! Сам он, дурак, в огонь без спросу полез! – слезно завопил тут стоявший поблизости между двумя стражами своими Юшка и бухнул в ноги царевичу. – Да и не стоит он ничего, государь: он обманщик, и тать, и душегуб!
– Как смеешь ты, подлый смерд, взводить напраслину богомерзкую на слугу моего верного? – вспылил Димитрий, и глаза его гневно засверкали.
– Вот те Христос, не напраслина! Ведь он кем сказался тебе? Полещуком, небось, крестьянским сыном, Михайлой Безродным?
– Да.
– А он такой же, почитай, крестьянский сын, как вон светлейший наш пан воевода: он – князь Михайло Андреич Курбский.
Шепот недоверчивого изумления пробежал по всему присутствовавшему панству.
– Мне самому сдавалось, что он благородного ко-рени отрасль, – сказал царевич.
– Да ведаешь ли ты, надежа-государь, что бежал он из дому родительского в лес дремучий; к татям-разбойникам пристал...
– А ты-то, малый, от кого все это сведал? – перебил доносчика Димитрий. – Не сам ли тоже в разбойниках перебывал? Не от них ли доведался? Ну, чего молчишь? Умел грешить, умей и каяться!
Юшка изменился в лице, оторопел. Но сбить его природную наглость было не так-то просто.
– Не в чем мне каяться, – отрекся он, – от товарища его одного, что летось в оковах в Вильне провозили, все сведал, с места не сойти. Да и душегубцем-то он заправским, слышь, быть не умел, трус естественный: никого-то на веку своем толком не прирезал, не пристрелил. За то и из артели-то разбойничьей в шею вытолкали...
– Не по своей, знать, охоте попал туда, – решил царевич. – А что не трус он – это он сейчас только на деле показал: для ближнего своего голову сложил. Ты же, малый, я вижу, не только что душегубец, но и злой клеветник. Бедный гайдук мой мне теперь еще вдвое милее; а тебе, злодей, головы своей на плечах не сносить!
На защиту Юшки выступил теперь княжеский капеллан, патер Лович.
– Не смею предрешать кары, которой предлежал бы такой тяжкий кримен (преступление) по мирским законам, обратился он к старшему князю Вишневецкому, – будет ли то пренгир (позорный столб) или даже poena colli (смертная казнь); но почитаю своим пастырским долгом быть прелокутором (защитником) инкульпата (обвиняемого) и донести вашей светлости о выраженном им мне искреннем желании из лона схизмы перейти в латынство.
– Хошь завтра, хошь сейчас, батюшка-князь, готово креститься! – подхватил Юшка и униженно пополз на коленях к своему светлейшему господину.
– Это, конечно, несколько меняет дело, – благосклонно сказал тот.
Младший брат Вишневецкий, князь Адам, не позволявший себе вообще, как заметил Димитрий, возражать старшему брату, не утерпел, однако, на сей раз вставить свое слово.
– Чем же постыдное ренегатство может смягчить еще более постыдное преступление? – сказал он.
Брови князя Константина сдвинулись; но присутствие царевича заставило его сдержать себя.
– Что для тебя, брат Адам, ренегатство, то для всякого доброго католика – обращение к единой истинной вере Христовой!
Царевич прекратил препирательство двух братьев.
– Но я все же надеюсь, – сказал он, – что будут выслушаны свидетели, которые могли бы показать что о поджоге?
– Для вас, ваше царское величество, – извольте, только для вас, – отвечал князь Константин, – но, само собою разумеется, интерпелляции (вызову для объяснения) не подлежат женщины, дети и вообще малоумные.
– Нет, князь, я прошу вас открыть двери суда равно для лиц обоего пола, от мала до велика, от первого шляхтича до последнего смерда, кто только пожелает подать голос.
– Но если показание кого не заслуживает доверия...
– Да какой же то суд, любезный князь, что не сможет отличить показание верное от неверного?
Никому до этого времени не было дела до двух православных пастырей. Благодаря стараниям отца Никандра и некоторых услужливых крестьян, преосвященный Паисий, наконец, открыл глаза и пришел в себя. Теперь только, казалось, отец Никандр заметил присутствие ясновельможного панства, и из последних слов Димитрия заключив, что в нем-то они, пастыри, найдут себе наиболее прочную опору, он громко призвал на главу царевича благословение Божие; затем с достоинством, почти с гордостью обратился к князю Константину, не то прося, не то требуя – в прегрешениях вольных и невольных его, отца Никандра, простить и не оставить его совместно с преосвященным владыкой, "что мученическими подвигами себя преукрасил и облаголепил, без суда праведного и нелицеприятного".
– Брат Никандр, смирися! – слабым голосом воззвал к другу своему больной архипастырь, распростертый еще на земле, – что Господь нам судил, то и благо: да будет над нами Его святая воля!
Князь Константин не счел нужным тратить с ними лишних слов. По знаку его, были "убраны" как оба пастыря, так и Юшка. Прошло еще с четверть часа – и храм, и колокольня представляли груду пылающих развалин. Село Диево было пощажено огнем. Выразив своему секретарю за распорядительность его полное одобрение, князь Константин повернул коня, а за ним сделали то же и брат его, и царевич, и вся их свита.
Глава двадцать четвертая
МАРУСЯ "СБРЕНДИЛА"
Панна Марина, как и все вообще обитательницы жалосцского замка, осталась одна. Но она не ложилась, точно также не давала лечь и своим двум фрейлинам. Панна Бронислава, по ее приказу, то и дело выбегала из комнаты справляться – нет ли каких-либо вестей с пожарища и принесла одну очень важную весть: что горит православная церковь; Маруся же должна была развлекать свою панночку, которая была как в лихорадке.
– Как я счастлива, Муся, что у меня есть такая верная подруга, как ты! – говорила панна Марина, когда панна Бронислава только что снова выпорхнула вон. – Ни я тебя, ни ты меня никогда не выдашь. О нашей вчерашней прогулке мы обе, конечно, никому ни слова?
– Конечно... – замялась Маруся. – Но знаете, панночка: у меня из ума не выходит то, что нам вечор с вами довелось под мостом услышать.
– Что мы с тобой слышали? Ничего не слышали! – запальчиво перебила ее панночка. – Лучше об этом и не думай.
– Да как же не думать-то? Помните, как старший патер говорил: "Не будет храма – не будет и проповедника". А потом обещался еще взять черта за рога...
– Какой же ты ребенок, Муся, ах, какой ребенок! Всякое слово по-своему перетолковываешь...
– А что, панночка, коли это поджог?
– Уж не патеры ли подожгли? Ты совсем, детка моя, кажется, рехнулась! Пикни-ка только при других...
– Ну, не сами хоть подожгли, подбили кого...
– Послушай, Муся, не мудри: тебе же только хуже будет. Отчего бы ни загорелась эта церковь, – коли она загорелась, стало быть, Провидению так угодно было. Противу Промысла Божия нам с тобой не идти.
– Но Промысл Божий с тем, может статься, и дал нам подслушать тот разговор, чтобы мы уличили поджигателей?
Тут в горницу вихрем влетела панна Гижигинская и в неописанном волнении всплеснула руками.
– Нет! Кому бы это могло в голову прийти!
– Что такое? – в один голос спросили обе другие девушки.
– Ведь гайдук-то царевича – не простого рода, а родовитый русский князь Курбский!
– Я это чуяла! – вырвалось у Маруси, и все лицо ее так и залило румянцем.
– Но его уже нет!
– Как нет?
– В живых нет: он сгорел только что...
Маруся так же мгновенно побледнела, помертвела. Панна Бронислава принадлежала к тем нередким, к сожалению, особам своего пола, которым нет высшего удовольствия, как разносить по свету животрепещущие новости, особенно же о чужой беде. Эпизод погребения молодого русского красавца-князя под пылающими обломками церкви в ее красноречивых устах вышел, разумеется, несравненно живописнее, чем сумели мы передать его в нашем простом повествовании.
– Нет... нет... Этого быть не может! – внезапно зазвеневшим голосом вскричала Маруся.
Теперь только панна Марина обернулась к ней: молодая наперсница ее стояла, как каменное изваяние, ни жива, ни мертва, прислонясь к высокой, резной спинке стула; только глаза ее, дико и испуганно расширенные, блуждали кругом.
– Что с тобою, деточка? – встревожилась панна Марина. – Чего не может быть?
– Чтобы он погиб... Он жив, он должен был спастись!
– Да ведь ты же слышишь, что вся церковь была уж в огне, что ему выхода из нее не было?
– А все-таки... О, Господи! Да как же после этого верить? – лепетала вне себя Маруся, и крупные слезы катились по ее щекам.
Панна Бронислава таинственно наклонилась к уху своей госпожи. Та кивнула головой.
– Да! Пожалуй, что так... Ну, голубочко, серденько мое, что же делать, что делать! – пыталась она утешить плачущую. – Ведь коли он, точно, был княжеского рода, то тебе, купеческой дочери, он все равно не был бы уже парой. Бронислава, расскажи-ка ей еще раз, как было дело: чтобы не надеялась еще попусту.
Панна Гижигинская недала повторять себе приказания, и рассказ ее на этот раз вышел еще, может быть, картиннее, закругленнее. Миловидное по-прежнему, но страдальческое и бледное теперь как полотно личико Маруси опускалось все ниже.








![Книга Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] автора Даниил Мордовцев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ten-iroda-idealisty-i-realisty-22051.jpg)