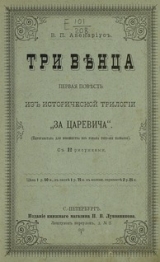
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
– Знаешь ли, Михайло Андреич, – начал он, – что беглый этот епископ Паисий в остроге здесь на днях душу Богу отдал? От нунция я нынче сведал.
Курбский благочестиво осенил себя крестом.
– Упокой Господь его грешную душу!
– То-то грешную... Что ни говори, сам он был тоже немало виноват.
– А с отцом Никандром что же? – спросил Курбский.
– Старик в конец, сказывают, помешался: выздоровления уже не ждут. А вот что я тебе поведаю еще по тайности, друг мой, – продолжал царевич, точно от избытка волновавших его радостных чувств, – дело-то мое, благодарение Богу, кажись, выгорает!
– Нунций обещал тебе, государь, поддержку?
– Да.
– Но сам-то ты ему не много ли тоже пообещал? Краска поднялась в лице в щеки Димитрия; брови ею гневно насупились.
– Что я раз обещаю – то хорошо знаю! – резко оборвал он разговор и в течение целого затем вечера не удостоил уже своего друга приветливого слова.
На вербной неделе царевич получил официальное приглашение от нунция к обеду. Курбский, как обыкновенно, сопровождал царевича и во дворец нунция. Дворец этот поражал своею, можно сказать, царскою пышностью. Лестница и сени были обиты красным сукном; ряд проходных зал блистал позолотой, стенною живописью, лепною работой. Ливрейной прислуге не было числа; а в обширной приемной, в ожидании выхода его эминеции, толкались без счету же прелаты, каноники, монахи разных орденов, а также светские сановники и рыцари.
С появлением царевича все затихло и почтительно расступилось. В тот же миг противоположные двери широко раскрылись – и с высокомерно-благосклонной улыбкой непоколебимого сознания своей власти и своего собственного достоинства показался оттуда сам легат его святейшества, папы. Первым подошел к руке его с несвойственным ему смирением, почти с подобострастием Димитрий. Примеру его последовали пан Мнишек и остальные присутствующие.
Единственным, казалось, исключением был Курбский: несказанно больно было ему видеть само унижение дорогого ему русского царевича перед представителем папства, и сам он ограничился только формальным поклоном. Но испытанный дипломат Рангони словно и не заметил его холодности; напротив, когда царевич объяснил, что это – молодой князь Курбский, сын знаменитого сподвижника Грозного царя Ивана IV, нунций сказал и Курбскому, как каждому из присутствующих, одну из тех обычных, ничего незначащих и ни к чему не обязывающих любезностей, которые никем, конечно, не принимаются за чистую монету, но тем не менее, будучи изложены в красивой форме, сопровождаемы приветливой миной, редко не достигают своей цели – произвести желаемое благоприятное впечатление.
Обед был сервирован в громадной столовой, состоявшей, в сущности, из трех больших, смежных и разделенных только арками зал: с одного конца стола до другого пирующим нельзя было даже хорошенько разглядеть лиц друг друга. Стол буквально гнулся под тяжестью серебряной посуды с вензелем Рангони. Перед каждым прибором было по два маленьких, серебряных же, генуезской филиграновой работы сосуда – с солью и с перцем и один стеклянный – с уксусом.
Хозяин то и дело упрашивал ближайших гостей не брезговать его "скромной" монашеской трапезой:
– Пане коханку! Что вы не кушаете, не пьете? Будьте милостивы, не обижайте! Блюда постные – не оскоромитесь.
Ввиду Великого поста, не было, действительно, ни одного скоромного блюда; но всевозможные похлебки, рыба, овощи и печенья подавались в таком изобилии и в таком приготовлении, что отсутствие мяса как-то не замечалось. Курбскому казалось, что он в жизнь свою не едал еще так вкусно. Даже хлеб, величиною с тележное колесо, отличался таким отменным вкусом, что герой наш не утерпел заявить о том своему ближайшему соседу за столом, толстяку монаху-бенедиктинцу.
– Краковский хлеб вообще не имеет себе равного в целом мире, – самодовольно отвечал тот, – а главное, заметьте, никогда не черствеет.
Обильные возлияния развязали понемногу язык бенедиктинцу, и с расплывающеюся по всему лоснящемуся от жира, широкому лицу, улыбкой он сам уже обратился к Курбскому.
– Вы, миряне, едите, конечно, еще жирнее нас, духовных. На пасхе-то, поглядите-ка, как вас у его величества, короля нашего, закормят! На прошлой пасхе самому мне выпала честь обедать при высочайшем дворе. По середине стола, извольте представить себе, "Agnus dei" – цельный ягненок, от которого отведали только мы, духовные, да некоторые сановники, да ясновельможные пани. По сторонам ягненка – exemplum 4 времени года – 4 цельных кабана; далее tandem 12 месяцев – 12 оленей с позолоченными рогами. Внутри же кабанов и оленей – всякая всячина: цельные поросята, окорока, колбасы, зайцы, тетерева, куры... За оленями tandem 365 дней года – 365 куличей и баб с искуснейшими вензелями, с назидательными изречениями; а между всем этим крупным съестным понаставлены, понавалены мазуры, лепешки, жмудские пироги, разукрашенные всевозможной бакалеей. О бибенде (питье) и толковать нечего: tandem, по числу времен года, месяцев, недель и дней в году: 4 стопы старого шпанского вина, 12 кружек кипрского, 52 бочонка итальянского и 365 погар венгерского; для челяди же exemplum 8, 760 годовых часов – столько же кварт сладчайшего меду! А не повторить ли нам с вами медку? Repetitio est mater studiorum.
За столом нунция, на самом деле, также ни в еде, ни тем менее в напитках недостатка не было: рейнское сменялось венгерским, венгерское бургонским, бургонское мальвазией. Тонзуры патеров дымились: речи их становились все одушевленнее, развязнее. Там и сям раздавался уже громкий смех. Особенную веселость возбудил рассказ одного патера, побывавшего недавно в Версале, о последней сумасбродной выдумке французов.
– Вопрос: для чего во всяком благоустроенном доме служит вилка? – говорил он. – Ответ: для того, понятно, чтобы кравчему было способнее придерживать мясо да рыбу, пока рушит их ножом. Едим же мы нарезанное, все от мала до велика, слава Богу, руками. На что же и руки человеку? А дабы они всегда были чисты, опрятны, меж отдельных блюд прислуга разносит нам воду и ручники; да и вода-то примерно здесь, у его эминеции, даже благовонная, так что кушать потом следующее блюдо этими пальцами любо-дорого!
– А версальцы-то, что же, ужели кушают вилкой?
– Вот подите ж! Недовольно того, что иные одевают к обеду перчатки, у всякого-то еще своя вилочка, чтобы не запачкать, изволите видеть, на сорочках пышных брыжей. Как курицы клювом, они тыкают, тыкают этак вилочкой по тарелке и чинно, тремя перстами, к устам подносят; а по пути-то, глядь, половину-то по столу, на себя же рассыпят. Умора, да и только!
Даже его эминеция, нунций, изволил благосклонно улыбнуться забавному рассказу.
– Да, искусству есть надо нам у них еще поучиться, сказал он, – зато в "бибенде" мы им, пожалуй, сами урок дадим.
По знаку хозяина был подан старинный золотой кубок вместимостью в пять добрых кружек. Дав полюбоваться царевичу искусно выгравированными на всей окружности кубка сценами из крестовых походов, Рангони сперва сам пригубил кубок, а затем передал его Димитрию; от Димитрия кубок пошел вкруговую вокруг всего стола. Стоявшие наготове слуги с полными кувшинами неустанно доливали кубок: кто из гостей делал только изрядный глоток, кто в два-три глотка осушал кубок.
– А теперь, панове, позвольте предложить вам современного нектару, – возгласил нунций, – в Польше он еще доселе никому неведом: варит мне его старик ксендз-капуцин, которого я нарочно вывез с собой из Рима; из чего же варит – это его тайна.
В огромной серебряной чаше была внесена четырьмя слугами лилового цвета студенистая масса, которую каждый из столующих черпал себе ложкой. По крепкому и, в то же время, тонкому аромату студня можно было догадываться, что он сгущен из смеси каких-то редких, старых вин, и вкус его, действительно, был так отменно хорош, что чаша в несколько минут опустела.
– А вы, illustrissime, что же так приумолкли? – отнесся Рангони к главе краковских иезуитов и духовнику короля, Петру Скарге, который вовсе не прикасался ни к "нектару", ни к обыкновенному даже вину и один из всех сохранял строгий, суровый вид. – Мы привыкли видеть в вас самого велеречивого оратора, Демосфена нашего времени.
Патер Скарга обвел присутствующих исподлобья неодобрительным, пронизывающим взглядом и отозвался:
– Eminentissime преувеличивает мою элоквенцию. Где кубок in dulci jubilo (в сладостном ликовании) ходит по рукам и отвращает души от праведных мыслей, от христианского долга, там уста Божьего проповедника немеют, безмолвствуют.
– Но вы, illustrissime, ратуя за слово Божие, исходили, как слышно, вдоль и поперек весь материк Европы, – вмешался царевич, – на пути вашем, несомненно, вам попадались разные назидательные случаи? Всякий подобный случай из ваших уст мог бы принести нам, грешникам, не только великое удовольствие, но и вящую пользу.
– Вашему царскому высочеству угодно, чтобы я рассказал вам такой случай? – переспросил иезуит, и глаза ею засветились каким-то особенным огнем.
– Крайне обяжете.
– Извольте. Дело было не далее, как в прошедшем году, в немецком городе Регенсбурге, где я остановился проездом. Незадолго помер палач городской, и три молодца явились искать его место. Но как вызнать, который в деле своем больше навычен? И вот, порешено было, чтобы они явили свое искусство на трех же преступниках, что сидели о ту пору в городском остроге и были осуждены уже на смертную казнь. Вывели грешников на лобное место, велели опуститься на колени, и стал за каждым из них один палач. Как же взялись молодцы за свое дело? Первый сорвал у своего инкульпата ворот рубахи, провел ему по шее киноварью красную черту, размахнулся мечом – и отскочила голова ровнехонько по красную черту. Второй перевязал своей жертве оголенную шею двумя шелковинками и одним ударом отсек ему голову ровнехонько между шелковинок. Наступил черед третьего палача, плечистого, саженного детины. "Ну, любезный, с ними тебе, не тягаться!" – говорил кругом народ. "А вот, поглядим!" – отвечал тот и лихо засучил рукава. Всем хотелось поглядеть, как-то он изловчится, извернется; все понадвинулись, скучились вокруг, а два другие палача ближе всех. И ахнуть никто не успел, как свистнул меч – и отлетели разом три головы: инкульпата да двух первых палачей. Так-то третьим палачом по праву было заслужено место заплечных дел мастера города Регенсбурга. Sapiente sat. (Для разумного довольно).
За жестоким рассказом патера Скарги, так мало отвечавшим общему игривому настроению, послышался там и сям только недовольный шепот, натянутый смех; вслух высказываться ни у кого не хватило духу.
– Но какое поучение, illustrissime, следует из вашего рассказа? – спросил царевич.
– Поучение для всех ищущих власти и имеющих могучих противников; в решительную минуту одним взмахом меча отсечь головы многоглавой гидре!
– Или, вернее сказать, рассечь Гордиев узел, – поправил Рангони. – И его царское величество, я уверен, не упустит в свое время случая к тому. В чем же будет заключаться этот узел, ваше высочество признаете, может быть, удобным ныне же объявить перед настоящим избранным обществом, как сказали мне о том келейно еще несколько дней назад?
Все взоры кругом были прикованы к царевичу. Как подметил Курбский, царственный господин его довольно умеренно прикасался к кубку. Щеки его были немногим румянее обыкновенного, и вино, не затуманив ему головы, ускорило разве только движение крови в его жилах, прибавило ему самоуверенности и отваги.
– Охотно объявлю, – сказал он, окидывая окружающих смелым, вызывающим взором. – Если Господу Богу моему угодно будет благословить меня свергнуть с моего отцовского престола узурпатора, Бориса Годунова, то за братскую помощь, какую я чаю для себя от короля Сигизмунда и Речи Посполитой, я торжественно обязуюсь быть вечным другом польского народа...
– И только? – спросил тихонько нунций, когда Димитрий вдруг замолк.
От Курбского не ускользнуло, что царевич мельком покосился на него, Курбского, словно стеснялся досказать при нем свой торжественный обет. Но колебание Димитрия продолжалось всего одно мгновение, в следующее он уже с высоко вскинутой головою громогласно продолжал:
– Сверх того, я не задумаюсь признать главенство ею святейшества, папы римского, и...
– И перейти в лоно святой римской церкви, – помог ему досказать Рангони. – Vivat!
Нечего говорить, что заздравный крик этот нашел у столующих живой отголосок, и что как духовенство, так и рыцарство двинулось с кубками к будущему царю московскому поздравить с таким великим решением.
– А теперь, ваше высочество, во дворец! – объявил хозяин. – Прошу извинить, панове; но его королевское величество ждет нас.
Глава тридцать восьмая
ЦАРЕВИЧ ПЕРЕД КОРОЛЕМ СИГИЗМУНДОМ
С невыразимо тяжелым сердцем сопутствовал Курбский названному сыну царя Ивана Васильевича во дворец королевский. Пусть даже обещание принять римскую веру было вынуждено у него непримиримыми врагами православия, иезуитами, но, взойдя на престол отцовский, он, верный своему царскому слову, сделается уже ревнителем папства и послушным орудием а руках тех же иезуитов! Но как знать? Димитрий ведь тоже себе на уме; у него, пожалуй, свой особый умысел, и иезуиты все же обманутся в расчете... Надо выждать.
Король, в самом деле, был приготовлен к приему Царевича. Но аудиенция носила не столько официальный, сколько частный характер. Димитрий с ближайшими к нему лицами был введен коронным обер-камергером не в тронную залу, а в кабинет короля.
Сигизмунд III, мужчина лет под 40, но в меру полный, очень еще красивый и цветущий, не пошел навстречу своему царственному гостю, а остался стоять в отдалении, не снимая шляпы и опершись рукою на маленький столик. Его сдержанный, надменный вид, его поистине королевская осанка произвели на царевича, видимо, сильное впечатление: ступив вперед несколько шагов, он остановился, снял шляпу и, заложив правую руку за пояс, левою избоченясь на рукоятку сабли, дрогнувшим голосом заявил о своем "счастии" видеть своего "августейшего брата".
От короля, очевидно, не укрылось, что новоявленный "брат" его хоть и бодрится, но внутренно трепещет перед ним, и по губам его скользнула самодовольная улыбка. Выразив и со своей стороны "живое удовольствие" по поводу настоящей встречи, он, все еще не трогаясь с места, протянул "брату" руку.
Царевич подался вперед и смиренно поднес эту руку к губам. Затем, по предложению короля, он начал излагать причины, побудившие его прибыть в Краков. Говорил он все еще неровным, тихим голосом, и поэтому до слуха Курбского, оставшегося с прочими у дверей, долетали только отрывки его речи. Под конец, однако, он совершенно, казалось, овладел собою и заключил речь громко таким неожиданно смелым обращением к королю:
– Вспомни, государь, что сам ты родился пленником в темнице, куда родители твои были брошены дядей твоим Эриком, и откуда вывел тебя только милосердный Промысл всемогущего Бога! Размысли о человечестве и не откажи в помощи несчастному, угнетенному тем же злополучием!
Сигизмунд слушал до сих пор с приветливым видом. Теперь он насупился и с неудовольствием глянул на стоявших по-прежнему у входа невольных свидетелей этого свидания. Обер-камергер понял, что оплошал, и поторопился выпроводить в соседнюю приемную всех, кроме нунция. Вслед затем вышел туда и царевич. Он был в большом волнении; грудь его высоко подымалась, глаза лихорадочно горели. Хотя Курбский стоял от него в двух шагах, тот его не видел, устремив взор куда-то в пространство. Всегдашняя самоуверенность на этот раз как будто совсем ему изменила. Пан Мнишек подошел к Димитрию и вполголоса ободрил его:
– Первое дело, ваше величество, – духом не падать: все еще устроится к лучшему.
– Дай-то Бог! – вздохнул царевич. – Скоро ли они договорятся?
Совещанию короля с папским нунцием, в самом деле, казалось, не будет конца. Но, наконец, дверь в королевское святилище растворилась, и на пороге показался Рангони. Молчаливым жестом пригласил он царевича и остальных всех войти.
Сигизмунд стоял, как и прежде, на том конце кабинета, опершись о столик; но черты его заметно смягчились, повеселили.
С опущенной головой, с рукою у сердца, как бы ожидая своего приговора, Димитрий приблизился к королю. Тогда последний приподнял на голове шляпу и произнес ласково во всеуслышанье:
– Да поможет вам Бог, Димитрий, князь московский! Выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, мы несомнительно признаем в вас сына царя Ивана IV и, в знак нашего искреннего доброжелательства, жалуем вам на всякие ваши требы ежегодно сорок тысяч злотых. Сверх того, как другу Речи Посполитой, мы не препятствуем вам сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением.
Радость и смущение названного Димитрия были так велики, что он пробормотал только несколько невнятных слов. От имени его Рангони выразил королю глубокую признательность; после чего Сигизмунд так же благосклонно отпустил всех от себя.
В приемной все с поздравлениями окружили царевича, а нунций его обнял и поцеловал.
– Все от нас зависевшее сделано, – сказал он, – теперь от самого вашего величества зависит исполнением вашего обещания обеспечить дальнейший успех дела.
– О, за дальнейшее-то мы отвечаем! – подхватил старик Мнишек, в восторге потирая руки, – за нами Дело не станет.
Все, по-видимому, были как нельзя более удовлетворены исходом аудиенции. Один Курбский только поник головой и ввечеру, наедине с царевичем, не утерпел-таки спросить его:
– Когда же, государь, ты примешь латынство? Царевич покраснел и гневно сверкнул очами.
– Ты что это, Михайло Андреич, в дядьки ко мне, что ли, приставлен? Пытать меня вздумал?
– Не пытать, государь: смею ли я! Но "давши слово, держись", говорится; и про себя скажу: не помышляй я изменить родной своей вере, у меня, право, духу бы не хватило...
– И никогда бы тогда своего не добился! – резко оборвал его Димитрий. – Где нет прямой дороги, там, друг мой, поневоле свернешь на окольный путь.
– Так ты, царевич, стало быть, только околицей едешь, лукавишь с ними? А я-то было уже поопасил-ся... Но не во гнев тебе молвить, у меня бы на такое ложное обещание язык не повернулся. Больно уж ты, государь... не знаю, как лучше-то сказать.
– Криводушничаю?
– Да...
– А ты, князь, не слышал разве давеча за обедом притчу этого отца криводушников-иезуитов Скарги про трех палачей?
– Слышал.
– Сказал он ведь ее для меня же, чтобы я, значит, на ус себе намотал. Ну, и намотал! – с самонадеянной усмешкой заключил царевич.
"Стало быть, он все же по-прежнему тверд в отцовской вере", – старался успокоить себя Курбский и избегал уже возвращаться к этой щекотливой теме.
А аудиенция у Сигизмунда между тем повела за собою самые наглядные доказательства королевского благорасположения к Димитрию. Наступившая вскоре Пасха дала к тому особенный повод. Несмотря на истощение государственной казны, обычные на Святой неделе народные увеселения приняли на этот раз небывало разнообразный и разгульный характер. Город был расцвечен национальными польскими и русскими флагами. На рыночной площади перед ратушей были возведены балаганы и карусели, куда черный народ пускался даром, были разбиты палатки со всяким съестным, сластями и хмельными напитками, отпускавшимися по самым пониженным ценам. С сумерками все главные улицы иллюминовались плошками; в окнах светились транспаранты с аллегорическими изображениями и надписями, а на перекрестках жгли бенгальские огни и палили холостыми зарядами из пищалей.
Паны точно также не были обойдены развлечениями, разумеется, более утонченными. Так, на той же рыночной площади были поставлены для них стрельбища, в которых по вечерам, при свете факелов, происходила ожесточенная стрельба. Когда пуля попадала в центр цели, над палаткой к ночному небу с змеиным шипом взвивалось несколько ракет и с треском рассыпалось в вышине красными или зелеными искрами к вящей потехе глазеющей черни. Днем же устраивались конские скачки и рыцарские турниры, на которых победителям из прекрасных рук жаловались разные ценные или же и просто шуточные призы.
Восторженнее всего, однако, были всеобщие ликования при торжественном проезде по городу короля с московским царевичем, с восьмилетним королевичем Владиславом и в сопровождении блестящей свиты. Шумными волнами валила за ними пестрая толпа с оглушительными криками: "vivat, vivat!" Из окон домов, с украшенных коврами балконов разряженные горожанки махали платками и голосисто вторили толпе: "Vivat!"
Глава тридцать девятая
НОВЫЕ УСЛУГИ БАЛЦЕРА ЗИДЕКА
Для одного только Курбского этот непрерывный общий праздник был в чужом пиру похмельем. С одной стороны он терзался сомнениями за царевича, с другой – за сестру. Сам же он, в первом порыве, подал тогда мысль – тайком увезти ее; бедняжка ждала его теперь, конечно, с лихорадочным нетерпением; но, как человек неопытный и прямой, гнушающийся всяких тайных козней, он ничего-таки еще не предпринял. Как взяться за такое непривычное дело? Кому довериться! Да и дело-то, что ни говори, нечистое, обманное... Попытался он один раз толкнуться к матери; но непреклонная, ожесточенная против сына-схизматика княгиня не допустила его даже до себя.
В таком-то подавленном настроении вышел он опять однажды под вечер на вольный воздух и ненароком забрел к королевскому дворцу.
Перед самым дворцом возвышалась огромная триумфальная арка, вся сплошь покрытая гербами воеводств и городов Речи Посполитой, а вверху украшенная большим вензелем S и D (Sigismundus и Demetrius), составленная из разноцветных лампочек. По сторонам стояли четыре гения: добродетели, мудрости, храбрости и правосудия. На площадке же перед аркою была новая панская затея – ярмарка-маскарад. В новеньких с иголочки палатках продавщицами стояли придворные дамы. И таких нарядных торговок, разумеется, ни на одной ярмарке в мире еще не бывало; покупателями были придворные же кавалеры в образах крестьян, евреев, цыган, одетых не менее изящно. Простолюдины, понятно, к самым палаткам не подпускались, но придворной страже стоило великого труда задержать напор многотысячной толпы зевак, которые час от часу прибывали.
– Куда вы прете, дьяволы! – орал один ретивый стражник и наотмашь хлестнул ближайшего к себе зрителя, серого мужичонка, по лицу.
– За что?! – завопил тот. – Ведь задние же толкают.
– За что?! – огрызнулся, передразнивая, блюститель порядка. – Болван! Да нешто у меня руки так долги, чтобы достать задних?
Курбский, благодаря своему панскому платью и атлетическому телосложению, без затруднения пробрался к самой ярмарке. Первый, кто попался ему тут на глаза, был шут Балцер Зидек. Наряжен он был деревенским знахарем и громко выкрикивал бывшие у него в перевешенном через плечо ящике чудодейственные лекарства:
– Купите, панове, купите! Вот липкий пластырь – для болтунов; вот ляпис – для злых языков; вот мазь – для ращения волос, коли вас манихеи общипали; вот хлыстик, коли вам не перескочить камней преткновения... Купите! Купите!
– Остры вы умом, Балцер, а язык ваш того острее! – заметил, проходя мимо, Курбский.
– Ум – аптека моя, ваша милость, а острословие – ланцет, – отозвался балясник. – Для чего я живу?
Чтобы лечить ближних от скуки и горя. А для чего лечу их? Чтобы самому жить. Не мог ли я каким зельем услужить и ясновельможному князю?
– Нет, Балцер, от моей боли у вас зелье навряд ли найдется.
– Да боль-то какая у вашей чести? Не внутренняя ли, душевная? Не сомнения ли вас мучат?
– Может быть...
– Так есть у меня для вас такие два словечка, что сомнения те как ветром сдунет.
– Какие же то словечки?
– Сказать их можно лишь на ушко, а тут, изволите видеть, сколько лишних ушей, да все больше не в меру длинных.
– Куда же нам отойти?
– А вон в проулочек.
Курбский направился молча в указанный шутом глухой проулок. Балцер Зидек, продолжая чесать язык, бежал вприпрыжку рядом. Слегка до сих пор накрапывавший дождик полил вдруг сильнее. На углу сидели, прикорнув на земле, две старухи-торговки, одна с лукошком крашенных яиц, другая с корзиной гнилых яблок.
– Ишь ты, как зарядило! – ворчала одна из старух, – то-то у меня с утра еще поясницу ломило. Смотри, говорю дочке, дождь будет! Ан по-моему и вышло.
Балцер Зидек с угрожающей миной остановился перед торговкой.
– Ты что это, тетка: вперед уже знала, что дождь будет?
– Вестимо, знала, родимый.
– И по начальству не донесла? А все вельможное панство тут мокни из-за тебя под дождем? Ах, ты старая ведьма! Это тебе так не сойдет.
И, насев на нее, шут начал методично, не спеша, отсчитывать по спине ее рукою шлепки, приговаривая:
– Это за панов! Это за хлопцев! Это за смердов! А это за Балцера Зидека!
Бедная старушонка заголосила; Курбскому пришлось вступиться в дело. Бросив разобиженной серебряную монету, он сделал обидчику внушение и отвел его затем глубже в проулок под выдающийся навес, укрывший их от дождя.
– Ну, так говорите же, Балцер, что у вас есть для меня? Только сделайте милость, не паясничайте.
– А вот, извольте слушать, милостивейший князь. Вчера это ввечеру вышел я задним крыльцом на улицу – людей посмотреть и себя показать. Глядь – мимо меня шмыгнули двое: впереди старик седобородый в нищенском одеянии, а за стариком мальчуган в холопской ливрее. Это бы не диво, а то диво, что походка-то у старика совсем не стариковская; мальчуга же с лица, ни дать, ни взять, наш пан Бучинский. "Эге! – смекнул я. – Балцер Зидек, не зевай!" Благо, уже так стемнело, что мне без опаски можно было идти за ними. Вот подошли мы к дому иезуитов, и хоть старик-то был с виду нищий, но привратник без дальних слов с низким поклоном впустил обоих. Обождав маленько, я к привратнику:
– Так и так, – говорю, – пан воевода мой послал меня сейчас за паном Бучинским. Пропусти-ка.
– Никак, – говорит, – невозможно: не велено.
– Что за вздор! Я же, – говорю, – очень хорошо знаю, с кем он здесь и зачем.
– Знаешь?
– Еще бы не знать, коли за этим же делом послан.
– Так... Ну, погоди, говорит, тут; а я дежурного послушника вызову.
Вызвал дежурного; переспросил меня и тот, головой помотал, однако ж наверх провел, в приемную. "Пойду, – говорит, – доложу пану Бучинскому". Пошел он докладывать; а я не промах, – тихомолком вслед. Дошли мы этак до самой молельни иезуитской. Стал он шептаться с приставленным тут у дверей другим послушником; а я, прижавшись в уголок, от слова до слова все и подслушал. Да что узнал тут – и, Боже мой!
– Что же такое? – спросил Курбский, у которого, в чаяньи чего-то недоброго, дух захватило.
Балцер Зидек полез в карман за своей черепаховой табакеркой и, щелкнув ее по крышке, предложил табаку молодому князю:
– Не прикажете ли?
– Нет, благодарю... Так что же вы узнали? Говорите скорее!
Шут, не спеша, набил себе табаком сперва одну ноздрю, потом другую и языком причмокнул.
– Что узнал! М-да... для всякого простого человека новость эта дуката стоит, а ваша княжеская милость, я знаю, не поскупится и на пяток дукатов.
Курбский, не прекословя, достал кошелек и вручил шуту требуемую сумму.
– Вот это по-княжески! – сказал Балцер Зидек, пряча деньги. – В молельне-то, оказалось, исповедывался у папского нунция, причащался да миропомазан был по римскому обряду тот самый седобородый старик, что пришел туда с паном Бучинским...
– Ты лжешь, бездельник! – вспылил Курбский и железной пятерней своей схватил шута за горло с такою силой, что тот посинел и захрипел.
Тотчас же, впрочем, опомнясь, богатырь наш устыдился уже своего грубого насилия и разжал пальцы. Балцер Зидек, болезненно морщась, стал растирать себе рукою шею.
– Экие рученьки у вашей чести... Чуть не задушили ведь, как собаку...
– Потому что вы, Балцер, как собака, лаете на всякого... – сдержаннее проговорил Курбский.
– Лаю? Разве я кого по имени назвал вам?
– Не называли, но разумели, я знаю, царевича Димитрия.
– А коли знаете, так, стало быть, сами же того ожидали от него. Нет дыму без огня. За что же обижать-то бедного шута?
– Ну, не сердитесь, Балцер. Очень уж горько мне было слышать... Но кручина у меня не эта одна: есть и другая.
– А звать-то ее как? Не княжной ли Крупской?
– Да вы, Балцер, узнали еще и про нее что-нибудь? – с беспокойством приступил к шуту Курбский.
– Узнал... Но ведь ваша милость совсем, пожалуй, задушите?
– Не трону!
– И лжецом не обзовете?
– Не обзову.
– Ах, да! – вздохнул с соболезнованием Балцер Зидек. – Эти патеры – бедовый народ: ни другим, ни себе! Ровно через три дня княжны Крупской не будет – будет Христова невеста.
– Через три дня! Это верно?
– Чего вернее: от самой старухи-мамки нынче сведал.
– Что мне делать, Господи? Что мне делать!
– А попросту, не говоря дурного слова, ее выкрасть.
Курбский даже вздрогнул; шут словно прочел в душе его.
– Легко сказать: "выкрасть!" – промолвил он. – Да как? Где взять в такое короткое время надежных пособников?
– А Балцер Зидек на что же! Балцер Зидек вам всю штуку оборудует. Нынче же еще повидаю мамку. Угодно князю?
– Ничего, кажется, более не остается... Повидайте. Я вас благодарностью моей не забуду.
– А задаточек?
С подобострастным поклоном принял балясник задаток; но когда Курбский, кивнув ему, первый удалился, он начал опять усиленно растирать себе горло и злобно глянул вслед уходящему:
– Чтобы у тебя рука отсохла, еретик проклятый! "Я, – говорит, – вас благодарностью моей не забуду". И я тебе, сударик мой, этого не забуду!
Глава сороковая
БАННИТ
Триста лет тому назад даже столичные города в ночную пору погружались в мирный сон, и разве какой-нибудь запоздалый гуляка недопетой песней нарушал порой всеобщую тишину. Краков в описываемое время, несмотря на ряд дневных празднеств в честь московского царевича, не составлял в этом отношении исключения. Такое безлюдье, как и полное отсутствие уличных фонарей, значительно облегчало Курбскому его отважную попытку выкрасть сестру свою из дома матери. Природа на этот раз ему также благоприятствовала: ночь выдалась безлунная и довольно бурная. Ветер бушевал по крутым черепичным кровлям, стучал ставнями, завывал в печных трубах.
Часы на городской ратуше только что пробили полночь, когда к зданию, где временно поселилась старая княгиня Крупская, легкой рысцой подъехали трое всадников: Курбский с парубком-стремянным и Балцер Зидек. Последний сидел на дамском седле, предназначавшемся для княжны Марины. К дому прилегала высокая каменная ограда. По указанию шута, все трое остановились около того места ограды, где, по ту сторону ее, должна была быть приставлена старухой-мамкой княжны лестница. Прямо с хребта коня Балцер Зидек с обычной своей кошачьей ловкостью прыгнул на ограду. Курбский, бросив повод свой стремянному, без затруднения, благодаря своему росту, взлез туда же. Лестница, действительно, оказалась на месте. Оба спустились в сад. Балцер Зидек тихонько окликнул старуху.








![Книга Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] автора Даниил Мордовцев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ten-iroda-idealisty-i-realisty-22051.jpg)