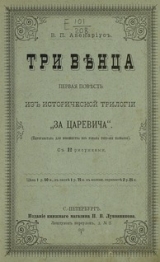
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Не отходивший от кафедры пан Мнишек, в качестве председательствующего, зазвонил в серебряный колокольчик.
– Не угодно ли кому, панове, высказаться по поводу сейчас выслушанного вами?
– Просим высказаться пана Осмольского! Да, да, пана Осмольского! – донеслось с одного конца зала, где скучилась, по-видимому, оппозиция.
– Осмольский здесь? Да когда же он прибыл? Ведь его не было на закуске? Пропустите пана Осмольского! – раздалось с разных сторон.
Опальный поклонник панны Марины пользовался по-прежнему таким всеобщим уважением в воеводстве, что когда он двинулся к кафедре, все стоявшие по пути его шляхтичи тотчас расступились, и он едва успел пожимать на ходу дружелюбно простиравшиеся к нему справа и слева руки.
– Неужто же вы, пане региментарь, против нас? – вполголоса заметил Мнишек Осмольскому, когда тот всходил на амвон.
Но пан региментарь и не взглянул на своего начальника. Спокойно и явственно он начал речь свою с того, что многие-де весьма уважаемые шляхтичи отсутствуют в настоящем собрании. Но почему? Потому что безусловно отвергают войну с дружелюбной Московией. Сам его царское высочество царевич Димитрий указал сейчас на то, что народ польский не в меру уже обременен тягостями войны с свейцами. Новая война с великим народом русским усугубила бы еще эти тяготы, не говоря о том, что исхода ее нельзя даже предвидеть. С другой стороны, царь Борис имеет мирную "пакту" с польским сеймом на двадцать лет, а такая "пакта" – тот же нерушимый закон, та же клятва...
Между слушателями поднялся шумный говор, похожий на ропот. Слышнее, резче других звучал голос пана Тарло:
– Ну, да! Закон! Клятва! Москалям!
Не отходивший от кафедры пан Мнишек в свою очередь сердито буркнул недипломатичному оратору:
– Пожалели бы хоть мою бедную Марину!
Пан Осмольский невольно вскинул глаза на хоры к дочери начальника. Молодая панна, прелестнее собой чем когда-либо, глядела на него с вышины так печально, так укорительно, что он быстро отвел опять взор и забыл уже, казалось, продолжение своей речи.
– Ну, что же дальше? – донеслось нетерпеливо из среды волнующейся перед ним массы голов.
Он снова заговорил, но по неровному и минорному, словно виноватому тону его было ясно, что говорил он далеко уже не то, что намеревался сперва сказать:
– Конечно, если "пакта" эта заключена с узурпатором, то она не могла бы уже иметь той обязательной силы... и закрепив на престоле могучей дружественной державы наследственного царя, мы, поляки, гораздо легче справились бы с нынешними врагами нашими, свейцами...
– Так, да не так! – крикнул снова пан Тарло. – Панове, не дозволите ли мне прибавить от себя несколько пояснительных слов?
– Да, да! Просим! Пусть говорит пан Тарло! Дайте сказать теперь пану Тарло! – загалдела разом сотня голосов, заглушая протест немногих сторонников мира.
Смущенный пан Осмольский безмолвно покорился требованию большинства, а победоносно занявший на кафедре его место пан Тарло окинул аудиторию орлиным взглядом и начал:
– Панове рыцари! Сейчас только воин польский, региментарь, осмелился во всеуслышание говорить вам о тягостях войны. Вы, лучшие представители Речи Посполитой, единодушно этим возмутились. Кто смеет сомневаться в мощи нашей дорогой отчизны, кому милее воинской славы горшок с гречневой кашей, тот сиди себе, пожалуй, с бабами за печью, но имей хоть совесть отказаться от своего воинского чина, от своего регимента...
Отошедший было пан региментарь живо обернулся и с негодованием прервал ораторствующего:
– Пан Тарло извращает мои слова, панове! Но если бы вы точно решили войну, то я готов сложить с себя звание региментаря...
– И прекрасно! И давно бы так! – подхватил пан Тарло, и крик его нашел в толпе живой отголосок.
Поднялся общий гам и спор. Пан воевода нашел себя вынужденным взяться за председательский звонок.
– Благоволите, милостивые панове, выслушать до конца!
Выждав, пока волненье кругом несколько улеглось, пан Тарло самонадеянно еще прежнего продолжал так:
– Почтенный пан региментарь имел гражданское мужество добровольно отказаться от своего военного поста. Но самборское воеводство, благодарение Богу, не оскудело еще доблестными людьми: достойный преемник ему и между нами здесь хоть сейчас найдется. Скромность в сторону, позволяю себе указать не на свои собственные заслуги (о них ближе судить пану воеводе и всему ясновельможному панству), а на мою всегдашнюю готовность для блага родины жертвовать всем моим достоянием и моею головою...
Такое беззастенчивое самовосхваление не могло встретить большого сочувствия, потому что, хотя все присутствующие при оценке собственных заслуг, подобно пану Тарло, готовы были отложить "скромность в сторону", но относительно личности кандидата в региментари в мнениях своих решительно расходились.
Ранее, однако, чем кто-либо собрался, возражать, к немалому соблазну всех, а тем более самою пана Тарло, с хор, из цветущего букета прекрасного пола, на весь зал прозвенел голос молодой супруги нашего щеголя, пани Брониславы:
– Нет, нет, не верьте ему! Я не согласна, я не позволю!
Легко представить себе, какую злорадную веселость среди многочисленных чающих движения воды должен был возбудить этот супружеский протест. Короткие, но выразительные восклицания: "Гм! Недурно! О-го-го!" – долетавшие с разных концов зала до слуха пана Тарло, на минуту как будто ошеломили и этого храбрейшего рыцаря; так что пан воевода счел своевременным вступиться в дело.
– Уважаемый пан Тарло весьма верно заметил, панове, что в воеводстве нашем кандидатов на открывшуюся вакансию региментаря нет числа, заговорил он. – Каждый из вас может оценить свои личные качества, конечно, лучше других, и редкий, я полагаю, положа руку на сердце, признает себя недостойным кандидатуры. Но одну должность, к сожалению, по самой силе вещей, можно предоставить не более, как одному кандидату... Видит Бог, как охотно каждого из вас я возвел бы сейчас не только в региментари, но и в гетманы. Кроме этих начальнических должностей, однако, должны быть в войске и подначальные чины. Так иным из вас поневоле придется, на первое хоть время, удовольствоваться более скромными постами. При этом, впрочем, вы не упустите иметь в виду, что, согласно святому писанию, у кого есть много, тому много и дается. Кто поставит от себя хоругвь, тому честь, а кто поставит их две, тому двойной почет. Поэтому, прежде распределения свободных мест, не благоугодно ли будет вам, милостивые панове, учинить рукоприкладство: кто сколько ратников снарядить от себя в поле; а я, как полномочный воевода Речи Посполитой, приняв от вас ратников, не премину, по долгу службы и совести, указать каждому из вас подобающее место. Поход состоится не ранее осени, когда кончатся главные заботы наши об урожае, и когда самый урожай определится. Предлагаемая же вам ныне подписка должна служить мне для ближайших соображений, какие до времени принять приготовительные меры. Пане секретарь! Благоволите предъявить почтеннейшим панам подписной лист.
Таким ловким оборотом дела пан Мнишек сразу прекратил дальнейшие прения, и паны без возражений всею гурьбою двинулись к кафедре, где появился уже пан Бучинский с пергаментным листом в одной руке и с лебяжьим пером в другой. Немногие собственноручно заносили на лист свое обязательство; большинство диктовало секретарю и затем выводило внизу более или менее привычною рукою свое имя, или же просто ставило три ххх.
Настала очередь и пана Тарло. Хмурый, как ночь, он что-то медлил принять перо и бросил украдкой взгляд на хоры.
– Сколько ратников прикажете вписать от вашего имени, пане добродзею? – спросил пан Бучинский.
– Пишите хоругвь... – был глухой ответ.
– Целую хоругвь?
– Что, что такое? – донеслось опять звонко с хор. – Ничего не пишите: он не пойдет на войну!
В шумевшей кругом толпе послышался уже громкий смех. Пан Тарло обомлел, но тотчас снова пришел в себя и заявил во всеуслышанье:
– Пока я воздержусь еще определить цифру моих ратников и прошу отметить в списке только меня самого.
– Да я же не отпущу вас! – не унималась любящая супруга. – Я не куплю вам ни коня, ни вооружения!
Скандал вышел полный, небывалый. Пану Тарло ничего не оставалось, как поскорее стушеваться, что он и не замедлил сделать.
Зато дальнейшая подписка имела блестящий успех: национальный гонор польский заставлял каждого из прочих подписчиков оттенить себя от бедняги пана Тарло возможно большим числом собственных ратников.
На последовавшем под вечер банкете эпизод с супругами Тарло служил одной из самых благодарных тем разговора. Ни самого щеголя, ни нежной спутницы его жизни не было на лицо. Но от придворного врача было всем известно, что пани Бронислава не на шутку занемогла; а злые языки прибавляли, что недомоганью этому был не беспричинен чересчур скорый на расправу супруг ее.
Великое изобилие на банкете яств и питий, в особенности же присутствие, без разбора, именитой и бедной шляхты отозвалось на самом характере пиршества. Еще до "заедков" дамы вынуждены были покинуть столовую. Бессвязные речи, нелепые тосты и раскатистый хохот гудели, гремели с одного конца столовой до другого.
Один только царевич, сидевший между будущим своим тестем и новым секретарем, был как-то раздумчив и молчалив. На участливый же вопрос пана Бучинского: чего он так нерадостен среди общего веселья, – Димитрий тихо вздохнул:
– А вы не слышите разве, что у всех тут на уме, какое у всякого третье слово? "На Московию!" Чему вперед все рады? Конечно, не моему торжеству, а разорению моей отчизны!
– Да, ваше величество, уж не взыщите: вековые вражды двух народностей ни вам, ни пану воеводе сразу не искоренить. Скажу более: без этой вражды сегодняшняя подписка противу Годунова потерпела бы, может быть, неудачу.
– Хорошо хоть, что Курбского нет теперь при мне... – пробормотал про себя Димитрий.
От входных дверей донеслась такая крупная брань, что все банкетующие повернули головы. Оказалось, что придворный шут Балцер Зидек цепким чертополохом ухватился за полы какого-то пана, который с негодованием, но тщетно от него отбивался.
– Сейчас брось его, Балцер! – гневно прикрикнул на балясника Мнишек. – Что у вас с ним, пане Цирский?
Пан Цирский, мелкий шляхтич-однодворец, поневоле должен был подойти к вельможному хозяину, и с видом оскорбленного достоинства ударяя кулаком в грудь, начал объяснять, что, не желая понапрасну беспокоить пана воеводу, он тихомолком собрался восвояси, когда вдруг в дверях привязался к нему этот бездельник...
– Потому что пан по рассеянности кое-что еще здесь забыл, не все прихватил, – перебил его Балцер Зидек. – Позвольте поштучно проверить.
И прежде чем совсем оторопевший пан Цирский успел воспротивиться, проворный шут извлек из-под полы запасливого гостя пару серебряных ложек, серебряную же "талерку" и, наконец, позлащенную "пугару". Общее недоумение разрешилось гомерическим хохотом одних столующих и ропотом других. Уличенный похититель готов был, казалось, сквозь землю провалиться. Но великодушный хозяин дал поступку его совершенно неожиданную окраску.
– Я могу выразить пану Цирскому только мою искреннейшую признательность, – сказал он, с легким разве оттенком иронии, – что в память сегодняшнего знаменательного дня он взял некоторую мелочь с собою. Эй, хлопцы! Уложить сейчас все это пану Цирскому в корзину да приложить полдюжины венгерского. Но особенно меня радует, что сделано это было так чисто: кроме записного нашего соглядатая, Балцера Зидека, никто-таки ведь из нас здесь ничего не заметил! Это был первый опыт предстоящих нам в Московии военных фуражировок, и опыт, надо отдать честь, вполне удачный! Предлагаю, панове, тост за нашего первого фуражира, пана Цирского!
Тост был принят с одушевлением и заключился единодушным ликованием пирующих:
– На Московию!
"Как хорошо, что Курбского нет при мне..." – повторил мысленно про себя царевич.
Утешался он только тем, что войско-то хоть у него обеспечено. Но и это утешение едва не было отнято у него на следующее же утро. Пан Мнишек казался чрезвычайно озабочен; на вопрос же Димитрия: что его так сокрушает, – как бы нехотя отозвался, что вчерашний анекдот с паном Цирским наглядно, кажется, показывает, с какою голью, даже среди родовой шляхты, им придется иметь дело. Чего же после этого ждать от природных проходимцев, низкорожденной черни? Держать в надлежащей субординации такую шайку, одевать, содержать их всех – никаких сил и средств, пожалуй, не хватит.
Такой упадок духа пана воеводы, искренний или притворный, немало смутил Димитрия. Но опытный пан Бучинский, которому он, как ближайшему к себе теперь человеку, сообщил свои сомнения, разрешил их очень просто:
– Да пожалуйте ему также удел на Руси. Одним больше или меньше – не все ли уж вам одно? А духом он, увидите, мигом воспрянет.
И точно: пасмурное чело пана Мнишка тотчас просветлело, когда царевич, поразмыслив, последовал совету умника секретаря и новою грамотою, от 12-го июня 1604 года, пожаловал тестю княжества Смоленское и Северское. Димитрию же сдавалось, что он подписал свой собственный приговор, и невольно вспомнился ему опять Курбский, при котором, как знать! он повел бы себя, может быть, совсем иначе.
А где же был тем временем сам Курбский?
Глава сорок третья
МИШУК!
– Михайло Андреич! Ты ли это? Не сонное ли виденье?
Курбский задержал коня и протянул руку пешеходу, которого нагнал на дороге и в котором узнал Данилу Дударя, прошлогоднего спутника и "архангела" купца Биркина. Запорожец оглядел сперва свою собственную руку: чиста ли? отер ее о свои широчайшие шаровары и затем уже бережно принял и пожал кончики княжеских пальцев.
– Ведь твоя милость нонече не нашего поля ягода? И что ж это сказывали, будто ты долго жить приказал?
– Не всякому слуху верь, – отвечал Курбский, озирая изодранный чекмень казака. – А тебе, Данило, каково живется?
– У Царя Небесного небо копчу, у царя земного землю топчу. Чего так загляделся на меня: что больно захудал, пообносился? Мы, братику, не привередливы: голодать, холодать давно за привычку.
– Так ты, стало, уже не при Степане Маркыче?
Данило сначала крупно выругался по адресу Степана Марковича, а потом словоохотливо поведал, как он жениху Марусину, Стрекачу Илье Савельичу, не дал пановать над собой, и как из-за этого-де у него с Биркиным крупная свара вышла, шумное дело.
"Так она, значит, еще не замужем!" – сообразил Курбский, а сам чувствовал, как кровь горячею волною прилила ему в лицо. Куда как охотно порасспросил бы он еще о Биркиных; но позади ехал парубок – стремянный его, и он стал рассказывать о самом себе, как побывал для своего царевича на Дону, да как вот, на обратном пути, завернул сюда, в Дубны; а тут сведал, что недалече, в Кринице, ярмарка знатная.
– И что старые знакомцы, Биркины, там же? – подхватил Данило и сочувственно-лукаво подмигнул глазом. – Да, жаль ее, голубки; да что поделаешь! А вот и Криница!
С вышины пригорка они увидели под собою, в обширной, обросшей травою балке, как на ладони, всю картину ярмарки. Урочище Криница, отстоявшее от Лубен верст десять, славится с незапамятных времен своим целебным родником, к которому в десятую пятницу стекаются тысячи богомольцев и торговцев. Более возвышенная и сухая половина балки служит для торга. Среди двух рядов куреней и шалашей с "сластеницами" и разным готовым съестным товаром, скучилось до тысячи крестьянских возов с сырыми сельскими произведениями. В низменной болотистой половине балки виднелась самая "криница" – огороженный водоем, сажени четыре в длину и ширину, накрытый деревянным навесом, на столбах которого были развешаны иконы.
Торг еще не начинался: и торговцы, и покупатели столпились около "криницы", вода которой только что освящалась духовенством. Богослужение шло к концу. Вот церковный притч в золотых ризах дал место мирянам, и те плотной стеной, но чинно, шаг за шагом, с обнаженными головами, потянулись по деревянным мосткам к освященному источнику. Здесь каждый наклонялся к воде и либо черпал ее себе кружкой, кувшинчиком, либо просто брал ее горстью, чтобы окропить себе темя, омыть лицо.
Вдруг сердце в груди у Курбского екнуло и шибко забилось. В ряду богомольцев, возвращавшихся от родника, он разглядел толстяка Биркина, а рядом с ним стройную девушку в праздничном малороссийском платье. То была, конечно, Маруся, но не прежняя бойкая, цветущая Маруся, а какое-то угнетенное, как бы убитое горем существо: круглое пригожее личико ее вытянулось, поблекло; глаза углубились, окаймились темными кругами.
– Что она: недомогала, знать, сильно? – тихо спросил Курбский запорожца.
Тот покосился на стремянного, с интересом также засмотревшегося на невиданное зрелище, и тихо же ответил:
– Да, братику, занеможешь, небось! Глядеть на дивчину – вчуже жалость берет! На солнышко просвечивает.
– Так она замуж-то идет не по доброй воле?
– Наступя на горло да по доброй воле! Хоть и держит нареченного в отдалении от себя, да дяде-то слова супротивного тоже молвить не смеет. Пуще же того по другом милом дружке она тужит, – с обычным добродушным лукавством прибавил казак, – без него ей и цветы-то не цветно цветут, и деревья не красно растут. А вот и он, вишь, злодей ее!
– Где? Который?
– А вон сейчас за ней, мозглявец. Образина-то одна уж чего стоит, продувная, богопротивная! Глазенки, что зверьки, по сторонам так вот и рыскают; а рожа оспой, что поле ржаное, вспахана: только засеять да заборонить. Сам Господь молодчика отметил.
При виде нареченного Маруси, на душе у Курбского стало еще тоскливей. Ужели ей жизнь прожить за этим "отмеченным"? Не жизнь то, а мука смертная! Как бы вызволить бедняжку?
Данило словно заглянул в душу молодого князя.
– Одно средство только и есть, – сказал он.
– Какое?
– Увозом увезти. "Краденый конь не в пример дешевле купленного обойдется", – сказал цыган.
Курбский, хотя сам не так давно еще замышлял сделать то же со своею родной сестрою, теперь почему-то наотрез отверг предложенную меру.
– Гляди-ка: торг никак зачинается, – промолвил он и, отдав коня своему парубку, сам с Данилою сошел по крутой тропинке в балку.
Ярмарочное движение живой волной подхватило, понесло их.
– Что покупаешь, господин честной?
– К нам пожалуйте, к нам, милостивцы!
– Почетный покупатель дороже денег: задаром отдаем.
Так раздавалось отовсюду, и десятки рук тянулись к красавцу-богатырю, таща его то к возам, то к шалашам.
– Ну вас к бисовой матери! – ворчал Данило, локтями пробивая вперед дорогу своему спутнику. – Гам и бестолочь, вавилонское языков смешение, что на польском сейме!
Тут добрались они до довольно обширного куреня, сбитого на живую руку из лозняка и досок. На окнах заманчиво был выложен разный красный и галантерейный товар.
– Вот и Биркиных лавка, шепнул Курбскому запорожец.
В дверях стоял, с достоинством выпятив свое, еще более, казалось, раздобревшее брюхо, сам дядя Марусин и с профессиональным красноречием зазывал к себе проходящих. Он тотчас узнал Курбского, и если бы тот даже имел перед тем намерение не заглядывать к Биркиным, то теперь пройти так мимо уже не приходилось. Степан Маркович не менее Данилы был озадачен воскрешением молодого князя из мертвых и в первую минуту словно забыл, что слышал прошлым летом про склонность племянницы к гайдуку царевича, или же был слишком уже уверен в ней после данного ею Стрекачу слова.
– Мы тут на походе, – извинился он, – не изготовились принять как надобно, но редкому гостю рады.
Приглашение было не очень-то радушно, запорожец не был удостоен и взгляда; но Курбский, не прекословя, последовал за Биркиным в лавку. Бывший здесь с прочими приказчиками Илья Савельич рассыпался только что в похвалах разложенному на прилавках товару перед двумя лубенскими модницами и не имел поэтому времени обратить должное внимание на вновь вошедшего, которого хозяин тут же провел за переборку в заднюю часть куреня.
– Глянь-ка, Машенька, какого я тебе гостя-то привел!
Занятая за переносным очагом, Маруся быстро обернулась и сперва побледнела как смерть, чуть не упала с испуга, а вслед затем зарумянилась до корней волос, просияла светло-радостно. Пока она, по требованию дяди, устанавливала стол разной "немудрящей бакалеей", гость, скрывая свое собственное замешательство, стал рассказывать о своем спасении, а там о браке пана Тарло с панной Гижигинской и об ожидаемой помолвке царевича с панной Мариной.
– Всем-то угнездиться надо – дело житейское, – подхватил Степан Маркович. – И у нас тут тоже свадьба на носу, пир зазвонистый. Тогда, князь, милости просим!
На глазах Маруси проступили слезы, и она поспешно обратилась снова к шипящей на огне сковороде.
Вбежавший в это время мальчишка вызвал хозяина в лавку, и молодые люди остались одни. Наступило тяжелое для обоих молчание, которое прервалось бы, может быть, не скоро, не явись на сцену совершенно нежданный посредник.
Слегка притворенная боковая дверка внезапно настежь растворилась, и оттуда выставилась, мыча, красивая бычачья голова с начинающимися рожками.
– Мишук! – вскрикнула Маруся и бросилась притворить опять дверь, но рогач, гремя копытами по деревянной настилке, шагнул уже вперед, и Курбский признал в нем своего прошлогоднего туренка, обратившегося за год времени в статного молодого тура.
"Она зовет его Мишуком: уж не по мне ли? – подумал Курбский. – И никогда с ним, знать, не расстается, коли и сюда-то из города с собой взяла..."
Тур, по-видимому, питал к своей молоденькой госпоже также большую привязанность, потому что, склонив перед нею голову, дал ей трепать себя по курчавой шее. Курбский подошел к молодому животному с другой стороны и стал также гладить его.
– Точно шелковый, – говорил он, а сам, не отдавая себе в том отчета, взял ее за руку. – Ты, Марья Гордеевна, очень его любишь?
– Да... потому... потому что... – залепетала она и, пуще застыдившись, отвернула пылающее лицо, но руки не отнимала.
Вдруг в двух шагах от них послышались скрип козловых сапогов и сердитое фырканье. Перед ними стоял нареченный Марусин, Стрекач Илья Савельич, задорно избоченясь и с искаженным от негодования лицом.
– Марья Гордеевна! Дяденька вас спрашивают: пожалуйте в лавку.
Маруся не потерялась; очень мало уже, видно, уважения внушал он ей, и, не глядя, сухо проронила:
– Ладно... Вперед выведу только Мишука...
– И сами без вас справим. Пожалуйте, пожалуйте! Здесь вам не место.
Не смея оглянуться на Курбского, девушка с нескрываемым отвращением сделала большой круг, чтобы миновать неподвижно торчавшего на пути ее жениха, и скрылась.
– Прощенья просим! – пробурчал Стрекач Курбскому, схватил тура за мохнатый загривок, а коленком изо всех сил пнул его в пах. – Ну, ты, шалый!
Мишук, должно быть, и ранее уже разделял антипатию своей госпожи, потому что при самом входе Ильи Савельича злобно повел на него своими большими белками. Бесцеремонное обращение с ним тщедушного купчика совсем его раззадорило. Склонив набок лобастую голову, он так свирепо напер на врага, что с одного удара сшиб его с ног, и прежде, чем Курбский успел помешать, повторил еще удар. Весь курень огласился таким болезненным воплем, что из лавки метнулись за переборку и хозяин, и племянница, и молодцы. Курбскому удалось между тем обхватить разъяренное животное за шею и втолкнуть его в боковую дверь. Все домочадцы столпились около пострадавшего, лишившегося чувств. Герой наш, видя, что никому уже не до него, почел за лучшее, не простясь, удалиться.
Глава сорок четвертая
ОТЧЕГО КУРБСКИЙ ЧУРАЛСЯ БРАЧНОГО ВЕНЦА
Вечерело, а Курбский все еще не оставлял Криницы, хотя не оставался уже в ярмарочной балке. Велев стремянному ждать себя, он взобрался на вершину одного из окружающих балку лесистых холмов, чтобы здесь, в отдалении от людской суеты, на досуге поразмыслить о себе и Марусе. Лежа на спине с заложенными за голову руками, глядел он, не отрываясь, в синевшее между тихо колеблющимися древесными вышками, безоблачное небо. Березы кругом, словно перешептываясь о нем, таинственно шумели, а из глубокой балки доносился смутный гул ярмарочной сутолоки.
Волнение его понемногу улеглось, но на душе у него по-прежнему было тяжело и безотрадно; мысли его, как ласточки, реяли туда да сюда, не зная, на каком решении окончательно остановиться.
Почудилось ему раз как-то под тем холмом, на котором он расположился, сердитое мычанье, и, странное дело! мычанье это напомнило ему Марусина четвероногого любимца. Вслед за мычаньем послышалось точно предсмертное хрипенье; потом грубый смех и говор людской. Что говорилось – он не мог разобрать, да ему было и не до того.
Но тут голод начал заявлять свои права. Курбский нехотя приподнялся и начал спускаться под гору.
Так ведь и есть! Под самым холмом, в лужах дымящейся еще крови, лежали внутренности убитого сейчас и выпотрошенного животного. Разбросанные кругом клочья курчавой черной шерсти могли в самом деле принадлежать туру... Но Курбскому все еще не верилось, что Маруся согласилась пожертвовать своим Мишуком.
Ярмарка оказалась в полном разгаре. Под вечер из окрестных сел и деревень понавалила еще тысяча-другая народу, и промеж возов, перед палатками, шел самый оживленный торг, в воздухе стоял несмолкаемый гомон.
По краю балки, позади палаток, Курбский завернул к рассевшимся тут со своими съестными припасами торговкам. Полные ночвы (корытца) животрепещущей рыбы, ползущих раков ожидали здесь любителей, для которых их тут же и чистили, жарили или варили на пылающих переносных очагах. В закрытых котлах были наготове горячие галушки и пельмени. Нечего, кажется, говорить, что наш молодой богатырь в своем панском платье сделался яблоком раздора продавщиц. Утоляя голод, он имел случай прислушаться к многоголосому ярмарочному концерту.
– Бери, друже, что ли! Торгуешь – хаишь; купишь – похвалишь, – звучало с одной стороны.
– Цыган да жид обманом сыт, – слышалось с другой.
По более пологим скатам балки живописными группами разместились приезжие паны, "пидпанки", а больше всего простонародье. Где, луща подсолнечники, слушали слепца-кобзаря и в унисон ему подтягивали; где ели и пили, гуторили, а где забавлялись в кости, в орлянку и в азарте крупно перебранивались.
В одном месте, под самым скатом, посредине дороги, народ столпился такой плотной стеной, что Курбскому не было возможности пробраться. Из-за этой живой стены доносились бренчание бандур со звоном литавр, гиканье с присвистом и одобрительный народный гомон. Подойдя ближе, Курбский, благодаря своему высокому росту, увидел через головы малорослой толпы следующую сцену:
Несколько подвыпивших панов полулежали в кружок на разостланных коврах и пировали. Символическим изображением их пиршества служила красовавшаяся на большом серебряном блюде, увенчанная зеленью, голова молодого тура. Но центром всеобщего внимания был Данило Дударь, который, сбросив с плеч свой казацкий чекмень, отплясывал трепака.
– Живо, эй, живо! – прикрикивал он на старика-бандуриста и мальчика-литаврщика, прилагавших и без того все усилия, чтобы извлечь из своих первобытных инструментов возможно-задорные и громкие звуки.
Пот лил с плясуна уже градом, а он, гикая, взвизгивая, все неистовее приседал, привскакивал, выводил все новые коленца. Вдруг одна нога у него как-то подвернулась, и он распластался в пыли, да так и остался лежать врастяжку. Громогласный хохот глазеющей черни и полная чара пенистой браги из рук панских были ему наградой. Принимая последнюю, он заметил вдруг молодого русского князя.
– А, княже мой! Смотришь тоже, как добрые люди чествуют Данилу?
"Ой, спасибо, тещеньку,
Ой, спасибо, матинку,
Як жив буду,
То вже не забуду!"
Курбский сделал ему знак, что желал бы поговорить с ним, и запорожец, подобрав с земли свой чекмень, не совсем охотно последовал за ним. Первый вопрос касался турьей головы на панском блюде. Оказалось, что то в самом деле была голова бедного Мишука, которого Биркин, за его крутую расправу с Марусиным женихом, сбыл панам, а те тут же велели приколоть да на доброе здоровье и скушали.
– А что, разве этому Илье Савельичу так уж плохо? – спросил Курбский.
– Нехорошо, братику, совсем, кажись, нехорошо! Призывали к нему знахарку: сказывает, что два ребра у него переломлено, да нутро повреждено.
– Гм... Жаль мне беднягу; но из-за Марьи Гордеевны я все же, грешный человек, рад. Свадьбу, поди, теперь отложат?
– Знамое дело; до свадьбы ли им! А тебе, Михайло Андреич, небось, повидать бы еще ее?
Курбский покраснел и замялся.
– Не то, чтобы... но одну вещицу передать...
– Давай – отнесу.
– Нет, мне надо отдать ей из рук в руки. Казак лукаво прищурился.
– Смекаем! Ну, что ж, к самому вечеру, как совсем стемнеет, народ порассыпется по горам, по долам, огни по деревам зачнет зажигать, – тут, я чай, и Марья Гордеевна выйдет из дому.
Солнце спряталось, и сумерки украинской ночи быстро сгущались над Криницей и окружающими ее холмами. Курбский поднялся опять на один из этих холмов, где, по уговору с запорожцем, тот с Марусей могли затем найти его. Кругом, по всем возвышенностям, ближе и дальше, раздавались веселые оклики ярмарочного люда, выбиравшего себе наиболее удобные места для предстоящего зрелища.
Вот на побледневшем небе робко проглянула вечерняя звезда. Внизу, на дне балки, за наступившим полумраком ничего уже нельзя было толком различить: очаги все были потушены, и только несмолкающий, смутный гам, доносившийся оттуда, говорил, что жизнь там еще не замерла.
В воздухе стояла сыроватая, душистая теплынь и такая тишь, что ни одна ветка на деревьях не шевелилась, словно сама природа притаилась в ожидании того, что будет.
Вот и совсем стемнело, а в вышине, в небесах, ярко вызвездило.
Вдруг, в самом отдаленном углу балки, там, где находился чудотворный колодезь, блеснула такая же светлая звездочка; вслед за нею другая, третья, десятая, сотая: то зажигались тонкие восковые свечи, прилепленные благочестивыми богомольцами на срубе криницы. Освещение колодца было как бы общим сигналом. Такие же огоньки начали вспыхивать по всему пространству обширной балки: на очагах, на телегах, на рогах волов. Одновременно и вся окрестность озарилась: чуть не каждое дерево на окружных холмах засверкало огнями. Эта простая сама по себе, но колоссальная иллюминация представляла что-то сказочно-фантастическое, небывало-торжественное. Что значила перед нею та великолепная в своем роде иллюминация из плошек и транспарантов, которая, в честь царевича, была устроена королем Сигизмундом на Пасхе в Кракове!
Здесь дело не ограничилось еще зрелищем. Лишь только засветились огни, как на одной из вершин невидимый запевало затянул духовную песню, которую тотчас подхватил невидимый же хор. Как бы в ответ, с противоположной вершины зазвучала народная хоровая песня; а из балки поднялось разом несколько хоров, под аккомпанемент звенящих крестьянских кос.








![Книга Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] автора Даниил Мордовцев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ten-iroda-idealisty-i-realisty-22051.jpg)