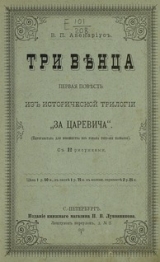
Текст книги "Три венца"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу? Смех кругом разом замер. Светлейшая ахнула и, боясь за свои нервы, закрыла глаза рукой. Сынок же ее уцепился за рукав матери и громко разревелся:
– Ай, мама, мама! Он убьет Палашку, убьет!
– Гей, хлопцы! – крикнул тут князь Адам. – Чего зеваете? Отымите его у него!
Михайло уже опомнился.
– Не подходи, братцы! – сурово обратился он к хо-лопьям, которые довольно нерешительно двинулись было к нему. – Натворю бед: ни ему, ни вам несдобровать.
Как пуховую подушку, сгреб он малютку-шута в охапку и подбросил его кверху. Тот очутился на покатой кровле крыльца и с криком ухватился за нее, чтобы не соскользнуть вниз. Придворные за столом свободно вздохнули, а между прислугой послышались легкие смешки. Но маленький княжич с перепугу рыдал еще безутешно, и совсем уже расстроенная княгиня с побелевшими, дрожащими губами, бросила в лицо своему вельможному супругу при всем собрании резкий упрек:
– И вы, князь Адам, молчите? Вы дозволяете какому-то лесному бродяге так обижать ваших приближенных, доводить до горьких слез вашего единого сына – сына князя Адама Вишневецкого? Нет, это слишком... этого я не перенесу!..
Она с шумом поднялась и увлекла за руку в дом плачущею сына. Маленькая дочка-княжна, фрейлины и прислуживавшая детям нянюшка поспешили за нею.
Добродушный князь Адам, на устах которого при благополучном исходе истории с карликом появилась уже прежняя улыбка, не на шутку вспылил от заслуженного укора; он грозно выпрямился и задыхающимся голосом гаркнул хлопцам:
– Убрать его с наших глаз и рассчитать по-казацки!
"Рассчитать по-казацки", как было всем хорошо известно, в том числе и самому Михайле, значило отстегать нагайкой. Прежде, однако, чем хлопцы успели исполнить приказание своего господина, дикарь наш выхватил из-за пояса нож и стал в оборонительное положение.
– Я не дамся живым! Берегись, братцы!
– Ну, что же? Уберете ли вы его? – повторил еще строже Вишневецкий.
– Не трогать его! – раздался тут другой повелительный голос.
Хлопцы раболепно отступили. Перед Михайлой стоял сам царевич Димитрий.
– Тебя пальцем не тронут: мы не позволим, – сказал царевич, с особенным ударением на слове "мы", после чего дружелюбно, но решительно отнесся к князю Адаму. – Из-за чего вам, любезный князь, так горячиться? Чем собственно этот молодец провинился? Тем, что не дал поглумиться над собой дураку? Да по правде сказать, он обошелся с дурнем еще довольно милостиво: напугал и больше ничего.
Михайло, повторяем, был очень молод и легко поддавался первому порыву. Великодушие, с которым царевич в такую решительную минуту принял его под свою защиту, окончательно склонило нашего героя в его пользу, отогнало у него последние сомнения относительно царского происхождения его защитника.
– Отродясь я не был еще бит, и, конечно, не дался бы и теперь, – промолвил он с блещущими глазами. – Но твоего доброго словца, царевич, я вовек не забуду!
Сунув нож опять за пояс, он повернулся к шуту Палашке, который, свесив ноги, все еще сидел на кровле крыльца.
– Что, друже, насиделся? Ну, будет хныкать-то! Прыгай!
Он протянул карлику обе руки. Тот, буравя кулаком в глазу, слезливо отозвался:
– А не замаешь?
– Не замаю. Прыгай, что ли!
Поймав его налету, Михайло бережно поставил его на ноги; затем отдал царевичу еще раз глубокий поклон и повернулся, чтобы удалиться в дом. Но шут Ивашко остановил его.
– Постой, красавчик мой! Не слыхал нешто, что Иван-царевич тебя в дружинники к себе прочит? Что же, Иван-царевич? Какого тебе еще Илью Муромца? Ростом трех сажен, в плечах – коса сажень, промеж глаз – калена стрела... Не красна на молодце одежа – сам собой молодец красен.
Царевич Димитрий, должно быть, привык уже к тому, что карлик переименовал его в сказочные Иваны-царевичи, потому что оставил кличку эту без внимания. Он, видимо, любовался атлетической, статной фигурой дикаря и возобновил допрос.
– Ты – русский, говоришь, однако, и по-польски... Какого же ты рода? Откуда появился?
Юливший все время вокруг да около царевича Иосель Мойшельсон, размахивая своей парадной ермолкой, униженно-нахально проскользнул бочком вперед.
– Пхе! Да он, ваше ясновельможное величество, простой мужик, полещук: сам говорил нам.
– Так ли, полно? – усомнился царевич. Михайло не взглянул даже на еврея.
– Говорил, да, – отвечал он царевичу. – Но тебя, государь, морочить мне не пристало: язык не повернется. Какого я рода – не все ли едино? Прошлого у меня нету: я оставил его позади себя и сам уже не помню, не знаю, знать не хочу. Одна родная у меня – нужда горькая; я – полешанин и больше ничего. Зовусь же я Михайлой, прозываюсь Безродным.
– Стало быть, Михайло Безродный? А кто прозвал тебя так?
– Свои же товарищи-полещане.
– Но они-то кто такие? Не вольница ли уж разудалая, не станичники ли, подорожники?
Михайло покраснел и нахмурился.
– Не пытай, государь! – промолвил он почти умоляющим тоном. – Скажу тебе одно: я доброго кореня отрасль...
– И души христианской ни одной не сгубил?
– Ни единой, как Бог свят.
– Верю. Дружинников у меня покуда еще нет; но они найдутся – только клич кликнуть. Верный же слуга, свой, русский, мне теперь всего нужнее. Готов ли ты, Михайло, служить мне верой и правдой?
– Рад душой и телом! Хоть последним слугой...
– Нет, ты будешь мне первым слугой, первым гайдуком. Подать ему чару вина!
Такая честь, оказанная безвестному бродяге будущим царем московским, возбудила кругом между панами шепот удивления, а между прислугой – и зависть. Вишневецкий собственноручно долил свой большой золотой кубок и с небрежной снисходительностью протянул его Михайле, после чего подозвал к себе своего гардеробмейстера, толстопузого и чрезвычайно важного на вид старика, и вполголоса отдал ему приказание – немедля выбрать для нового царского гайдука подходящий наряд.
Полчаса спустя обед пришел к концу, столы были убраны, и княжеская золотая колымага первою подкатила к крыльцу.
– Где же гайдук мой? – спросил, озираясь, царевич.
Иосель Мойшельсон бросился в дом и, к немалой досаде своей, застал здесь, в сенях, разодетого в новый наряд гайдука в разговоре с Рахилью.
– Да ты, Михайло, загордишься, – говорила молодая еврейка, – чураться меня станешь...
– Я те зачураю! – перебил ее подскочивший в это время старик-отец и дернул за руку с такою силой, что девушка отлетела в угол. – А тебя, Михайло, царевич зовет. Ходи скорей, ну?
Он хотел, видно, еще распушить дочку, но спохватился, что упустит, пожалуй "гешефт", и буркнув только что-то, опрометью выскочил также к отъезжающим. Колымага уже тронулась с места, когда в дверцах ее показалась кудластая голова корчмаря.
– Ваша ясновельможная светлость! Простите: мы люди маленькие, живем только тем, что паны банкетуют у нас...
– А и в самом деле! Тебя ведь еще не рассчитали? – вспомнил князь Адам.
– Ни!
– Сколько же тебе причтется?
Старик-еврей с умильной ужимкой склонился еще ниже и без конца заморгал.
– Сто дукатов вашей светлости не много будет? Несообразное требование поразило даже известного своею щедростью князя Адама.
– Сто дукатов? – переспросил он. – Это за что же? Ведь припасы-то у нас, чай, все свои были?
– А про турицу-то, ваша светлейшая ясновель-можность, забыли? Пхе!
– Да туры будто у нас на Волыни уже такая редкость?
– Туры-то не редкость, – отвечал изворотливый еврей, подобострастно осклабляясь и подмигивая сидевшему рядом с князем царевичу, – но цари московские – уй-уй какая редкость!
Царевич усмехнулся, а князь рассмеялся и крикнул своему казначею, чтобы тот отсчитал корчмарю требуемую им сумму.
Глава восьмая
В ГОЛОВЕ ПАННЫ МАРИНЫ НАЗРЕВАЕТ ПЛАН
Пока названный царевич Димитрий, а с ним и новый гайдук его, под палящими лучами июльского солнца в удушающих облаках пыли, безостановочно мчались навстречу неведомой судьбе своей, судьба их была более или менее уже предрешена: предрешена в отдаленном Самборе молодою девушкой, существования которой ни один из них еще не подозревал. Девушка эта была первая самборская красавица и привередница – панна Марина Мнишек, младшая и любимая дочь Сендомирского воеводы, Юрия Мнишка.
Пан воевода только что окончил продолжительное совещание с тремя монахами: двумя иезуитами и одним бернардинцем, присланными к нему папским нунцием в Кракове, Рангони, как панна Марина, выжидавшая только, казалось, ухода монахов, впорхнула в кабинет отца.
– Что тебе, мое сердце? – с оттенком неудовольствия спросил пан Мнишек, который, видимо, утомленный предшествовавшими прениями, разлегся на диване и, тяжело дыша, отирал платком свое голое, блестящее, как полированная слоновая кость, темя, на которое с затылка только был тщательно зачесан седой оседелец.
Молодая панна, ластясь, подсела к старику и, достав из кармана свой собственный фацелет (платок) тончайшего полотна, опрысканный эфирным раствором амбры, нежно провела платком по его лбу, а в заключение поцеловала его в самое темя.
– Вот так! – сказала она, с улыбкой глядя на него. – Что, разве не легче?
– Легче; но я устал моя милая, очень устал...
– Безбожные патеры!
– Тише, дитя мое...
– И чего им от вас нужно?! Ну, скажите, папа, чего им нужно?
– Это, милая, государственная тайна. У тебя же еще один ветер в голове...
– Без ветра, папа, никак нельзя: без него бы все на свете застоялось и сгнило; ветер очищает воздух.
И в подкрепление своих слов, она обмахнула опять лицо отца своим платком и обдала его при этом ароматом амбры.
– Экий язычок! На все ответ найдется, – заметил пан Мнишек, с умилением взглядывая снизу в сверкающие глазки дочери.
– Ну, да Бог с ними, вашими патерами! – сказала она. – Я и без того прекрасно знаю, что разговор у вас был об этом московском царевиче, который точно с неба свалился. Ответьте мне, папа, только на один вопрос: в самом ли деле это заколдованный принц, или он только прикидывается им?
– Гм... Да тебе-то, милочка, на что? Что за странные для девушки вопросы ни с того, ни с сего?
– Видно, есть с чего... Так что же, говорите: принц он или нет?
Пан Мнишек пристально взглянул в глаза дочери. Она глядела на него не менее зорко и смело, нетерпеливо потопывая ножкой по полу.
– Ты, Марина, у меня ведь известная фантазерка: в безумной головке твоей, верно, опять какая-нибудь шальная идея родилась?
– Шальная ли, увидите когда нужно. А теперь отвечайте мне: кто этот таинственный незнакомец, выдающий себя за русского царевича? Отвечайте, пожалуйста, по совести! Вы не знаете, папа, сколько от этого зависит и для вас, и для меня!
Пан воевода озабоченно насупился и покачал головой.
– Что я скажу тебе? Кто заглянет ему в душу?
– Так вы сами, значит, не совсем уверены в нем? – продолжала допытываться панна Марина, и возбужденные черты ее подернулись тенью разочарования. – Это, конечно, грустно, очень грустно; но... все равно, принц он или нет, есть ли у него надежда захватить венец царский?
– Ежели король наш Сигизмунд и сейм польский не откажут ему в своей помощи – без сомнения.
– А эти посланцы папского нунция из Кракова прибыли сюда к вам, конечно, по этому же делу?
Пан Мнишек не мог скрыть своего изумления по поводу дипломатического чутья дочери.
– Ты, милая моя, право, иезуит в юбке! Панна Марина тихонько засмеялась.
– Была, значит, в хорошей школе! Недаром вы окружили теперь и себя, и меня иезуитами.
– Не шути с огнем! – укорительно заметил отец. – С иезуитами считаются теперь и крупные государственные мужи, преклоняется перед ними и власть королевская. Они же возложат на голову нашего августейшего монарха наследственную корону шведскую, которая была у него насильственно отнята...
– Договаривайте, папа.
– Что договаривать? И то проболтал уже лишнее. Политика – не женское дело.
– Так я вам доскажу. Иезуиты ваши подбивают короля поддержать этого претендента на московский престол (царевич ли он или нет – для них все равно) с тем, чтобы он потом, в свой черед, помог королю вернуть себе шведскую корону. Не так ли?
Старик Мнишек развел руками.
– Кто тебе это все выдал?
Дочь коснулась указательным пальцем своего высокого, выпуклого лба.
– Вот эта безумная головка. Политика, как видите, иногда и женское дело. Стало быть все это верно? Хорошо. А иезуиты-то из чего хлопочут?
– Как из чего? Чтобы восстановить прежнее могущество польского народа, исповедующего их святую римскую веру.
– Вы думаете? Какое дело настоящему иезуиту до того или до другого народа? Нет, у них совсем другое на уме.
– Другое?
– Торжество истинного Христова учения: им надо обратить в римскую веру нового русского царя, а через него и весь народ русский.
– А что ведь? И то, пожалуй, так! Ай да умница! Тебе самой бы, право, восседать на престоле.
– Чего нет, то может еще статься.
Пан воевода от изумления, от испуга даже рот разинул.
– Как? Что ты говоришь?
– Молчание, папа! Еще время не приспело. Как ваши иезуиты ни хлопочут – одним без меня, поверьте, им ничего не добиться. Теперь заколдованный принц, как слышно, в Дубне у князя Острожского, которому князь Адам почему-то счел нужным раньше других его представить.
– Потому что-то – первый защитник русских и православных на Волыни! – не без горечи пояснил пан Мнишек.
– Хорошо. Но после-то князя Острожского к кому он его повезет на поклон? Разумеется, к родному брату своему, Константину, в Жалосцы...
– И ты хочешь теперь же ехать туда, как бы им навстречу? Боже тебя упаси! Вот сумасбродство...
– Ничего нет проще: про царевича я ничего знать не знаю. Еду же я только в гости к сестре своей, Урсуле. Если тут, в доме ее, я случайно, – слышите: совершенно случайно, – застаю проезжего принца, то моя ли в том вина? Что будут они потом и сюда, в Самбор, – я верю. Но видеть его раньше того, как бы мимоходом, мне решительно необходимо, чтобы присмотреться и окончательно решиться. Я нахожу даже более осторожным, если вы, папа, не будете там со мною, чтобы я гостила у сестры совсем случайно. Не правда ли?
– Правда... Умница ты у меня, повторяю, разумница, какой другой не найти, – ей-Богу, так! Но, знаешь, душа у меня далеко не спокойна: а ну, как он и точно самозванец и проведет тебя...
– Меня-то? – самоуверенно улыбнулась хорошенькая панна. – Это мы еще посмотрим: кто кого проведет!
– Ах, дитя мое, ах-ах! – вздохнул пан Мнишек, с озабоченным видом поглаживая рукою цветущую щечку дочери. – Боюсь я за тебя, боюсь: ты так молода; сердечко твое и теперь, думается мне, не совсем свободно...
Облачко грусти пробежало по ясному челу девушки.
– Вы, папа, говорите про пана Осмольского?
– Да, про него. Что он к тебе неравнодушен, как многие другие польские рыцари, ты сама, конечно, заметила еще раньше меня. Но он также богат, умен, занимает при мне видное место – региментаря, и сам дослужится, надо думать, до воеводства; он храбр, честен, скромен – рыцарь в лучшем смысле слова...
– К чему вы, папа, мне все это говорите! Будто я этого и без вас не знаю? – с сердцем перебила панна Марина и вся заалелась.
– Говорю потому, что мне больно за тебя...
– А мне-то, вы думаете, не больно? Но тут я могу не только сама занять такое высокое место, какое ни одной из моих подруг и во сне не снилось, – я могу оказать своей отчизне, своей вере такую услугу, которая никогда не забудется и занесет мое имя на страницы истории рядом с самыми почетными именами!
Пан воевода слушал свою красноречивую дочку с возрастающим восхищением; при последних словах ее он поймал на воздухе ее жестикулирующую руку и, поднеся к губам, приложился губами к кончикам ее стройных пальцев.
– Преклоняюсь перед вашим не женским умом, пани!
Так-то, еще за несколько дней до приезда в Жалосцы царевича Димитрия, панна Марина Мнишек явилась туда в сообществе двух любимых своих фрейлин: Муси (то есть Маруси) Биркиной и Брониславы Гижигинской. День спустя прибыли туда из Самбора еще трое гостей по взаимному соглашению папских легатов: один из них, бернардинец, патер Сераковский, в действительности также иезуит, но тайный, и уже от себя – двое искателей руки панны Марины: вышеупомянутый пан Осмольский и его соперник, пан Тарло, – последний, как выяснилось вскоре, также тайное орудие иезуитов.
Глава девятая
ПАННА МАРИНА ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Каменные замки на Волыни в описываемую эпоху можно было встретить только в редких, более крупных городских поселениях: в Кременце, Дубне, Остроге, Луцке. Так и жалосцкий замок (лежавший не далее десяти верст по ту сторону Волынской границы), несмотря на вошедшее в поговорку богатство старинного рода Вишневецких, был возведен из дубового дерева и крыт гонтом. Зато он поражал массивной архитектурой, представляя обширный восьмиугольник в три яруса. Над крутой срединной вышкой развевался фамильный флаг Вишневецких, а над главным порталом красовался эффектный герб Русского (то есть Черво-но-русского) воеводства – золотой лев в короне на голубом поле. По всем восьми углам замка высились стройные вежи (башни). Верхние ярусы их были снабжены, вместо окон, круглыми бойницами, из которых выставлялись жерла небольших пушек; в нижних помещались скопившиеся годами склады всяких военных и особенно охотничьих принадлежностей.
Для полной защиты от нападения кочевников, замок со всеми его городнями (пристройки и службы) и прилегавшим к нему парком был обнесен земляным валом с дубовым частоколом и глубоким рвом. Последний, впрочем, в данное время пересох и оброс травою, но благодаря протекавшей по парку быстрой и многоводной речке, он всегда мог быть наполнен водою. Единственным выходом из этого земляного и водяного кольца служил подъемный мост перед въездными воротами, две башенки которых были также вооружены большими пушками – "бомбардами".
Лучшим украшением замка был, однако, его великолепный парк. Лет семнадцать назад получив, можно сказать, с бою руку старшей дочери Сендомирского воеводы, панны Урсулы Мнишек, окруженной в то время, как теперь ее младшая сестрица, целым роем поклонников, князь Константин Вишневецкий желал сделать своей молодой, избалованной спутнице жизни пребывание вдали от родительского дома возможно отрадным и приятным. В этих видах он выписал из немецкой земли искусника-садовода и с ним разных подначальных мастеров, и в два-три месяца старый, запущенный парк стал неузнаваем. Густую чащу вдоль и поперек изрезали широкие аллеи и извилистые дорожки, усыпанные то белым, то красным песком; на перекрестках появились столбики с разъяснительными надписями: "Философская тропа", "Путь мечтаний", "Аллея вздохов" и т.п., а из-за нависших сплетений плюща то здесь, то там эффектно просвечивали расписанные гипсовые фигуры древнегреческих богов и героев, а также разных заморских,зверей: львов, тигров, крокодилов. Можно было найти для отдохновения не одну укромную беседку: одну – с кукующей деревянной кукушкой; другую – с золотой арфой; третью – наподобие китайского киоска с звенящими на зонтичной крыше колокольчиками. Можно было скрыться в темный грот со сталактитами и сталагмитами, или же присесть помечтать у журчащего каскада.
Правда, розовое настроение княгини Урсулы, в ранней юности склонной к мечтательности, с годами уступило место строгой религиозности. Но парк, по распоряжению ее светлейшего супруга, поддерживался в прежнем виде.
В этом-то парке под вечер следующего дня по прибытии самборских гостей гуляло целое общество. Во время прогулки по одну руку панны Марины вскоре очутился пан Осмольский, по другую – пан Тарло. С первого взгляда трудно было бы сказать, кому из обоих отдать предпочтение.
Аристократические черты смуглого лица пана Тарло носили, правда, следы бурно прожитых лет, но черные глаза его под густыми сросшимися бровями светились как тлеющие уголья, и та самонадеянная заносчивость, то нескрываемое презрение, с которым он относился к большинству мужчин, та рыцарская почтительность и изысканная любезность, которые он выказывал перед особами другого пола, особенно если они отличались молодостью и красотою, снискали ему почти всеобщее расположение самборских дам.
Пан Осмольский, напротив, красотою лица отнюдь не поражал. Черты его были довольно обыкновенны и крупны. Зато в них выражались твердая воля, прямодушие и привычка к размышлению. Телом же он, надо признать, был очень хорошо сложен и вообще имел чрезвычайно решительный, воинственный вид, благодаря, между прочим, и военному мундиру. Это, очевидно, был вполне прямой характер, честный и простой вояка и рубака с возвышенным умом и чистым сердцем.
– Ах, вот что, пане Осмольский, – сказала вдруг панна Марина. – У меня к вам просьба, большая просьба!
– Панне остается только приказать, – был почтительный ответ.
– Но просьба, повторяю, очень большая! Вы вчера ведь только прибыли сюда и, конечно, еще утомлены, не отдохнули?
– Мы, пани, люди военные, и утомления для нас не существует.
– Так вы не слишком на меня рассердитесь, если я вас теперь же заставлю совершить обратное путешествие в Самбор?
– С вами, в качестве конвойного?
– То-то, что без меня. Мне во что бы то ни стало надо отправить очень важное и спешное письмо к отцу, и более верного гонца, как вы, я не знаю. Как рыцарь, вы в просьбе моей, конечно, не откажете?
Она произнесла это как-то особенно ласково, но так решительно, что пан Осмольский насупился и отдал ей формальный "рыцарский" поклон.
– Вы делаете мне слишком много чести, пани. Между вашими собственными служителями, между прислугой вашей сестры нашлись бы, я уверен, вполне благонадежные люди, которые с не меньшим успехом, чем я, исполнили бы это немудреное поручение.
– Так вы не желаете сделать это для меня?
– Если прикажете, то я, разумеется, повинуюсь: ваше слово для меня – закон.
– Так я приказываю.
– Слушаюсь, пани, – не без горечи уязвленного самолюбия отвечал пан Осмольский. – Письмо, может быть, уже при вас?
Небольшое, сложенное треугольничком и запечатанное письмо, действительно, оказалось уже у нее наготове. Приняв его, пан Осмольский молча откланялся, подошел к хозяевам объяснить, что по самому неотложному делу должен сейчас же возвратиться в Самбор, и без оглядки удалился.
– Мне даже жаль его! – усмехнулся пан Тарло. – Вы точно нарочно услали его отсюда?
– А если бы и так? – вполголоса отвечала панна Марина. – Отстанем немножко от других.
Пропустив остальное общество вперед, они незаметно завернули в безлюдную боковую аллею.
– Время дорого, – начала тут опять панна Марина, – и с вами, любезный пане Эвзебий, я не стану более играть в жмурки. Вы не менее строгий католик, как вся наша семья Мнишек, и потому, конечно, поймете, что благо святой нашей церкви должно быть нам выше даже собственного нашего счастья. Между тем, в руках моих, можно сказать, судьбы нашей церкви: от меня зависит обратить к ней миллионы еретиков. Что вы глядите на меня так удивленно? Объяснюсь проще: нам надо заставить московского царевича перейти в нашу веру, а для этого мне надо завоевать его расположение...
Пан Тарло, как ужаленный, даже привскочил на ходу.
– И я должен еще содействовать вам? – вскричал он. – Это, пани, бесчеловечно!
– Что я не совсем бесчеловечна, что я к вам... благосклоннее, чем к кому-либо другому, вы можете судить уже потому, что вас я не удаляю от себя, тогда как вашего опаснейшего соперника, как видите, и след простыл. Я послала его с письмом к моему отцу, чтобы тот ни за что не отпускал его уже из Самбора.
– Только для этого?
– А по-вашему этого мало? Мне выпала, как я только что говорила вам, великая, но и трудная задача – сделать московского царевича верным слугою папского престола. И, пока задача эта не будет мною выполнена, я дала себе слово не думать о моем собственном счастье. Пан Осмольский по своей непростительной прямоте только мешал бы мне в моем плане; говорить с ним о таком деликатном деле решительно невозможно. Вы же, дорогой Эвзебий, совсем другого закала, в вас я надеюсь иметь самого верного помощника: вы должны вашим вниманием ко мне постоянно поддерживать чувства царевича, а в то же время, чтобы оставлять его в некотором сомнении, быть галантным и с моими фрейлинами. Зато, раз только царевич будет наш, эта рука – ваша...
Молодая комедиантка, не глядя, протянула ему свою руку, к которой он не замедлил приложиться губами.
– Итак, мы – союзники? – сказала она, отнимая опять руку. – Вы обещаете иметь терпение до конца?
– Вы делаете со мною, что хотите, божественная!..
– Без нежностей! Я для вас, покамест, как и для всех других, только панна Мнишек, которая может быть одинаково любезна с кем хочет.
– Слушаюсь...
– Слово польского рыцаря?
– Слово рыцаря.
– Чур, не забывать! А теперь, пане, повернем назад и нагоним поскорее других.
Глава десятая
ФАЛЬШИВАЯ ТРЕВОГА
Следующий день выдался исключительно жаркий и душный. Солнце, чем далее за полдень, тем томительнее пекло и парило, как бывает обыкновенно перед июльскою грозою. Неудивительно, что многочисленные домочадцы жалосцского замка попрятались по углам.
Обширный, усыпанный песком двор перед лицевым фасадом замка лежал прямо на припеке, и на нем, естественно, не было ни души. Но и отсюда замечались признаки напряженного ожидания необычных гостей: из открытых окон отдаленного флигеля, где помещалась княжеская пекарня (кухня), доносился неумолчный концерт ножей, кастрюль, ступок, перебранка повара с поваренками. На пороге главного портала замка стоял бессменным караулом, в полной парадной форме, один из двух дежурных на этот день "маршалков" – молодых дворян-приживальцев светлейшего. Несколько человек состоявших под его началом ливрейных слуг слонялось тут же между колонками подъезда и вполголоса лениво перешучивалось. По временам показывался из замка сам маршал придворный, пан Пузын, тяжелый на подъем толстяк; пыхтя под плотно облегавшим его раздобревшее тело кунтушом, спереди и сзади залитым золотым шитьем, он озирался – все ли в порядке, отдавал слугам еще то или другое приказание и, отдуваясь, скрывался опять в прохладные сени дома.
– И чего он ползет-то еще сюда? – заметил один из дежурных слуг, чернявый, востроглазый малый.
– На то маршал, – отозвался, зевая, другой.
– Маршал! Вона где наш маршал, – сказал первый, кивая на окошко в "городне", откуда только что выглянула на минутку голова молодого княжеского секретаря, пана Бучинского: всем у нас верховодит.
– Ты, Юшка, держал бы язык за зубами.
– Да нешто не правда? Он вот и теперь-то за делом – бумажки строчит, а нет-нет да и выглянет: все видит, все подметит, а хошь бы раз облаял – мягко стелет и мягко спать. А тот что? Хошь бы палец о палец ударил: "Раздень меня, разуй меня, уложи меня, накрой меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну и сам".
– Видно, ты, братику, давно на конюшне не бывал?
– Головы не снимут!
– А спины не жалко?
– Душа Божья, голова царская, спина барская, – с беззаботною удалью отозвался Юшка. – А нонече и на нашей улице будет праздник!
– Что так?
– Да так: штуку одну таковскую про запас имею; один князь только поколе ведает. Как сведаете, братцы, – ахнете!
– Ври больше: кудрявый у тебя волос – кудрявы и мысли.
Юшка собирался еще что-то сказать, но прикусил язык: в дверях появился сам владелец замка, светлейший князь Константин Вишневецкий. Это был мужчина лет за пятьдесят, чрезвычайно решительного, даже сурового вида, хотя в чертах лица его можно было найти некоторое фамильное сходство с его младшим, добродушным братом князем Адамом. В ожидании царевича, он также был в праздничном наряде, в собольей шапке со страусовым пером и с аграфом из драгоценных каменьев.
Не удостоив и взгляда слуг, раболепно расступившихся по сторонам, князь, сопровождаемый дежурным маршалком, вышел на середину двора и неодобрительно оглядел кругом небо.
– Ни облачка, а душно, как перед грозою, – пробормотал он как бы про себя, – не застало бы их в дороге.
– Парит, ваша светлость, и чересчур уже тихо в воздухе, – позволил себе почтительно заметить молодой маршалок, – ведь нынче же у русских Илья-пророк – даром не пройдет.
– Что? – вскинулся на него начальник и гуще еще сдвинул брови. – Вы разве еще православный?
– Упаси Боже, ваша светлость!.. Я сказал только так, по необдуманности.
Князь оставил отговорку без дальнейшего внимания и поднял голову к кровле замка, над верхушечной башенкой которого развивался родной стяг Вишневецких.
– Гай-гай, диду! – громко крикнул он.
Никого в вышине не было видно, и отклика не последовало.
– Дидусю! Павло! – еще зычнее крикнул князь. Над выступом башенки вынырнула белая, как лунь, старческая голова, четко выделяясь на небесной лазури.
– Чего, батьку? – донесся вниз разбитый, дребезжащий голос "дида" Павла.
– Не видать их?
Как петух, высматривающий на земле зерно, старик свернул свою белую голову на бок и приставил руку рупором к уху.
– Глухой тетерев! – вспылил господин его. – Не видать гостей, что ли?
– Нету-ти.
– Совсем плох стал старичина! Пора на покой, – проворчал про себя князь. – Эй, Юшка! Слетай-ка ты на вышку да дерни, когда нужно, звонок: старик, чего доброго, проглядит еще гостей.
– Мигом слетаю, батюшка князь.
Но "слетать" на вышку он уже не успел: "дид Павло" напряг теперь, как видно, свое ослабевшее зрение, чтобы в угоду князю поскорее усмотреть гостей, и дернул звонок. По замку резко прозвенел знакомый всем обитателям его колокольчик, и весь замок, как муравейник, в который ткнули палкой, вдруг взворошился, ожил.
Церемониал встречи почетных, да и непочетных гостей в "доброе старое время" соблюдался куда строже, чем в наше вольнодумное время, особливо в былой Речи Посполитой, в тонкости обращения едва ли не превзошедшей даже Западную Европу. Не прошло пяти минут от данного с вышки сигнала, как весь придворный штат, хоронившийся от дневной жары по своим покоям, был уже налицо. На пороге ожидали гостей сами хозяева: князь Константин и княгиня Урсула, не совсем уже молодая, но очень видная дама, в парадном костюме: темно-синем аксамитовом (бархатном) кубраке (дамский кунтуш) с горностаевой опушкой; в необычайно высоком корнете (головной убор из "газу" и "блондын"), так называемой "вавилонской башне"; с богатейшим диамантовым пунталом (ожерелье) на оголенной, полной как подушка шее; с драгоценными манелями (браслетами) и кольцами на столь же выхоленных руках. По сторонам стояли: около князя – маршал двора, пан Пузын, и секретарь, пан Бучинский; около княгини – статс-дамы и фрейлины ее. Вдоль всего портала, где должны были подъезжать один за другим экипажи, выстроились в два ряда ливрейные гайдуки и пажи, под наблюдением двух дежурных маршалков. За спиной хозяев, точно также в два ряда, вплоть до передней, растянулись высшие и низшие придворные чины.








![Книга Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] автора Даниил Мордовцев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ten-iroda-idealisty-i-realisty-22051.jpg)