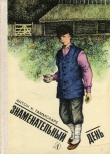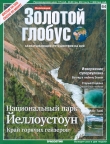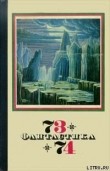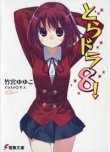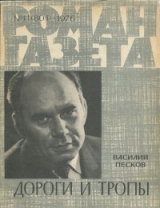
Текст книги "Дороги и тропы"
Автор книги: Василий Песков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Утром я проснулся от солнца. Открываю глаза и боюсь шевельнуться: в двадцати шагах, прямо под микрофоном, ходят пять журавлей и прыгают зайцы. Журавли на зайцев ноль внимания, ходят, чуть пританцовывают. Шевельнуться нельзя. Борис под полушубком включает «ящик», тихо-тихо надевает наушники. Все равно движение замечено. Журавли с криком взлетают. Один чуть не задел варежку с микрофоном... Кажется, все в порядке. Лицо у Бориса сосредоточенное, он смешно закрыл один глаз, наклонил голову – значит, и там, в наушниках, слышно: кричат журавли...
Разжигаем костер. Сушим одежду. Зайцы от дыма убежали на конец гривы... Как вкусен хлеб! Во время еды Борис надевает наушники, будто бы что-то проверить, но я вижу: просто слушает журавлей. Слушает журавлей. Я отворачиваюсь – журавлиные крики иногда особым образом действуют на людей...
Приятель в редакции, когда зашел разговор о пластинках, сказал: «Вот посмотри, пишут...» В письме из Италии были строчки: «Будешь ехать – не набирай лишнего. Черного хлеба и, если сможешь, добудь пластинку с голосами птиц».
Я не удивился такому письму. Тринадцать лет назад, собираясь лететь в Антарктиду, я спросил у людей знающих: дорога длинная, что купить для подарков? «Значки и, если найдешь, пластинку: голоса птиц».
Это был в самом деле лучший подарок. Я видел, как слушали запись паши «посольские», давно не бывавшие дома. Иностранец, получив подарок, счастливый, спрашивал: «Эти птицы поют в Москве?!» В Антарктиде радист объявил: «А сейчас – голос родной земли...» Представьте занесенный снегом поселок. Все под снегом! Виднеются только антенны, и на столбе из-под снега торчит алюминиевый репродуктор. И запела вдруг над снегами какая-то птица. Весенний гул молодой зелени и потом – мещерские журавли. Всю жизнь буду помнить лица людей, слушавших, как над снегами кричат журавли. Мог ли быть лучший подарок для Антарктиды?
Передо мной сейчас гора писем, полученных Борисом Вепринцевым. От учителя из Ярославля, от школьников из Крыма, от зоолога из Ленинграда, от ученого из Швеции, от охотника-инспектора из Найроби (Кения), от японского принца (принц увлекается орнитологией), от постановщика фильма «Война и мир», от капитана дальнего плавания Юрия Максимовича Иванникова, от инженера Валентина Гриднева из Челябинска («Придешь домой как собака усталый... Ваши лесные голоса как будто витамины какие в душу вливают»). Многие сотни писем. Для одних голоса птиц что-то вроде учебника, для других – голос далекой родной земли, для третьих – предмет любопытства («Подумайте, подмосковные птицы!»), кому-то надо озвучивать фильм, а большинству – «витамин для души».
Выпущено пять серий пластинок голосов птиц. У пластинок большой тираж. Но по-прежнему спрос велик. Двадцать тысяч пластинок попросили в Чехословакии, пятьдесят тысяч захотели купить поляки. Пластинки вошли в мировые каталоги. На всемирные выставки в Монреаль и Токио пластинки были отправлены в ряду национальных ценностей, И это в самом деле национальная ценность, так же как первый сборник народных пословиц, как записи народных песен...
Я думал: как лучше закончить очерк? И вот ничего не надо придумывать, вспоминать. На столе у меня проигрыватель с пластинкой. Громко кукует кукушка. Окно открыто. Я вижу: девушка на балконе соседнего дома ищет что-то глазами на тополе: «Кукушка? Вроде бы рано...» Но кукушка! Я вижу, как губы у девушки начинают считать: «Раз, два...» Может быть, девушка никогда не видела птицу кукушку, но нет человека, кто бы не знал этой самой простой из песен и, услышав, не загадал бы. Мне хочется, чтобы девушка насчитала как можно больше. Осторожно перевожу иглу... и еще раз перевожу. Считает... Выходит на балкон старуха, о чем-то говорит с девушкой, подносит к уху ладонь и тоже начинает считать...
Иногда человеку так мало надо для радости.
ДМИТРИЙ ЗУЕВ
В грибную пору в подмосковном лесу вам может встретиться человек, похожий на сказочного Берендея. На восьмом десятке люди больше всего ценят печку или завалинку возле дома. Этот же продолжает ходить по земле. Сорок грибных верст за день – обычное дело. Хотя видом, конечно, стар. Жидкая бороденка похожа на лесной мох. Крючковатый костистый нос. Морщины. Сутуловатость. Но если вам случится заговорить или хотя бы встретиться с Берендеем глазами, вы поверите: бывают люди, до края лет хранящие огонь, называемый молодостью.
В лукошке у встречного – полным-полно. У вас в корзине – две красные сыроежки. Не удивляйтесь: вы встретились с грибником, равного которому, может, и не было на лесных землях. Что корзина грибов... Он знает все о грибах! Старик разговорчив, и, если бы вам удалось присесть рядом с ним где-нибудь на поваленном дереве, вы узнали бы: «Съедобных грибов в европейских лесах больше двух сотен, люди же собирают не более двух десятков. Англичане же все грибы считают «погаными» и признают одни шампиньоны. Шампиньоны у англичан растут в старых штольнях и бомбоубежищах... У шампиньона восемнадцать миллиардов «семян», потому он встречается всюду – от Шпицбергена до Памира. В Арктике высоко в атмосфере находят споры грибов. А всего грибов на земле... восемьдесят тысяч различных видов!»
Пять часов подряд я слушал рассказ о грибах. Старик знает, сколько в каком грибе питательного добра, где и когда этот гриб надо искать. Знает, какие грибы подавались на римских пирах и за столами у русских князей. Знает, сколько грибов сегодня поставляет на мировой рынок Польша и почему сморчки и строчки светятся, когда постареют. Знает, что актеру Щепкину дня не хватало, и он выходил собирать грибы с фонарем... Поэма! И человек, говорящий ее,– поэт истинный. Вы убедитесь в этом, как только он скажет первое слово и будет говорить потом, расставляя руки и обращаясь к вам, как к давнему другу: «Слышь-ко... А помнишь...» И разговор пойдет уже не о грибах только. О том, как Пушкин любил природу и что сказали о природе Лев Толстой и Анатоль Франс. Или пойдет разговор о травах, о птицах, о «сорока видах дождей», о речке Осетр под Коломной, о какой-то «Месопотамии», открытой им между реками Кубря и Нерль, о глухариной охоте. Иногда, забыв слушателя, старик начинает что-то искать в рюкзаке, в карманах, находит наконец измятый листок бумаги, пишет витиеватым старинным почерком и прячет бумажку. А то появится на свет из кармана книжка с девизом – словами Пржевальского: «У путешественника нет памяти». Шестьдесят лет беспрерывно наполнялась книжка лесной мудростью. И это не кубышка, зарытая в землю. Все, что собрано, отдано людям.
Пора и назвать старика. Это Дмитрий Павлович Зуев. Редкий дом в Москве не знает этого москвича.
Когда приходит весна? У астрономов – свое время, дачники назовут свои сроки, земледелец – свои. На Аляске забавно определяют приход весны. На льду посередине реки укреплен кол, связанный тонкой веревкой с хронометром. Чуть тронулся лед – часы сработали. Тысячи людей беспрерывно день и ночь ожидают этого момента. Тут же репортер радио с микрофонами. Вся Аляска слушает репортера. Пятьдесят лет проводится весенняя лотерея. Люди покупают билеты и пишут на них число, час и даже секунды. Выигрывает тот, кто точнее всех предскажет приход весны.
Замечено: весна идет по земле со скоростью пятьдесят километров в сутки. С такой скоростью движется на Север живая волна спутников потепления. Поэтому есть еще один способ обнаружить приход весны. В Антарктиде – это приход с моря на землю пингвинов адели, в наших краях «весну приносят грачи». Весна задержалась, пристыла где-нибудь на дороге – и грачи задержались.
Земля вокруг Солнца ходит по строгому расписанию, и все на земле приспособилось к этому. Все имеет строгие правила поведения. За многие тысячи лет люди пригляделись к этим закономерностям. Замечено: медведи, барсуки и еноты вылезают на свет после спячки 7– 8 апреля. Известно, в какое время надо * ждать первых осенних морозов, когда зацветает липа и колосится рожь, когда бывают свадьбы у щуки и в какие летние сроки птицы кончают петь, в какое время реки покрываются льдом. Все это знает фенолог. Есть теперь такая наука, есть и ученые, но и любой человек может себя называть фенологом, если возьмется наблюдать за сезонными переменами на земле.
Мальчишкой я уже знал: грачи прилетели – весна; прилетела кукушка – конец охоты, дичь села на гнезда; ласточки прилетели – можно купаться. Эту азбуку в готовом виде я получил из копилки сельского опыта. А ведь кто-то первым заметил все это. «Лини мечут икру, когда зацветает калина. Перед дождем иволга кричит дикой кошкой. Цветок лилии опустился под воду – близится летний вечер». Названия месяцев у славян крепко связаны с проявлениями природы: май – травень, июль – липец (время цветения липы), декабрь – студень... В этой цепи увязок и наблюдений трудно увидеть начало. Не будет у нее и конца. Каждый любознательный человек может сделать свое открытие. И есть наблюдатели за природой, талантливые и влюбленные. Они прославили фенологию – самую поэтичную из наук. Дмитрий Кайгородов, Виталий Бианки, Михаил Пришвин. Рядом с этими именами можно назвать и фенолога Дмитрия Зуева.
О природе центра России он знает, кажется, все. Если пойдет разговор о птице, он узнает ее по голосу, скажет, когда прилетает, где зимовала, в каких местах любит гнездиться, чем кормится, кто враги у нее, поет ли в неволе, как называют эту птицу в народе, расскажет, где наблюдал птицу и какие приключения случились при этом. Заметьте: это о каждой птице! Он помнит, когда дрозды зимовали в московских лесах, знает, какая птица может глядеть, не моргая, на солнце, в какую морозную зиму московские воробьи искали убежища в метро «Смоленская». Он видел журавлиные пляски. Поэтично расскажет, почему щегла называют щеглом, а снегиря – снегирем. Он знает таинственного соперника соловья – птицу варакушку, может подражать десяткам лесных голосов. И это не простая копилка знаний. Человек понимает сложные взаимосвязи в природе, у него есть ключи к лесным и полевым тайнам. И нет проявления жизни, какое он пропустил бы без внимания. Он пчеловод с пчеловодами. Он первый среди охотников. Он ботаник, знающий красоту, цену и родословную каждого из цветков, каждой травы и каждого дерева в Подмосковье. Он агроном и лесник, собиратель народных примет и хороший знаток русской поэзии.
За шестьдесят лет он исходил берега подмосковных речек, озер, луга, глухие болота и отдаленные лесные углы. Он знает не только идущие по кругу закономерности, но, как истинный наблюдатель, помнит все природные аномалии. Он скажет, в каком году в июле были морозы, когда вишня цвела в апреле, а в феврале была метель с громом и молнией.
Во время войны маленький самолет увозил к партизанам патроны и листовки с зуевским текстом: «Какую пищу можно найти в лесу». Зуевым написана редкая, поэтичная и очень нужная книга «Дары русского леса». К старику идут за советом, когда собирается «экспедиция» за грибами или снимается фильм о природе. Просто с ним посидеть у костра – радость ни с чем не сравнимая.
А ведь мы могли и не знать человека, не обладай он и еще одним высоким талантом – талантом рассказчика. И не просто рассказчика, а поэта. Человек имеет свой голос, самобытный и сильный.
Щепкина-Куперник заполняла анкету и на вопрос: «Ваш любимый поэт?» – написала: «Дмитрий Зуев». Зуев никогда стихов не писал. Он писал заметки в газету...
Если очень вам повезет, на прилавке у букиниста вы можете встретить книжку «Времена года». Покупайте немедленно! Книжку не с чем сравнить, потому что она самобытна по форме, по стилю, по духу. Короткие заметки, или, как принято теперь называть, новеллы: о птицах, о рыбах, о грозах, о холодных лесных ручьях, о сенокосе, о зверях... Нельзя перечислить и малой доли всего, что вместили четыре сотни страниц. Леонид Леонов назвал эту книгу «окном, распахнутым прямо в чащу подмосковного леса». Обычные слова добротного, неиспорченного русского языка в книге. Но как мастерски найдены, как поставлены в соседстве друг с другом! Читаешь – и видишь солнечные зайчики на траве, слышишь шорохи, скрип снега, чувствуешь лесной запах, взволнованное дыхание очарованного рассказчика. Книжка – редкостный сплав справочника и поэмы. Живущий среди природы прочтет ее с большой практической пользой. Для горожанина, неизбежно тоскующего о потере лесов и полей, – это праздник, пришедший в дом. Книжка писалась всю жизнь – семьдесят лет.
Брэм всю жизнь писал «одну книгу». Книга имеет десяток больших томов, это был подвиг жизни. Гиляровский всю жизнь писал «одну книгу». Мы знаем и бережем этот памятник ушедшей Москвы. Экзюпери, совсем недавно овладевший нашими чувствами, всю жизнь писал «одну книгу» о человеческом Благородстве, о Долге и о Земле.
Во Франции в прошлом столетии жил один учитель – чудак по фамилии Фабр. Бросил учительство и с лупой целыми днями лежал в бурьянах, наблюдал жуков и козявок. И так всю жизнь «пролежал в траве с лупой». Добропорядочные селяне смеялись, конечно, над чудаком. Но вот чудак разогнулся и рассказал, что он увидел в сухих бурьянах. И так рассказал, что мир вот уже сотню лет не может оторваться от его книги.
Зуев чем-то напоминает французского «чудака». Семя его талантливой книги было заложено в детстве. «Грибы я искал, еще не умея как следует говорить. Мать у овина посадит, молотит с отцом снопы, а я ползаю, ищу в листьях грибы...» Школьное сочинение о природе двенадцатилетнего Дмитрия Зуева в 1900 году послали на Парижскую всемирную выставку... Первый хлеб человек заработал учительством, потом стал конторщиком, бухгалтером в Петербурге, потом репортером газет. Работал в «Утре России», позже в «Известиях». «Одной ногою стоял в газете, другой – в лесу». «Заметки делал сидя на пнях, а в редакцию являлся с рюкзаком и ружьем». Лес победил газетчика. Человек редко стал появляться в городе. «Чудак...» Он, и правда, жил подобно лермонтовскому Казбичу: одежда в лохмотьях, оружие – в серебре. Все имущество: рюкзак, неизменный монокль, жаровня и табакерка. Зато ружье – английской работы, самой высокой цены, «второе в Москве – только у Ворошилова». Он, как и в молодости, метко стреляет, хотя один глаз у него с детства не видит...
«Лесного человека» давно заметили. В юности на литературных вечерах Зуев встречался с Иваном Буниным, был близок с Пришвиным, Новиковым-Прибоем и Ставским. Он мог вести серьезные беседы о судьбах литературы и писал... заметки в вечерней газете. Писал о том, что увидел и разгадал в лесу, что подслушал на деревенских праздниках. Было ему и трудно, и чувствовал он себя временами «гадким утенком». Его поддержали те, для кого он писал. Гора читательских писем. Люди разглядели в коротких заметках и поэзию, и копилку дорогих наблюдений...
Одна большая страсть руководила человеком семьдесят лет. Одна большая страсть в человеческой жизни всегда приносит плоды.
Необходимое дополнение к этим заметкам, Дмитрий Петрович умер спустя два года после того, как я написал о нем для газеты. Мы не один еще раз сходили с ним на грибную охоту и посидели у самовара. Умер он тихо среди бумаг и пучков травы, развешанных по стенам.
ОТЦОВСКИЙ СУД
Три года из блокнота в блокнот я переписывал пометку: «В деревне Каробатово Пермской области живет лесник-охотник. На втором году войны убил в лесу сына-дезертира. Повидать непременно».
Оказавшись в Пермской области, я стал разыскивать Каробатово.
Увидел деревню осенним вечером. Пять огней светилось в лесу. Оказалось потом: пять домов всего-то в деревне. Постучался в крайний домишко, окруженный высокими черными елями. Забрехала в потемках собака. Покашливая, кто-то стал спускаться скрипучей лестницей с верхней пристройки.
– Федор Васильевич Орлов тут проживает?
– Тут не тут – заходи. Гостю рады будем. Керосиновая лампа осветила бревенчатые стены избы. Из-за дощатой крашеной перегородки вышла благообразная старушка, сказала «здравствуйте» и опять принялась греметь ухватами около печки.
Хозяин гостю не удивился. Достал с печи пару теплых портянок из войлока. Пока я менял обувку, хозяин принес на стол чугунок горячей картошки и тарелку с грибами. Голова у хозяина, когда он ходит, почти упирается в потолок. А когда сел на низкую лавку – горбатая тень заняла полстены, где висят рамки, по-деревенски набитые фотографиями.
– Дети?
– Дети... – вздыхает старик и начинает закуривать.
Решаю о сыне разговора не заводить. Скажет сам – хорошо. Не скажет – поговорим о лесных делах, об охоте.
За вечер я понемногу узнаю стариковскую жизнь. Она начиналась тут, в пермских лесах. И закончится тоже, наверное, тут – в деревне с пятью дворами, стогами сена и кладбищем за другой крайней избой.
– Я ровестник этому лесу. Ему, по кольцам считать, – за семьдесят. И меня вывезло на половину восьмого десятка...
В первую мировую войну старик был разведчиком. Имеет «Георгия». В последнюю войну делал для фронта лыжи. Вся жизнь – в лесу. Менялись только избы кордонов, а должность была постоянная – лесной обходчик. И потому лес во все стороны хожен и перехожен и знаком, «все равно что эта изба».
Старик еще исправно стреляет. Поговорив о рябчиках и глухарях, решаем утром пойти на охоту. Отбираем патроны, выкладываем на видное место все, что следует не забыть, и тушим лампу. В окне проступают черные ветки, около печки ложатся синие пятна лунного света. Глухо брешет за стенкой собака.
Долго не засыпаю. Лунный квадрат переходит на печку, потом на стену, где висят застекленные рамки. Смутно различаю лица. Девочка. Парень с велосипедом. Парень в морском картузе. Семья: мать с отцом посередине на табуретках, а сзади стоят пятеро босых ребятишек.
Туманное утро. Стожки за околицей еле-еле угадываются. И деревня у нас за спиной сейчас же исчезает в тумане. Гулко чавкает под сапогами болото. Собака возбуждена. Метнется вперед, опять прибежит, прыгает, пытаясь лизнуть хозяина в щеку.
– Ну, понимаю, понимаю. Рада, что взяли. Ищи, ищи...
Собака должна разыскать глухаря и держать лаем на месте, пока охотники подойдут. Но нам не везет. И мало-помалу интерес к глухарям стал пропадать. Вымокшие и усталые, решаем зажечь костер, обсушиться.
Старик, однако, не стал раздеваться. Покурив и подержав над огнем морщинистые ладони, сказал:
– Я маленько тут похожу...
Полтора часа его не было. Я начал думать: не случилось ли что? Уже приготовился выстрелить кверху, как подбежала, отряхиваясь, собака. Следом за ней вышел старик.
– А где же добыча, Федор Василич? Старик не спеша отогрел руки. Прислушался к стуку дятла.
– У меня тут сын похоронен... Старший.
С минуту напряженно молчим. Не дождавшись вопроса, он продолжает.
– Старший сын... Могила в первый же год в траве потерялась. А березы там, в гущине, я помнил. Теперь и березы что-то не разыскал. Туман в глазах, память как решето...
Я сказал, что знаю историю с сыном от человека из Каробатова, который теперь в Москве.
– А, это Егор, значит... Да, мы с ним много тут походили... Двадцать три года хожу с этой ношей. С кем повздорил чуть-чуть, сразу: «А ты сына убил». Глотаю комок. Убил... Да. И ничего не могу ответить. Разве объяснишь всякому... С собакой иногда говорю. Ходим, ходим вдвоем, начну ей рассказывать... Умная тварь, все понимает... Двадцать три года камень вот тут... – Старик вдруг прижал ладони к лицу и всхлипнул.
Сына в сорок втором из деревни проводили вместе с пятью ровесниками. Деревня была поболее, чем теперь, – восемнадцать дворов. Ребята уходили не очень грустные. Плакали матери. Из мужиков один Федор Орлов провожал новобранцев. Большого разговора в дороге не было. Федор сказал тогда ребятам-охотникам: «Глядите там. Живем один раз, но какая жизнь, если немец до Камы пройдет. Держитесь!»
Ребята, видно, сразу попали в бой. На двух летом пришли похоронные. Двое прислали письма из госпиталя. От Ивана почему-то не было слухов. В войну, когда человек «без вести», у семьи всегда имелась надежда. Федор Орлов любил сына и успокаивал мать: «Иван не пропадет без вести...»
И вести пришли. Пришли с такой стороны, откуда отец никак ожидать не мог. Сначала бабенки возле колодца, а потом и напарник, столяр из соседней деревни, сказал в открытую: «Иван в лесу скрывается, дезертир». Федор Орлов сначала стал на дыбы: «Пристрелю, кто будет такую позорную сплетню пущать! Не было такого в роду у нас!» Оказалось, не сплетня. Стали пропадать в деревнях куры, ульи, коза пропала, корова не вернулась из леса. И все это вдовье. Баба, у которой козу увели, пришла к Федору с дитем на руках: «Чем кормить буду? Твой увел. Видели его в лесу!» Видели, будто Иван приходил даже домой к матери, когда отец был в обходе. Мать плакала, божилась: «Не приходил, не видела». Отец каждое утро открывал глаза и вздрагивал от первой и постоянной мысли: «Дезертир, трус». Поседевший за полгода лесник Федор Орлов положил однажды в котомку хлеб, взял ружье и ушел в лес.
Раз в пять дней он возвращался в деревню, чтобы взять хлеба, и опять уходил. От простуды или от напряжения сил он захворал. «Ноги еле носили. Оброс. Худой стал, как мощи». На пятнадцатый день на кладке через ручей к болотному острову лесник увидел следы. Увидел: береста на березах ободрана для костра. Посреди острова нашел покрытый корой балаган. Обошел кругом. Тихо. В балагане стояла железная печка. У печки лежали лопата, связка ключей. В углу стояло ведерко с мукой. Отец вышел из балагана, затаился в кустах. Ночью никто не пришел. А утром увидел: между деревьями к балагану идет человек, несет мешок за спиной: «Я б его из тыщи узнал. Высокий, красивый. Крикнул ему: «Иван!... Что же это такое, Иван?! Видишь, на кого я похожий из-за тебя? Вернись, люди простят. Пойдешь на фронт – люди простят!» Старик сейчас не помнит уже, каким доподлинно был разговор. Помнит: сын бросил мешок и побежал. И тогда отец не сдержался, поднял ружье...
Он вернулся в деревню на другой день. «Я убил сына». Милиция не поверила, а мать поверила сразу. Упала и начала скрести половицы ногтями: «Убил, убил сына!...» Мать умерла недавно. «Три года как умерла. Я на коленях стоял у постели. Говорила: «Федя, все прощаю тебе». А я по глазам видел – не простила».
Стучит дятел. То на осине стучит, то опять садится над самым костром. Старик гладит рукой задремавшую возле огня собаку.
– Схоронили его в лесу, вот в той стороне. Из района приезжали доктор и следователь с милиционером. Я их по одному переносил через топкое место. Сын лежал лицом книзу. Ножик у него был, два сухаря в кармане и письмо от какой-то девчонки. Докторша плакала. А милиционер сказал: «Ты, Федор Василич, поступил, как Тарас Бульба». Вот и живу Бульбой двадцать три года. Первое время дорогу перед собой не видел. Все хорошо да просто в книжках бывает. А тут живешь и думаешь, думаешь. Теперь уж до самой могилы камень в груди...
– А как остальные ребята?
– Всех вырастил. Поразъехались. В Перми, на Дальнем Востоке... Клава, младшая, пишет и погостить приезжает. А так – один. Старушку приютил в доме. Вместе доживать будем... За двадцать годов вот первый раз душу излил. Да еще с собакой иногда говорим, говорим... Разве объяснишь собаке, какое это время было и как мне трудно теперь...
Мы потушили костер. Небо расчистилось. Морозило. Мокрые листья на открытых местах взялись ледяной коркой. Даже от собачьего бега в лесу похрустывало.
– Ну что, Майка, зима? Зима, зима на пороге...
Впереди меня тяжело шел высокий, слегка сгорбленный человек. До Каробатова было километров десять по топкому лесу.