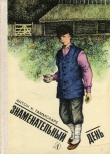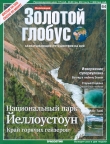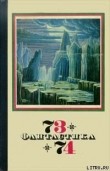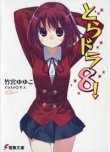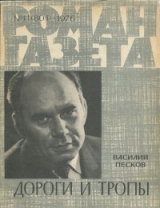
Текст книги "Дороги и тропы"
Автор книги: Василий Песков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ
Мы плыли по реке на моторной лодке. Слово «плыли» я сейчас не могу писать без улыбки. Мотор даже на глубоких местах еле одолевал встречную воду. На перекатах мы вылезали из лодки, клали на плечи веревку и становились настоящими бурлаками. В этих местах так и ходят с лодками против течения. Тянешь, тянешь, камни под ногами гремят, веревка режет плечо, ноги в резиновых сапогах начинает ломить от холода. Самое лучшее – пробежать по сухой гальке и сесть покурить. Но мы спешили и поэтому шли и шли. На глубоких местах вода прятала пенные гребни, и мы включали мотор. Замучил этот мотор. Все время ждешь: винт ударит о камень, полетит шпонка, надо будет чинить. Шпонка летела раз восемь. Но все-таки мы километров сорок прошли. И тут случилось что-то совсем плохое. Володя-моторист выругался по-русски, потом по-корякски, жестоко растоптал папиросу на алюминиевом дне лодки и сказал: «Два дня чинить».
Я загрустил. Послезавтра должен быть самолет. К этому сроку надо вернуться в поселок. По воде сеялся мелкий дождик. Вверху, на сопках, дождик ложился кипенно-белым снегом, за ночь зима могла и ниже спуститься. Мы сели перекусить и подумать. И тут мы увидели лодку. Она споро шла по течению... Три человека. Один, кажется, спит, другой – на веслах, третий, высокий, с длинным шестом, сидит на корме. Мы замахали руками, и лодка пошла носом к нашему берегу.
– Ему надо вернуться в поселок. Возьмете?
– Хороша, садись, садись... Веслами можешь немножко?
...Лодку подхватило течением, и только теперь я увидел: сижу на ворохе крупной рыбы. Тут же лежат шкуры, оленье мясо. На носу прижалась собака. Большая лодка чуть не черпает воду, но стариков это нисколько не беспокоит. Они бормочут корякскую песню, один пьяный пытается и никак не может завязать шнурок на засаленных меховых штанах.
– С праздника едете?
– Однако, с праздника. Олешка кололи, немножко мухоморчика пили, – отвечает высокий с шестом.
Я уже знал про этот грибной напиток и покрепче ухватился за весла. Только теперь я как следует оценил характер реки. Лодка в любую минуту грозит опрокинуться. Прикидываю: сколько придется пройти перекатов? Каждый удар весла надо рассчитывать, а пойди угадай, где лучше проскочить эти чертовы камни. Ну и течение – лодку поставило боком, поволокло...
Один старик сзади меня беззубым ртом жует заваленный кусок полусырого мяса. Другой, так и не сумев завязать шнурок, уткнулся в оленью шкуру.
– Уснул дедушка Они, – улыбается высокий с шестом.
Мне не до шуток. Гляжу на этого третьего. Он то понимает, что мы вот-вот кувыркнемся?
– Много гольцов везете?
– Однако, хорошо ловили. Штук двести будет...
Лодка чуть-чуть не хлебает бортами. Гольцы подо мною скользят как живые, трудно грести. Кажется, этот третий, с шестом, протрезвел, вон как ловко уперся. Но что это он шарит рукой? – рукавица лежит на виду, на коленях.
– Плохо видите?
– Однако, совсем слепой.
– Совсем?!
– Однако, с детства не вижу.
Лоб у меня сделался мокрым. Как же я сразу... Веки у человека в самом деле не поднимаются, лицо неподвижное... И вот как раз надо решать, куда повернуть лодку. Уже слышно – вода бьет о камни, и белую пену видно. Вот сейчас, сейчас надо... Там, на быстрине, будет поздно...
– Мельгитанин [1]1
Мельгитанин – русский.
[Закрыть], надо правым веслом греби... Там у берега глубина хорошо.
Теперь я и сам вижу, что правым. Опять скребануло по днищу... Уже глаз не могу оторвать от высокой спокойной фигуры. Это он с шестом ловко ровняет лодку. Вместо шарфа на шее белое вафельное полотенце, на поясе – ножик и две небольшие коробочки. С табаком и, наверное, с этим сушеным «мухоморчиком».
– Вы тоже на празднике выпили?
– Однако, немножко. Так немножко песня хотел... Слушай, право, право греби – палка будет...
Да, это бревнышко на течении могло бы нас... Я уже не могу сдержать изумления: .– Иван Пинович, а как же вы?..
– Однако, просто. Шумит палка – я слушай. Сейчас поворот будет. Держи! Держи! Камни!
Поздно. Лодка не опрокинулась, но крепко, со скрежетом села на дно. Шестом и веслами не возьмешь. Рулевой прыгает в воду. И я прыгаю. Вода выше сапог и холодная... Проснулся от толчка дедушка Они, но ничего не понял, забормотал песню...
Опять плывем. И я уже не чувствую себя капитаном. Мне надо, конечно, в оба глядеть, но больше я слушаю, что говорит этот удивительный человек на корме.
– Сейчас бояться не надо. Тут камни нету. Смело надо греби. Тут рыба много живет, слышишь, юкола пахнет? Мой юкольник.
На берегу показался аккуратный сарай на тонких высоких сваях.
– Юколы много запас?
– Однако, много.
– Сам ловил?
– Сын помоги, жена помоги, сам много ловил. Сейчас надо левым греби – будет камень, который наверху нету.
– Всю реку знаешь?
– Она шумит – я помни. Тут шумит, там по-другому шумит, палка совсем по-другому шумит. Шестом глубину хорошо помню...
– А что сейчас справа на берегу?
– Много мелкой вода, много лежит больших палка. Дом орла на сухой палка.
Два белохвостых орла поднялись и тяжело полетели к пологой сопке...
Последний час мы плывем уже в темноте. Сопки становятся черными. Четко обозначился поломанный горизонт. За горами лимонно светится небо, а сопки все черней и черней. Темнота постепенно стекает в реку, и только далеко слева две снежных горы сияют розовым светом. В сплошной темноте плывем. Еще два больших переката, и должны появиться огни поселка.
– Тут надо хорошо смотри. – Рулевой на корме привстает, шестом упирается...
Проскочили. И сразу за поворотом показались огни.
– Иван Пинович, а в табун по реке кверху ты когда же прошел?
– Однако, вчера прошел. Утром пошел, вечером в табуне чай пили.
– По берегу шел, а лодку тянул?
– Однако, так.
– Один?
– Нет, не один. С собакой шел.
Я мысленно оглянулся, представил себе каменистый берег, заваленный смытым лесом и валунами, изрезанный множеством шумных ручьев и речек. Идет по берегу человек и тянет лодку. Слепой человек. К табуну – пятьдесят верст... Непостижимо!
Лодка ткнулась в илистый берег. Рулевой в темноте уверенно отыскал нужный колышек, привязал лодку. Позвал кого-то из темноты. Сейчас же подошли две женщины, в большую корзину стали складывать рыбу. Что-то спрашивать было неловко, я отложил разговор и стал прощаться.
– Однако, мельгитанин хорошо весла держал. Я думал, немножко плохо будешь греби... Как по-русски сказать... молодец!
Похвала была кстати. Ломило руки и спину, на ладонях темнели кровавые пузыри.
Я прошел улицей и оглянулся на реку. Два старика, обнявшись, мирно болтали. Высокий переобувался.
Сорок пять лет назад мальчик-чукча Иван Рультетегин поехал с отцом в гости в соседний табун. Взрослые пили чай, а ребятишки прыгали посреди юрты. Играя, дочка хозяина зачерпнула блюдцем золы... Это только кажется, что костер в юрте остыл, только сверху костер покрывается синим пеплом... Женщины языком выбирали золу из глаз и спрашивали: «Ты видишь?» Он и теперь помнит, как спрашивали. Ему было шесть лет. Он не мог тогда понимать всей беды.
«Твоими глазами должны стать уши, и голова, и ноги, и руки»,– говорил отец. Отец брал сына во все поездки по тундре, рассказывал: это ручей, это олений след, это утки свистят крыльями; трава под снегом ложится в сторону, где прячется солнце; запели птицы – значит, день наступает; солнце греть перестало, утих ветер – ночь пришла в тундру. «Запоминай, тогда будешь жить».
И он научился издалека «слышать» табун по запаху дыма, ловил в табуне ездовых оленей. Он мог заколоть оленя, снять шкуру. Научился шить торбаса, делать крепкие нарты, мог выбрать дерево и выдолбить лодку, научился по ветру править упряжкой собак. Отцовские глаза были рядом. Всегда спросишь: это как? это что? Но отец не прожил долго. Попал в метель, четыре дня под снегом лежал, простудился...
Отца заменил хороший друг Сергей Ивтагин. Вдвоем уходили охотиться на медведя, стерегли в засадах горных баранов, стреляли диких оленей. Часто зверя первым слышал Иван. Сергей стрелял. Высокий и сильный, Иван нес тушу домой. «Не знаю, сколько километров нес, – кто мерил тундру! Два дня шли, три дня». Иван и сам стрелял по птичьему табуну, по свисту крыльев целился. Добычу приносила собака. По крику, по шороху крыльев он мог сказать: летит сорока или ворона, лебеди, гусиная стая. Он помнил все речки около стойбищ, знал, в какую когда заходит красная рыба. Он искуснее всех вязал сети и не отставал на рыбалке. Рядом были глаза хорошего друга. Но друг женился, уехал на Анадырь. «Тогда сильно-сильно была тоска. Я думал, надо к «верхним людям» идти...»
Однажды он взял карабин и пошел в тундру, чтобы уже не вернуться. Шел долго. Не надо было помнить дорогу – последний раз шел. Иногда становился – не отдыхать, он тогда совсем не уставал – становился и слушал. Евражка зашуршал по траве, дикий олень лежал, теперь человека увидел, вскочил... Легко проминались кочки под торбасами, и даже через ивняк, хлеставший по лицу, было идти хорошо. Он повстречал речку и узнал ее по шуму воды. Они с отцом на этой речке ставили сети. Перешел речку, присел и услышал вдруг: кто-то легкий вслед за ним перебежал воду... Собака! Трется о ногу. Он сел и просидел ночь, еще день и ночь. Собака лежала рядом. Он гладил ее, и собака лизала руку. Он сказал: «Тума, друг...» Поднялся, перешел речку и пошел назад в табун. Он помнил, как надо идти от речки к стойбищу, да и собака бежала чуть впереди... В табуне он сказал: «Ходил слушать тундру...»
И жизнь пошла опять своим чередом. Он мог один остаться в табуне и «пасти пять дней, и ни один олешка не пропадал». Теперь у него был хороший помощник. Он сделал длинный поводок, повесил на шею собаки бубенчик и мог ходить уже далеко за дровами, за ягодами. Собака принесла щенят, он выбрал самого крепкого и смышленого, стал его обучать и тоже назвал Тума – Друг. Не расставались они восемнадцать лет. Иван Рультетегин женился. Пошли дети: один, второй... Едоков полная юрта. «Много всяких работа надо было работай. Собака всегда помогал».
Тума знала все тропы, по каким хозяин ходил за дровами, за рыбой. Он мог подняться и пойти ночью. Чаще всего за дровами они уходили ночью. Звенел колокольчик, тянулся длинный кожаный повод. Они всегда аккуратно возвращались домой.
В беспутицу, когда и олень не идет, и собаки не побегут, Иван Рультетегин брался пешком перенести срочные грузы в поселок с базы на берегу океана. Он выходил утром и к полуночи с двумя «чаёвками» на пути возвращался в поселок, бросал с плеч ношу. От поселка до базы – семьдесят пять километров. Я посчитал: он проходил восемь километров за час. «Однако, без собаки не мог».
Одно время он служил в «красной яранге», был погонщиком собачьей упряжки. Ездили по табунам, возили кино и газеты. Во время пурги только на него и надеялись. Он откидывал верх у кухлянки, слушал, разрывал снег, трогал рукою траву и говорил, как надо ехать. «Однако, сильно собака Тума мне помогал».
Восемнадцать лет служила собака. И пришла старость, стала ошибаться собака. Он понял: Тума слепнет. «Опять была много тоска». Собака совсем ослепла и не могла отыскать даже выход из юрты. Он не пристрелил Туму, как всегда делал, если собака в упряжке не могла уже бегать. Он мелко рубил ей мясо и сам выводил из юрты... Два года назад он схоронил Туму, как человека, за поселком у сопки. «Такой собака больше никогда нету».
Так Иван Пинович Рультетегин прожил пятьдесят с лишним лет.
Короткую историю жизни я рассказал со слов старшего сына Рультетегина, Тергувье Павла, со слов табунщиков и соседей, которые теперь знают Ивана Пиновича, со слов самого Рультетегина. Я зашел в дом к нему вечером, на другой день после путешествия по реке. Рультетегин с табунами уже не кочует. Летом уходит из поселка вверх по реке к месту Вай-Ваям – к «сенному месту на реке»,– ловит рыбу, готовит на зиму юколу. Осень и зиму столярничает в совхозе, вечерами – «детей-то много, кормить просят» – он шьет торбаса, делает табунщикам арканы-чауты, делает трубки и коробочки под табак...
В доме было сильно натоплено. Рультетегин сидел на полу, на сухой потертой оленьей шкуре, и пилил ножовкой бронзовый винт от старого парохода. Кто-то принес находку, зная, что Рультетегин «найдет дело каждой железке».
– Однако, хороший блесна будет. Себе немножко делай, в табун немножко. Мясо приносят, надо людям что-нибудь хорошо делай. – Он говорит и продолжает пилить большой винт на пластины. Опилки тоже для чего-то сгребает в тряпочку. Неожиданно тухнет свет, но пилка продолжает работать.
– Иван Пинович, а Павел-то почему дома? Я слышал, он в Петропавловске...
– Однако, так. Был в институте. Я сам позвал. Сказал: «Павел, один год подожди надо, немножко помогай отцу надо. Сестра кончит учебу – ты опять уезжай в Петропавловск».
– А ты в Петропавловске был?
– Однако, нет...
Две совсем голые маленькие девчурки бегают по избе, визжат, заворачивают в шкуру толстого, как медвежонок, щенка. В углу лежит, наблюдает за этой возней большая собака.
– У вас сколько же ребятишек?
– Однако, семь... Слушай, у тебя пленка имеешь? Ну как сказать... совсем лишний имеешь? Дай Павлу немножко. Пусть учится. Я купил Павлу совсем маленький этот машина, который фотография делай...
Варится в котле на печке оленина. Молчаливая жена хозяина мнет в деревянной чашке ягоды шикши и голубицы, кладет туда рыбу и желтого цвета коренья. Визжат, бегают по избе две чумазые черноволосые девчушки. Схватили у отца из-под рук щепотку опилок, сыплют на щенка сверху и хохочут от удовольствия. А отец пилит бронзовый корабельный винт. Руки большие, мускулистые, в ссадинах. Он время от времени быстро проводит пальцами по тому месту, где пилит. Сосредоточенное, напряженное лицо невидящего человека, когда говорит, чуть наклоняет голову в сторону.
– Руки устал немножко. Надо менять работа.
Из кожаного мешка мастер достает тонкую оленью жилку, подносит к лицу, с помощью языка ловко вдевает жилку в иглу. Красноватого цвета шкурка на глазах у меня превращается в детский не то чулок, не то сапожок...
Я не видел, как Рультетегин танцует. Об этом много рассказывали. Никто из молодых не может танцевать так долго и так умело, как Рультетегин. Танцует под бубен около юрты и под музыку на маленькой, с пятачок, сцене сельского клуба. И борец он первый на всю камчатскую тундру. На праздниках никто не может положить его на лопатки...
Утром я видел, как Рультетегин шел из поселка. Прямой, росту необычайного, просто я не видел таких высоких людей! Красного цвета кухлянка с черным собачьего меха воротником. Высокая палка в правой руке, ножик на поясе. Через плечо перекинут тонкий кожаный поводок. Поводок тянет вперед молодая собака.
Мы с местным радистом наблюдаем идущего.
– Знаете, он рукой попробует и скажет: лисий след или собачий, свежий или вчерашний... Удивительный человек!
Через открытую дверь слышно: отчаянно пищит морзянка, но радист не спешит в домишко, заставленный черными ящиками. Мы глядим, как по сопке наискосок движется великан в красной кухлянке.
– Пошел по делам в тундру...
И два слова еще. Мы, ничем не обделенные на пиру жизни, частенько хнычем, жалуемся. И в то же время, вот сейчас, живет Человек в тундре, Иван Пинович Рультетегин.
МИКРОФОН НА БЕРЕЗЕ
Я знаю Бориса больше десяти лет. Знакомство состоялось потому, что я захотел о нем написать (Борис был тогда биофизиком-аспирантом). Но, выслушав мои планы, аспирант сказал: «Не надо, это будет мешать работе». Я не настаивал. Вечер мы говорили о разных разностях и подружились... И вот в хождениях по лесам съедено много соли и много черствого хлеба. Я хорошо знаю Бориса и хочу о нем рассказать.
Сейчас я отложил карандаш и в который раз прослушал пластинку... Это не музыка. Но, может быть, именно эти звуки послужили началом человеческим песням и нынешней музыке. Наверняка все начиналось с этих звуков, которыми и сегодня наполнены наши леса и рощи. Ничто лучше, чем эти звуки, не может в нас разбудить задремавшую радость. Но часто ли суета городской жизни отпускает нас в зеленый мир леса, лугов и речек? И вот нашелся охот-пик, собравший лесные звуки на эту пластинку. Стоит повернуть ручку, поставить иглу, и в доме начинают горланить лягушки, стонет горлинка и кричит коростель.
Кричит коростель... Для меня это один из самых дорогих звуков. Перед глазами встает деревенский двор, окруженный плетнем, старые вязы, кусты лозинок. В лозинках стоит туман. Из тумана виднеются лошадиные головы. И кричит коростель. Немудреные, монотонные звуки.
Но тот, кто слушал хоть раз, как в тумане кричит коростель, поймет, почему еще и еще хочется слушать пластинку. Или вот журавлиные крики... Кто скажет, что слышал, как кричат журавли? Из тысячи один человек скажет, что слышал, как кричат журавли. Соловей, дрозд, глухарь, весенняя барабанная дробь дятла, шмель гудит. И слышно, как дышит лес, как идет по земле зеленый, весенний шум. Нашелся охотник, который собрал эти вечные звуки. О нем и хочу рассказать.
Охотник за голосами не лесной человек. Последний раз мы встречались в городке Пущине под Серпуховом. Городок этот получил название в наследство от приокской маленькой деревушки. Городку суждено стать одним из центров нашей науки. Биофизик Борис Вепринцев переехал сюда из Москвы – получил лабораторию в недавно построенных корпусах института. Дело, которым он занят, называют передним краем науки. Не просто проверить точность двух этих слов – «передний край», но, кажется, они верно передают смысл всего, что происходит в лабораториях. И если продолжить образ, то Борис на этом переднем крае в чине ротного командира. Территория, которую «рота» взялась отвоевать у Неизвестности, крошечная – не видимая глазом нервная клетка. Пятнадцать миллиардов этих крошечных клеток составляют человеческий мозг – лучшее, что сумела сделать живая природа. Узнать, как работает, как живет, почему умирает нервная клетка, – значит узнать очень много, может быть, больше, чем узнали физики, расщепившие атом.
Сам «ротный» часто приходит домой с воспаленными глазами и бессонницей. Утром, когда жарит яичницу, он вдруг лезет в пиджак и что-то записывает на аккуратно нарезанных листках бумаги. На лодке плывешь – оставляет весло, лезет в карман за листками.
Борис принадлежит к числу тех фанатиков в науке, у которых понедельник начинается в субботу, то есть они и в воскресенье, и в праздник, и в любое время «остаются на фронте». Они частенько чудаковаты, не приспособлены к житью-бытью. Но опыт жизни заставляет верить в таких людей. И я верю в своего друга. Теперь же рассказ о человеческом увлечении, о том, что можно добыть для людей «между делом».
Чужое модное слово «хобби» в этом случае не годится. Хобби – увлечение, занятие для себя. Тут же – мечта юности, пронесенная через сложности и трудности жизни.
Тридцать лет назад мальчишка-кюбзовец (есть и доныне кружок биологов в зоопарке – КЮБЗ) попал на интересную встречу ученых. После доклада ныне покойный профессор Промтов подошел к старинному граммофону, покрутил ручку, и в переполненном зале... запел соловей. На окнах сверкала морозная роспись, а в зале, хотя и не очень громко, пел соловей. Нам, привыкшим сегодня к магнитофонам, вряд ли показалась бы удивительной эта запись. Но тогда даже видавшие виды ученые поднялись, громко хлопали и, как дети, кричали: «Еще, еще!» А в самом заднем ряду сидел мальчишка и ловил каждое слово рассказа об удивительной, из Англии привезенной пластинке. Профессор рассказал: «В Англии живет старик Людвиг Кох, уехавший из Германии от фашистов. Старик на восковые диски пишет голоса птиц. Старика в Англии знает каждый мальчишка. Письма ему пишут по адресу: «Птичий домик, Людвигу Коху». Профессор сказал еще, что и сам попытался делать записи, но неуспешно. «Надо обязательно записать...»
Началась война. Все, наверно, забыли о любопытной пластинке с птичьими голосами. Но жил в Москве мальчишка, который помнил пение соловья, странного, почти сказочного деда Людвига Коха. Мальчишка потихоньку от матери разобрал по косточкам патефон – пытался сделать «машину для записи». Ничего, понятное дело, не вышло. Но мальчишка имел право на эту попытку,– кроме страстного увлечения птицами, в тринадцать лет он уже мог водить автомобиль, мог починить радиоприемник, в тринадцать лет он поступил работать в госпиталь электромонтером и, к удивлению начальства, привел в порядок высокочастотные грелки и много другой списанной техники. Мальчишки скоро взрослели во время войны.
В первую встречу я подумал, что волосы у Бориса пепельные. Увидел днем – седина...
Семи лет Борис лишился отца. В шестнадцать лет он спросил у матери: в чем виновен отец? Мать не могла ответить. Сын начал сам искать ответ на вопрос. В архивах, в Ленинской библиотеке, он листал газеты и пожелтевшие документы, где упоминался революционер, коммунист с 1903 года Николай Александрович Вепринцев – его отец. Для одного себя искал ответа. И убежденно решил: отец невиновен. Но «любознательность» дорого обошлась младшему Вепринцеву.
Седина – следы трех лет жизни вдалеке от Москвы. Кое-кто из близких друзей сразу сделал вид, что почти незнаком с Вепринцевым. Но Борис рассказывал с радостью, и об этом написать радостно: настоящие друзья остались друзьями! Борис получил сердечное письмо от секретаря курсового бюро комсомола Светланы Курдюновой. Это был знак преданности товариществу, это был и знак мужества. Друзья посылали письма и книги, профессор, руководивший работой Бориса на курсе, посылал задания по биологии...
Занимаясь тяжелой работой, студент хорошо овладел двумя языками: английским и немецким, отослал в Москву курсовую работу по биологии, написанную на желтой бумаге от мешков из-под цемента. Я видел эти листы с мелкими плотными буквами – свидетельство человеческой веры в жизнь и справедливость.
В 1954 году Борис Вепринцев вернулся в университет и был восстановлен в комсомоле. По ходатайству сына было пересмотрено дело отца. И наступил день, когда сын услышал: «Ваш отец был настоящим коммунистом. Вы можете гордиться отцом».
К жизни Борис вернулся не сломленным, не озлобленным против людей, не потерявшим веры в идеалы, которым отец посвятил жизнь, не отстал от товарищей по учебе.
Борис вспоминает: «Странное желание – записать голоса птиц – жило во мне постоянно. Услышишь – чирикают воробьи, и сразу мысль: а ведь есть у меня дело. Вспоминались разливы воды, сады, лесные опушки... Я не сомневался: если вернусь – смогу сделать все, что задумал, потому что в то время уже появился почти фантастический аппарат – магнитофон».
Весна 1956 года. В звенигородском лесу на просохшей после талой воды лужайке сидит человек со странным ящиком. Что-то у человека не ладится. Он снимает крышку, почти с головой залезает в ящик, проверяет электрический шнур, идущий к домику биостанции. На березе, где поет зяблик, спрятан еще какой-то прибор. Пастух, издали наблюдавший эту картину, не выдержал, подошел:
– Чего ты, парень, устроил?
– Послушай...
– Чудно. Зяблик, что ли? Зяблик... «Признаться, запись была никудышная,
сплошной гул, и чуть различалась тонкая россыпь зяблика. Но я готов был орать от радости. В Звенигороде сделал крюк, зашел к приятелю: «Вот, послушай...» На вокзале, пока ожидал электричку, похвастался какой-то девушке: «Когда-нибудь зяблика слышали?» В Москве поехал к профессору, к ребятам в общежитие. С неделю ложился спать – надевал наушники...»
Во всяком новом деле от «первого зяблика» очень долог путь до победы. Три года студент, а потом аспирант Вепринцев возился с «ящиком». Обычный магнитофон оказался малопригодным для записи. Надо было переделывать, точнее, заново конструировать магнитофон. Пригодилась давняя страсть к электронике. Взялись помогать и друзья – инженеры по звукозаписи. К «ящику» предъявили жесткие требования: чувствительность к малейшим звукам, не рождать шумов, быть легким, со всеми принадлежностями умещаться в рюкзаке, не бояться толчков и сырости, быть абсолютно надежным.
Две зимы Борис переводил статьи для журналов. Перевел с английского и немецкого две серьезные книги. Все, что зарабатывал, поглощал «ящик». И он, этот «ящик», получился на славу. В одну из проб Борис услышал жужжание. Новый дефект? Оказалось, в теплом углу мастерской ожившая муха попала пауку в сети, и «ящик» записал мушиные вопли. «Ящик» безукоризненно передавал все, что слышал. Как-то утром Борис высунул микрофон в форточку и записал мартовский гвалт синиц. На другой день пришла мысль проиграть синицам их же вчерашнее теньканье. Вышла поразительная картина: со всех сторон слетались синицы, кричали, садились на репродуктор. Выключил – смолкли и разлетелись. Скворец, которого Борис подержал за крыло перед микрофоном, «наговорил» таких ужасов, что стоило включить репродуктор возле скворечен – птицы в панике вылетали из гнезд. Подтверждалось давнее предположение: у птиц, кроме песен, есть свой язык. Но в ту весну охотника за голосами интересовали птичьи песни, звуки весны, от которых у человека радостно стучит сердце.
Майская ночь на Оке. Мокрая трава. В темноте в траве кричат коростели. Весенний туман над лугом, костер зябнет возле воды. Далеко в темноте петух прокричал. С елки в лужу падают капли: кап-кап... Неслышно крутятся катушки магнитофона. Мокрый от росы человек лежит в траве с наушниками. Ночь со множеством звуков застывает на тонкой узенькой пленке. А утром еще больше звуков! Даже безголосые песней встречают солнце. Дятел выбрал сучок посуше, и частая барабанная дробь покатилась по лесу: дррррр... Маленькая птица бекас поднимается высоко кверху и падает. Крылья от крутого падения блеют барашком. Дрозды, кукушка... У человека от бессонной ночи слипаются веки. Пригретый солнцем, не снимая наушников, он засыпает...
Началась большая охота за голосами. Оказалось, дело это нелегкое и непростое. Самые лучшие песни у птиц – на восходе солнца. Надо загодя являться на место, надо хорошо знать, где держится птица. Борис ночевал на затопленных островах, случалось, в азарте по трое суток не спал. С «ящиком» он исходил все Подмосковье, по многу часов ожидал певцов в болотной воде, лазил на деревья, в шалашах караулил тетеревов. С первых же дней обнаружилось множество всяких помех: то гармонист в соседней деревне не спит, то пароход на реке стучит и загудел в самый неподходящий момент, то ветер или в деревне петух разорался, то сам певец никак не хочет подпустить близко. Нежданно много хлопот доставили соловьи. Куда ни пойди, соловей глушит все звуки. По многу раз из-за помех пришлось переписывать заново – опять куда-то ехать, стоять в воде, искать, подкрадываться, в лесу при свете карманного фонаря чинить технику.
Но вот наступил праздник.
На съезде орнитологов было объявлено: «А сейчас послушайте голоса птиц...» В большом зале затоковал глухарь, закуковала кукушка, потом дикие гуси, дрозды... И гром аплодисментов. Ученые восторженно встретили работу аспиранта Вепринцева.
Бориса пригласили на студию звукозаписи: «Будем делать пластинку».
В апреле 1960 вышла пластинка.
В московском магазине на улице Горького она стояла рядом с записями симфоний...
Это был радостный день. Борис разослал пластинку друзьям. Не был забыт и странный адрес старика в Англии: «Птичий домик. Людвигу Коху». «Я, помню, написал адрес и улыбнулся: на деревню дедушке... Жив ли старик? Все было почти как в сказке...»
Через три недели из Англии пришло письмо. Вверху листа был рисунок: пластинка, и на ней птица. Тут же печатная надпись: «Птичий домик». «Мой дорогой друг Вепринцев!—говорилось в письме. – Спасибо за ваши удивительные записи птиц России. Вы не представляете, каким чудесным был для меня день, когда я услышал ваши записи. Мне уже восемьдесят лет. Уже давно я стал стариком в отставке и предоставил записывать голоса птиц и животных более молодым. Я думаю, что выполнил мой долг. Недавно был юбилей. Меня поздравляли по всей стране. Пришлось отвечать на множество писем и телеграмм... Благодарю вас за возможность послушать птиц, которые в Англии теперь редки, таких, как черный дятел и особенно перепелка. Благодаря музыкальным занятиям я знаю: многих из композиторов прошлого вдохновляли песни перепелов, особенно Гайдна... Серый журавль у нас в стране уже не встречается. Если бы вы мне прислали записи голосов журавлей... Для меня это один из самых дорогих на земле звуков... Очень хорошо, что не забыли старика. Людвиг Кох».
Стало приходить множество писем, и во всех письмах главное слово – спасибо!
Год 1962-й. Вышло несколько тиражей первой пластинки. Ободренный успехом охотник теперь каждый свободный день пропадает за городом. Зимой записывал вой волков, в конце февраля лазил с микрофоном по снегу, караулил брачные крики воронов. Он побывал с «ящиком» на птичьих гнездовьях в Кандалакшском заливе, записывал птиц на Дальнем Востоке, на Кавказе, недалеко от Майкопа записывал рев оленей... Весной, в разлив, мы вместе поехали в Мещеру за журавлиными криками.
...Вода до самого горизонта. Потопленные деревья. На маленьких островах и корягах от наводнения спасаются зайцы. На большом острове ночью мы охотимся за криком неясыти. Никак не удается подойти близко. Прибегаем к хитрости. Старик Кох из Англии прислал Борису пластинку. На ней – хорошая запись совы. Затихаем в ночном лесу. И как только вдалеке слышим крик – включаем «голос из Англии». Это голос соперника, и наша неясыть сразу же принимает вызов. Ближе, ближе. Совсем рядом крик. Птица сидит на темной вербе и вовсю соревнуется с «англичанином». А у нас в рюкзаке вертится колесо с пленкой.
...Журавли кричат над затопленным лесом каждое утро. Но остров осторожные птицы минуют, и мы только издали слышим трубные звуки. Снаряжаем байдарку – разыскать журавлей. Выбираем залитые водою просеки и поляны, кое-где тянем байдарку волоком. С пней и коряг нас провожают настороженные глаза лесных мышей, ужаков, черепах. На одиноких открытых деревьях бормочут тетерева. Я тихо гребу, а Борис надевает на микрофон варежку («отфильтровать» ветер), протягивает длинную палку поближе к певцу, подальше от шороха магнитофона...
К вечеру мы находим место журавлиных ночлегов – гриву земли с кустами и прошлогодней травой. Пять журавлей пасутся на мелкой воде. Они тянут головы в нашу сторону и застывают, потом беспокойно начинают ходить. Один не выдержал, полетел. И остальные поднялись с криком... Но черт бы взял «ящик»! В нем что-то заело. А журавли, как нарочно, делают круг над поляной... Борис расстилает на траве полушубок, хватает отвертку... Но ремонт занимает более часа. Ставим палатку и, обходя гриву, видим: ночью будем не одиноки – грива приютила двух зайцев и горностая...