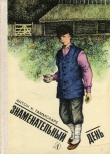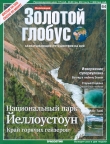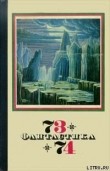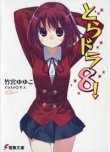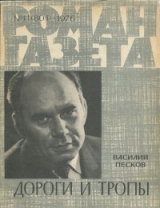
Текст книги "Дороги и тропы"
Автор книги: Василий Песков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
ПЕРВАЯ
Зинаида Петровна Кокорина почти тридцать лет была учителем и директором школы. Но ее взрослые воспитанники и недавние ученики из поселка Чолпон-Ата у киргизского озера Иссык-Куль, читая этот рассказ, наверняка удивятся, когда узнают, что их седовласая добрая «исторична» Зинаида Петровна была летчицей. И не просто летчицей, но первой советской летчицей.
Было это очень давно, в годы, когда страна не имела еще своих самолетов и летали на покупных французских: «фарманах», «ньюпорах» и «моран-парасолях». Это кажется непостижимо далеким временем, если оглянуться от рубежа, взятого новым, почти фантастическим самолетом Туполева. Но, в сущности, это было недавно, если человек, летавший на этих самых «ньюпорах», может, в качестве пассажира, правда, полететь на нынешнем сверхсамолете.
Зинаиде Петровне семьдесят лет. В детстве самолетов она не видела. Ни один самолет над Россией тогда не летал. К тому же из подвального окошка дети уральского старовера-старателя видели только ноги проходивших по улице, и была у детей игра: узнавать по ногам, кто прошел, – урядник, барышня, крестьянин, приехавший из деревни.
Старатель Кокорин в горах, как видно, не нашел золотой жилы. В Перми семья его жила бедно. «Хлеб покупали у нищих, так было дешевле. Зимой я ходила в школу, а летом работала на спичечной фабрике, клеила этикетки. В десять лет обучила соседку-булочницу грамоте и принесла матери пять рублей».
Таким было детство. Если попытаться найти в этом детстве ростки человеческого упорства, которым отмечена жизнь этой женщины, то мы их найдем без труда. За способности Зинаиду Кокорину определили в гимназию. С великим усердием, когда надо было учиться самой и давать уроки купеческим дочкам, чтобы кормиться, Зинаида Кокорина окончила гимназию с золотой медалью и решилась поехать в Петроград, в университет. Это было в 1916 году.
Представим себе эти пять лет петроградской учебы. Начало сознательной жизни совпало с началом революции, и человек оказался в самой середине кипящих страстей. «Это было время очень больших надежд и очень больших мечтаний. Я думаю, никогда до этого на земле люди не мечтали так смело». В 1921 году Зинаида Кокорина получает диплом преподавателя средней школы. Она едет в Киев и еще не знает своей судьбы.
«Над Киевом пролетал самолет...» Я слушаю Зинаиду Петровну и стараюсь представить этот момент: над Киевом самолет. Мальчишки, извозчики, военные, старики, продавцы, служащие остановились на улице, подняли головы кверху. Над городом самолет. Не первый раз пролетает, и все равно улица обо всем позабыла. Даже лошади испуганно мотают головами от непривычного грохота сверху. Легкий желтовато-серого цвета аэроплан летел по-нынешнему очень медленно, по-тогдашнему непостижимо скоро. Самолет скрылся, утих. И все на улицах потекло как обычно. Но один человек в Киеве не мог уснуть ночью после низко пролетевшего самолета. «Я думала: человек-птица, особенный он или такой же, как все?.. Мне сказали: «Зинаида Петровна, дело это мужское». Тогда я захотела узнать, а как мужчины становятся летчиками, и стала укладывать свой чемодан...»
– Дима, принеси-ка мой чемодан. Двенадцатилетний внук, слушавший наш разговор, убегает и приносит старинный потертый поцарапанный чемодан.
– Все, что осталось... Чудом уцелел чемодан, и вот фотография...
Весной 1921 года в Качу, в школу летчиков, прибыла новая библиотекарша. Ну прибыла и прибыла. Кто мог догадаться о тайной цели красивой высокой девушки?
Кача – это местечко в Крыму, большое, ровное и сухое пространство около моря – природой созданный аэродром. Первые самолеты не нуждались в бетонных дорожках. Качинская земля, весной покрытая маками, а летом сухой желтой травой, принимала самолет почти в любом месте. Правда, самолеты тех лет между колесами имели еще и высоко загнутую «лыжу», чтобы не запинаться, лучше касаться земли.
Триста мужчин учились в Каче летать. Тут были русские, латыши, эстонцы, итальянцы, индусы, болгары. «Я помню многих по именам. Ангел Стоилов был силачом-болгарином. Хорошо помню живого, неистового итальянца Джибелли, он стал потом героем Испании. Индус Керим был тихим, задумчивым человеком, перед тем как сесть в самолет, он всегда на коленях молился богу. Это были недавние пролетарии – кузнецы, слесари, переплетчики, жаждавшие летать. Мы все тогда ждали скорой мировой революции и понимали: будут бои, нужны будут летчики».
Лучше других Зинаида Петровна помнит Альберта Поэля. Этот эстонский слесарь был в Каче уже инструктором, учил летать новичков. Он имел прозвище Бог, как, впрочем, и все другие инструкторы. И в этом слове не было никакой иронии. Каждый хорошо умевший летать казался богом даже для тех, кто сам уже понемногу летал, Высокий молчаливый эстонец чаще других стал приходить в библиотеку за книгами...
Краткости ради опустим все, что имеет малое отношение к летной судьбе Зинаиды Кокориной, но все-таки надо сказать: двое людей в ту весну узнали большую любовь. Кто обозначит меру любви? Но если и в семьдесят лет один человек говорит о другом человеке с трепетом в голосе, это, наверное, и есть высшая мера.
«Ему я первому сказала: хочу летать. И он понял... Однажды утром мы вдвоем пошли к самолету. Все помню: удивленно переглянулись механики (женщины к самолетам обычно не подходили), помню, рукою крутнули пропеллер, помню, побежали под крыльями красные маки. И все, что было потом, всегда вспоминалось как самый счастливый миг. Минут двадцать летали...» В одну из суббот после этого дня летчики в Каче готовились праздновать свадьбу. В этот день молодые – библиотекарь Кокорина и летчик Поэль – готовились ехать в загс в Севастополь. А в четверг инструктор Поэль не успел вывести старый «ньюпор» из штопора и разбился почти на глазах у невесты.
«Хоронили его в Севастополе. Вместо памятника поставили два скрещенных пропеллера, тогда всех летчиков так хоронили. Друзья говорили речи. Кто-то держал меня под руки. А я, одеревеневшая, почему-то силилась сосчитать рябившие в глазах кладбищенские пропеллеры... Вино, приготовленное на свадьбу, выпили на поминках...»
В этом месте рассказа Зинаида Петровна долго молчит. Мы глядим в окошко. На крыше соседнего деревянного дома прыгает воробей. В морозную ночь он, видно, ночевал где-нибудь в трубе. Чумазый растрепанный воробей ожил на солнышке, оставляет на ровном снегу строчки следов...
– Ну а потом?
– А потом я пошла к начальнику училища и секретарю партячейки. Постаралась им объяснить... Наверно, нельзя было мне отказать. Через три дня я уезжала под Москву, в Егорьевск. В Егорьевске проходили теоретический летный курс.
Среди курсантов в Егорьевске были четыре девушки. Но высокий инспектор, приехавший из Москвы, всех отчислил. Он сказал то же самое, что Зинаида Кокорина слышала множество раз, но сказал грубо: «Бабам не место...» Нарком в Москве, приветливый и доступный, был отечески добрым, но и он отказал: «У вас может быть столько дорог. А самолет... Ну признайтесь, разве легко?..»
Оставался один человек, который мог бы помочь двум особенно упорным – Евдокимовой и Кокориной. И девушки пошли за советом к «всесоюзному старосте». Калинин не стал отговаривать. Он внимательно слушал, теребил бороду и под конец сказал: «А выдержите?» Вышел из-за стола, пожал руку: «Первым всегда трудно. Не отступайте...»
«После курса в Егорьевске я ехала в Качу, к стареньким самолетам. За Курском по причине больших заносов поезд остановился. Пассажиры чистили путь, добывали дрова для паровоза. Под Харьковом еще одна остановка. Путь был свободным, но мы стояли. Пять минут непрерывно гудел паровозный гудок. Мужчины на морозе стояли с непокрытыми головами. Машинист, не стыдясь, плакал. В эти минуты в Москве хоронили Ленина».
А дни шли. И можно было уже сесть в самолет. И не летать еще, а просто так посидеть в кабине, потрогать крылья ладонью, крутнуть пропеллер для тех, кто взлетал, подышать запахом подгоревшей касторки. Старые, изношенные самолеты. Каждый день в них обязательно что-нибудь ломалось. Нынешний летчик изумился бы, заглянув в кабину качинского «ньюпора» или «авро»,– ни одного прибора. Ни одного! «Работу мотора определяли на слух, высоту полета на глаз. Летали, правда, недалеко, невысоко».
Полет был праздником. Минут десять – пятнадцать праздника. Остальное – будни. Подъем до солнца, отбой поздно вечером. Переборка моторов, притирка клапанов, рулежка по полю. Моторы были недолговечные – сорок часов работы, и надо менять. На каждый самолет полагалось по три мотора. С одним летали, другой стоял наготове в ангаре, третий в мастерской на починке. «Тут я вполне узнала, что значит «неженское дело». Надо было не просто поспевать за мужчинами. Середнячком свое право я не могла утвердить. Надо было стать первой».
И она была первой во всем. Ее выбрали старостой группы. Она первая освоила самолет. И, когда подошло время летать без инструктора, первой назвали ее фамилию.
Можно рассказать о самом первом ее полете. Он случился 3 мая 1924 года. Но все было буднично просто. «Авро» взлетел, сделал круг и опустился в обозначенном месте. В летной практике школы это был рядовой факт: еще один курсант удачно начал полеты. В человеческой жизни это была заметная дата. Сейчас издалека мы хорошо видим: утверждая себя, человек прибавил камешек в пирамиду человеческих ценностей.
«В тот день я была просто счастлива. Мы ходили в одинаковых комбинезонах, и только букетик крымских цветов, который я получила, вылезая из самолета, отличал меня от всех остальных».
Трудным был третий ее полет. Разлетелся мотор у «авро». Капот мотора оторвался и лег на крыло. Самолет падал, но все-таки сел. Когда разбирали полет, человек, которого в Каче все уважали, сказал: «Кокорина будет хорошим летчиком».
Она стала хорошим летчиком. Красный летчик. Так значилось в ее документах. Советская авиация в те годы только-только рождалась. Летали по-прежнему на покупных самолетах, названия были новые, звучные, но чужие: «хавеланд», «мартинсайд», «фоккер». Конструкторы будущих ИЛов и ЯКов еще только учились. На планерных соревнованиях в Коктебеле Зинаида Кокорина познакомилась с молодыми людьми, тогда еще неизвестными. Один назвался Ильюшиным, другой – Яковлевым. «Яковлев был мальчишкой, лет восемнадцать, не больше. Он увидел мои петлицы и удивился: «Вы летчик?!»
Но просто летать теперь уже мало. Зинаида Кокорина решает стать летчиком-истребителем. Опять учеба. Приемы воздушного боя, стрельба по цели, бомбометание. Два десятка мужчин и одна женщина учатся в Высшей военной школе.
Выпускные экзамены. Лучший результат по пилотажу и стрельбе – у Зинаиды Кокориной. Ее оставляют пилотом-инструктором в школе. Теперь она летает сама и учит летать других. Приезжают ее друзья из Качи. «Смотрю, теребят за рукав: «Зина, возьми в свою группу...»
«После школы я служила в Борисоглебском летном полку. А потом Осоавиахим».
Нынешним молодым людям надо заглядывать в энциклопедию или расспрашивать, что значит слово Осоавиахим. В 30-х годах это слово значило очень много. Создавалась мощная, оснащенная техникой армия. И каждый человек, чем мог, помогал армии.
«У нас работали очень известные теперь люди. Те же Ильюшин и Яковлев, ракетчики Цандер и Сергей Павлович Королев, Я тогда замещала руководителя авиационного отдела в Центральном совете».
Это было время, когда создавались аэроклубы и летные школы, когда почти каждый город строил себе парашютную вышку, когда летчиков готовили уже не десятками, а тысячами и летали уже на своих самолетах. Зинаида Петровна стояла во главе огромной работы. Сохранилась фотография той поры. Немецкий конструктор Фоккер, прилетавший в Союз по каким-то делам, подарил «удивительной русской женщине» сбой портрет с надписью, лестной для каждого летчика.
В аэроклубы из Москвы инспектор Кокорина летала на самолете не пассажиром, а летчиком. И, уж наверно, ее видели девушки в самых разных местах страны. Знаменитая летчица Полина Осипенко вспоминает: «Я была птичницей. У нашей деревни сел самолет. Вышла женщина. Я вся загорелась: и женщины могут летать?!»
За первой ласточкой, каким бы ранним ни было ее появление, весна непременно приходит. В конце 30-х годов уже сотни девушек научились летать. Полет через всю страну Осипенко, Расковой и Гризодубовой окончательно утвердил место женщины среди летчиков. Валентина Гризодубова командовала мужским полком дальней бомбардировочной авиации. В музее авиации и космонавтики есть снимок девушки Лили Литвяк. Она стоит рядом с обескураженным немецким асом. Аса сбили под Сталинградом. Не знавший поражения летчик пожелал увидеть, кто его сбил. И тогда вошла девятнадцатилетняя девушка в полушубке.
В войну тридцать женщин-летчиц стали Героями Советского Союза. Среди них для Зинаиды Петровны Кокориной есть особенно дорогое имя: Нина Распопова. Это ее прямая воспитанница. Она училась в летной школе, где Зинаида Петровна была начальником.
Лет восемь назад Зинаиде Петровне надо было переезжать в Москву из Киргизии. Друзья осторожно спросили: «Может быть, поездом?» – «Нет, обязательно самолетом».
ИЛ-18 вез в Москву первую летчицу. Никто, конечно, не знал старушку, которая просилась сесть непременно возле окошка.
– Первый раз, наверное, летите? – спросила девушка-стюардесса.
– Да, дочка, первый раз за последние тридцать три года...
Не по своей воле пришлось ей в трудные годы оставить любимое дело. «Сначала думала: пережить не смогу. А потом ничего, привыкла. И опять жизнь обрела смысл».
Тридцать лет Зинаида Петровна прожила на берегу озера Иссык-Куль. Учила киргизских и русских детей. «Прошлое постепенно забылось. Иногда казалось даже, что это не я, а кто-то другой летал. А теперь всплыло, нахлынуло...» Началось все с того, что дочь написала в Москву из Киргизии: «Может быть, кто-нибудь помнит?»
Зинаиду Кокорину помнили. Отозвалось много друзей. И вот уже несколько лет Зинаида Петровна в Москве.
Восемь часов, подогревая время от времени чай, мы говорим. Говорит Зинаида Петровна, я слушаю и дивлюсь бодрости, уму и обаянию семидесятилетней женщины.
«Дочка, можно сказать, без отца вырастала. Он тоже был летчиком. Уехал на Восток.
Я считала: там он погиб. Но вот недавно дочери показали одну интересную Доску почета. Портрет отца висит рядом с портретом Рихарда Зорге. Оказалось, они вместе работали на Востоке».
– Зинаида Петровна, не могли бы мы сделать для вас что-нибудь нужное или приятное? – спрашиваю я в конце разговора.
– Можешь, голубчик. Свози меня на аэродром. Хочу как следует поглядеть нынешние самолеты.
Мы были на внуковском летном поле. День стоял серенький. Самолеты, оторвавшись от земли, сейчас же исчезали в холодной хмари. Зинаида Петровна ходила, опираясь на палку, и надо было ее поддерживать за руку.
– Хотите знать, о чем думаю?.. Когда первый раз в жизни увидела самолет, было ощущение чуда. Это чувство осталось... И вот думаю: если бы мне сейчас двадцать, начала бы все, как тогда? И сама себе отвечаю: начала бы все, как тогда...
Она была первой... После хорошего снегопада попробуйте проложить лыжню для других. Даже в этом маленьком деле вы хорошо поймете, что значит быть первым.
АНТОНИХА
– Может, кто-нибудь согласится?
Двое лодочников бросают цигарки, сосредоточенно мнут их сапогами, глядят на реку.
– Опасно...
Я и сам вижу: опасно. Дон, взбудораженный половодьем, несется в меловых кругах. В темноте слышно, как ревет вода, как шлепаются с подмытого берега комья земли.
До катера верст восемь, но берегом не пройти – низина в воде. Сутки, а то и больше надо колесить по топкой равнине до переправы. А село, куда мне к утру надо попасть непременно, почти что рядом. На круче приветливо теплятся огоньки крайних домов, только бы через реку – и я в селе.
– Так, говоришь, не боишься?
Сидевший до этого неподвижно третий лодочник встал, зашлепал по невидимым лужам к иве, где привязаны лодки, загремел цепью.
– Садись...
Лодку подхватило и понесло в темноту. Я успел увидеть, как двое оставшихся на берегу тоже шагнули к иве, загремели цепями.
– Беспокоятся: не кувыркнулись бы мы, – простуженным голосом сказал перевозчик. – Ничего. Не первый раз...
Он не греб, а только правил веслом, не давая лодке кружиться в водоворотах.
Минут десять сидел я, вцепившись руками в мокрые и холодные борта лодки. Тревожно кричали гуси в пойме, куда-то вправо уходили
желанные огоньки... Наконец лодка толкнулась о берег. Перевозчик, не выпуская из рук весла, взмахнул багром и уцепился за куст,
– Вылезай!
Я зашуршал бумажками расплатиться, но лодочник положил на плечо руку.
– Не обижай... Закурить есть?.. Первый раз в жизни я пожалел, что не курю. Выручил подбежавший на разговор парень.
– Плавать умеешь? – спросил лодочник, сворачивая цигарку. – А я вот не умею, даром что на реке...
Вспыхнула спичка... Я не поверил глазам: слабый огонек осветил обветренное, тронутое морщинами лицо женщины. Она уловила мое смущение.
– Знал бы – не сел?
– Да нет, почему же...
– Антониха-а!.. – донеслось с берега.
– Беспокоятся мужики. Надо плыть. Ну, прощайте!
Я пожал протянутую руку, не зная, что и сказать. А женщина-перевозчик была уже в лодке.
– Антониха-а!.. – опять позвали из темноты.
– Плыву, плыву... – ответил с реки немного ворчливый голос.
Неделю спустя знакомый лесник уговорил меня пойти на вальдшнепов. В пойменном лесу стоял острый запах прелых листьев, кое-где лежали светлые островки снега. В прибрежной балке присели передохнуть. В этом овраге, поросшем дубами и мелким кустарником, беспокойно кричали сороки.
– Что за базар там у них? Неспроста собрание устроили, – указал лесник в сторону суховатого вяза, где беспокойно прыгали, взлетали и снова садились птицы.
Возле вяза пахло потухшим костром. На ветках сушилась рыболовная сеть. Тут же, прикрытые мхом, лежали хороший сом и пара язей – видно, утренняя добыча рыболова. И стоял очень старый, ободранный мотоцикл с коляской. В коляске лежали дрова, а сверху поленьев – бутылка с березовым соком. У потухшего костра, прикрыв лицо обрывком брезента, спал человек.
Лесник кашлянул. Спавший зашевелился. Скинул брезент и сладко зевнул:
– А, это ты, Севастьяныч...
– А кто же, – сказал лесник. – Я с гостем,– добавил он, пытаясь в костре разыскать уголек для цигарки.
Антониха?! Да. Это была она.
Я много ходил и ездил в лесах. На таежных заимках встречал женщин-охотниц. Но тут, на обжитом Дону, эта встреча меня поразила.
Закатное солнце просвечивало овражек, и я с нескрываемым любопытством разглядывал женщину. Ей было лет шестьдесят – седые пряди выбивались из-под серой верблюжьей шали. Глаза, однако, глядели вовсе не по-старушечьи. Не прожитый с годами природный ум светился в этих глазах, да, судя по всему, и на зрение старуха не жаловалась.
– Стреляешь, Антоновна? – кивнул я в сторону ружья.
– Швыряй картуз кверху – увидишь. Чудно небось встретить такую ведьму в лесу? – вдруг засмеялась Антониха. – Признайся, чудно?
Я сказал, что рад такой встрече, что и сам в лесу вырастал.
– Я не отшельница. Жизнь на людях прошла... А лес люблю... И Дон люблю. Да что ж мы стоим? Набери сушняку, а я за рыбу примусь. У огня разговор-то веселее пойдет.
Лесник махнул рукой и один пошел на поляну высматривать вальдшнепов. А мы с Антонихой разложили костер да так и просидели под звездами до утра.
Под шорохи лесной ночи перед моими глазами прошла трудная, не совсем обычная и суровая жизнь простой деревенской женщины.
Отец был добрым и ласковым человеком. Но была слабость: увлекся церковным пением, забросил хозяйство. Пятнадцати лет рослая и сильная Настя встала за соху –попробовать, да так и осталась на пашне.
Умер от болезни отец, а мать после него – от горя. Перед смертью мать собрала ребятишек, позвала Настю:
– Ты остаешься, дочка, хозяйкой. Сестрам и брату не на кого, кроме тебя, надеяться. Совсем трудно будет – тогда в приют, а пока силы есть – не дай пойти по миру...
День за днем, год за годом: пашня, покос, молотьба... Зимой, чтобы добыть лишний кусок хлеба, охотилась, летом рыбачила. Мужская работа сделала Настю грубоватой, по-мужски смекалистой и выносливой.
Незаметно, как июньская сенокосная пора, прошла молодость. Не было у Насти часу ходить в луга, где водились хороводы, и подруг не было, все с мужиками в поле: пашня, покос, молотьба, охота...
Повырастали сестры, попросили благословения замуж. Брат тоже женился, в Москву уехал.. Выполнена материнская заповедь – пора бы и о себе подумать... Да поздно! Уже не Настей, а Антонихой зовут ее на селе. Да и трудно было менять проторенное русло жизни – землю полюбила, пристрастилась к охоте.
За доброту, честность и справедливость выбрали Антониху председателем сельского комитета бедноты. С той трудной поры укрепилось за Антонихой ласковое прозвище «мирской матери». После двадцать лет подряд выбирали эту почти неграмотную женщину народным заседателем. И нет на селе человека, который, сказал бы, что Антониха хоть раз покривила душой, не заступилась за обиженного и отпустила виновного.
Первой вступила в колхоз. И по селу пронеслось: «Антониха записалась». И уж не надо было агитировать мужиков.
Вынесла все тяготы первых лет жизни колхоза: опять пахала, косила, молотила, воевала с кулаками. Была лесничихой и председателем сельсовета...
Чего только не умеют делать золотые руки этой не балованной жизнью женщины! Самый лучший в селе сад – у Антонихи. Антониха может починить замок и сшить сапоги. Во время войны, когда было разграблено и сметено село над Доном, чинила обувку, клеила односельчанам бахилы из автомобильной резины, из старых ведер делала распространенные в войну мельницы-терки. Не далее как три года назад своими руками новую хату поставила.
В сенях этой хаты пахнет мятой, лесными травами, сосновой стружкой. Приглядевшись, в темном углу можно заметить на нитке грибы, лосиный рог, гроздья прошлогодней рябины, заячьи шкурки, растянутые на досках... Это все лесные трофеи Антонихи. Лес и река давно уже стали для нее вторым домом.
– Скучно в лесу одной-то?
– О, милый, нешто одна я! Гляди-ка, сколько голосов птичьих, сколько шорохов разных!.. И на реке тоже хорошо. Умирать буду, скажу, чтобы на круче похоронили, чтобы лес и воду было видать. Для меня лес и речка что песня. Так-то вот, человек хороший.
– А что, Антоновна, и вправду плавать не умеешь? – напомнил я разговор первой встречи.
– Истинно. Не держусь на воде. Сколько ни училась – не держусь, и все.
– А если лодка перевернется?
– Случалось. А я минуты две могу не дышать. По дну бегом, бегом к берегу. Вынырну, дыхну – и опять... Тонут люди больше от страха. А я привычная – почитай, всю жизнь на воде...
Дома из пустого кованого сундучка Антониха достала связку пожелтевших бумаг.
– Помоложе была – на волков ходила. Вот взгляни, карточка. А вот квитанции: семьдесят заячьих, двадцать лисьих шкурок в зиму сдавала. Первой охотницей числилась. Перед войной позвали в город испытать меткость. Машина у них там тарелки кверху швыряла. Охотники по ним и лупят. Я только две пропустила. Премию пятьсот рублей дали. Теперь уж и глаз не тот, и рука тяжела, – вздохнула Антониха. – Шестьдесят годов по земле отходила. Да и увечья дают знать...
Такова, если коротко рассказать, биография Антонихи – Анастасии Антоновны Трофимовой. А вот несколько более подробных страниц из этой трудной, честно прожитой жизни.
Год 1933-й. Темная февральская ночь. В заснеженном поле у стога – две темные фигуры. Холодно, неуютно. Люди то присядут от ледяного ветра, то вдруг начнут быстро ходить, поколачивая валенками. Двое караулят картошку, спрятанную с осени в ямах. Нельзя не караулить – голод, воруют, кулаки не дают молодому колхозу встать на ноги. На прошлой неделе выгребли одну яму. Картошку, правда, не увезли, а бросили на морозе, чтобы на семена не годилась.
Долго тянется холодная ночь. Хочется людям положить ружья, глубже забраться в стог. Глаза слипаются от усталости, но нельзя спать: сами вызвались сторожить... Фыркнула лошадь.
– Кто там?!
Трое в полушубках копают землю... Выстрел вверх. Еще выстрел. Схватка у стога. Нет, дерутся не пятеро, один струсил, побежал, утопая по пояс в снегу. Убежал тот, кто сам вызвался караулить. Убежал, оставив товарища... А двое в полушубках швырнули в снег ружье, схватили с саней лом...
– Ну что, кажется, кончено? – хрипло сказал один.
Бандиты прыгнули в сани... Яма с картошкой не тронута, зато у стога остался лежать окровавленный человек.
Бандиты ошиблись, посчитав, что прикончили сторожа. Человек очнулся и, оставляя кровавый след, пополз к деревне. Навстречу уже бежали колхозники.
– Скорее в погоню... Я стреляла в сани, дробь укажет...
Антониха потеряла сознание.
Бандитов поймали, а у Антонихи памятью об этой февральской ночи остались рубцы на голове и сломанные ребра.
– Живуча! – взглянув на нее, со злобой сказал на суде один из бандитов.
...Год 1942-й. Вал огня катился над Доном. От села остались на белой горе одни трубы. Кто не успел переправиться на левый берег, спрятался в погребах. Сидели не вылезая, потому что небо смешалось со степью: казалось, сама земля горела над Доном. Потом притихло, и на бугре замелькали зеленые куртки немецких солдат.
Ночью в крышку погреба на крайней улице у реки кто-то осторожно постучал. С фонариком
в яму спрыгнул забинтованный, перепачканный гарью молодой лейтенант.
– Мне Антониху... Нас шестьдесят человек. Прикрывали своих. Теперь через Дон надо. Сказали – только вы можете...
Луч немецкого прожектора бьет по верхушкам камышей, скользит по темной, тревожной воде, а под крутым берегом для него – мертвая зона. Тут, тесно сбившись в кучку, сидят шестьдесят израненных и усталых бойцов. Ждут переправы. Все лодки разбиты в щепы. Только у Антонихи в камышах уцелела.
– Сначала боеприпасы и мотоцикл. Перевозить буду сам, – скомандовал лейтенант.
На середине реки прожектор осветил лодку. Гребцы растерялись. Лодка почерпнула бортами и опрокинулась. Солдат с лейтенантом плывут назад, но уже без мотоцикла и боеприпасов...
– Перевозить будет Анастасия Антоновна, – сказал лейтенант, выжимая воду из гимнастерки. – Первыми пусть садятся раненые.
До рассвета длилась трудная переправа...
Год 1944-й. Война уже шла далеко. Однажды в село завернула машина. Запыленный, увешанный орденами майор разыскивал «Антониху-лодочницу». Антонихи дома не было, а майор, видно, очень спешил. Оставил у соседей мешок с мукой, сахар, полпуда масла, солдатские консервы, сверток парашютного шелка и короткую записку: «Антонихе с благодарностью от знакомого лейтенанта. Жалко, что не застал. Но увидимся непременно».
Может, не суждено было увидеть майору конец войны. А может, жив-здоров и не забыл еще переправу на Дону июньской ночью 1942 года...
Год 1946-й. В бредень возле берега попала какая-то занятная вещица – не то замок от орудия, не то прибор какой.
– А что, если мотоцикл разыскать? – Антониха хорошо помнила место, где опрокинулась лодка.
Снарядила сеть. На нижний край кирпичей навязала, чтобы по дну тащился... На третьей проводке сеть зацепилась. Опустила Антониха в этом месте камень и по веревке – в воду... Так и есть – мотоцикл!
В МТС добыла тросик, на берегу вороток сделала. Целый день потихоньку, чтобы не повредить, раскачивала наполовину затянутую песком машину. Вытащила! В коляске зеленели водоросли, почти как новые лежали патроны и диски от автоматов. Все село сбежалось глядеть...
Месяца два не видели Антониху на реке. Развинчивала, протирала, собирала и снова развинчивала машину, четыре года пролежавшую под водой. Каким чудом изучила ее Антониха, трудно сказать. Только в конце лета, пугая кур и приводя в восторг ребятишек, промчалась она по поселку на луг и целый день колесила там, изучая повадки «железной лошади», как сама в шутку стала звать мотоцикл.
Сейчас в селе мотоциклов не сосчитать. Новые, разных марок. У Антонихи громоздкий, военного образца «Ижак» выполняет самую прозаическую работу. Вязанки сена, дрова, грибы, лесные груши и рыбу доставляет она на мотоцикле домой. Фантастическую картину представляет эта машина. Отовсюду торчат проволоки, накладки, приварки. Приспособлена к мотоциклу большая деталь от трактора. Но ездит машина! Иногда только ребятишкам приходится помогать старухе толкать ее на гору.
– Много хлопот с этой «лошадью»,– смеется Антониха, – а бросать жалко – люблю быструю езду. Да и ноги уже не те. До леса долго идти, а на этом звере – в два счета...
При отъезде я попросил Антониху подвезти к пристани.
Честное слово, не встречал более уверенного водителя! Но почти у самой пристани старенькая машина вдруг зачихала, что-то случилось в ее потрепанном организме.
– Ничего, сейчас отыщем болячку, – сказала Антониха.
Она скинула телогрейку, как заправский шофер, закатала по локоть рукава кофты и, расстелив тряпицу, стала бережно класть на нее замасленные железки. Все это сопровождалось добродушным ворчаньем, нелестным словом в адрес какого-то Ваньки Коровина.
– Удружил, сукин сын. Сделал...
Я с любопытством наблюдал, как Антониха продувала, разглядывала на свет какую-то детальку мотора. Увидев встречный автомобиль, она подняла руку.
– Степа, свези-ка человека на пристань и приезжай помоги.
Шофер с готовностью распахнул дверку грузовика. Мы попрощались с Антонихой. Я записал адрес, сделал снимок на память. Антониха глянула на часы.
– Езжайте, езжайте. Пароход ждать не станет.
С палубы парохода я долго глядел на прибрежную улицу: не покажется ли Антониха? Наконец, когда пароход уже сделал у пристани разворот, на дорогу вырулил мотоцикл. Антониха по берегу обогнала пароход и остановилась на пригорке. Степенная, неторопливая.
Я снял шапку: до свидания, Антониха!