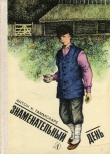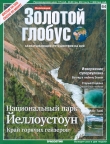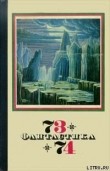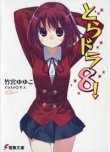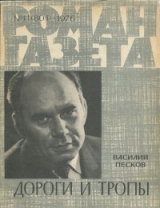
Текст книги "Дороги и тропы"
Автор книги: Василий Песков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
ДОРОГИ И ТРОПЫ
ЕВРОПА – АЗИЯ
Тут, на лесной поляне, Европа встречается с Азией. Две елки. Одна в Европе, другая растет на виду у нее – в Азии. Нарядные свиристели поднялись от людских голосов с рябины, сделали круг над поляной и сели на другую рябину, в Азии. Люди на поляне замерзли, греются – бегают из Европы в Азию и обратно. Автобус на дороге делает остановку, пассажиры глядят на каменный столб с надписью «Европа – Азия», палкой провели черту на дороге, со смехом прыгают в Азию.
Два великих материка встречаются на Уральском хребте, глядят друг на друга через реку Урал: Европа и Азия. Кое-где граница проходит между соседними селами – в гости ходят на другой континент. В Магнитогорске день проводишь на правом берегу Урала, а вечером трамваем едешь в гостиницу – в Азию. В практической жизни граница значения не имеет. Однако есть что-то значительное в минуте, когда в первый раз пересекаешь эту черту. Сзади – тысячи километров. А впереди по дернутые морозом гребни синих лесов, новые тысячи верст твоей земли, В эту минуту явственно чувствуешь ее размеры. Европа и Азия.
Всегда ли именно тут по хребту проходила граница? Покопавшись в книгах, узнаешь: в V веке до нашей эры историк Геродот проводил границу по Константинопольскому проливу (Босфору), по Черному и Азовскому морям и по реке Дону. Далее к северу земля для греков была неизвестной. В XVII веке границей считали Дон, Волгу, Печору и Каму. Француз Гильон на карте 1760 года продлил Европу до реки Обь. Однако географ так плохо знал восточные земли, что упустил обозначить Уральские горы, он просто не знал, где они есть. Немецкий природовед Гумбольдт предложил считать Европу и Азию единым материком: Евразией.
Первым границу по Уральским горам провел русский географ петровских времен Василий Татищев. Этот замечательный человек хорошо знал свою землю. Он заметил: реки с Урала текут в двух направлениях, одни – в Печору и Каму, другие – в Обь. «На западной стороне рыба в реках красного тела: лососи, хариусы. В восточных реках, хотя наружным видом подобны западным, – таймени, нельмы, муксуны, но как телом белы, так и вкусом различны». Замечено было: растительность за горами тоже заметно меняется. «Сие и сему подобные обстоятельства подают причину утверждать: сие горы за границу между Азией и Европою». Татищев же первым дал письменное название: «Уральские горы». До него их называли по-гречески: Гипербореи. Татищев назвал их местным именем. По-татарски «Урал» – значит «пояс», «каменный пояс».
Так определилась и закрепилась граница. Теперь едущий или идущий пешком в разных местах заметит на ней пограничные метки – столбы. Они ставились в разные годы. В одном месте это литое сооружение, похожее на церквушку, в другом – пирамида, кованная из демидовского железа. Есть столб с фонарем, предупреждавшим путника: подходишь к Азии. Совсем новый столб с моделью земного шара и спутниками. До последних лет не знали, сколько всего столбов на границе. Теперь насчитано, кажется, семь. Но нельзя поручиться, что сосчитаны все. Граница тянется от Заполярья до Каспия. И столбы появляются в новых местах. В Магнитогорске при мне обсуждался проект такого столба...
Люди имеют объяснимую слабость ко всяким символическим линиям на планете. Перелетая экватор, летчик обязательно качнет самолет, и пассажиру вручают шутливую грамоту о том, что он видел «середину Земли». Американцы на антарктической станции Макмердо вручили нам дипломы «перешагнувших Полярный круг». Из Европы в Азию и обратно ездят столько людей, что до значков и грамот вряд ли дойдет. Хотя почему бы и не придумать что-нибудь в память о переезде этой границы?
Хорошо оценили место встречи материков туристы. Тут пролегает много походных троп, и есть особый туристский праздник, рожденный тут, на границе Европы и Азии. Начался он с дружеской переписки Москвы и Свердловска: «Давайте встретимся на границе». Встреча была столь веселой и интересной, что вот уже много лет в первое воскресенье февраля к столбу, стоящему в сорока километрах от Свердловска, едут туристы. И не только москвичи и уральцы, но и Прибалтика едет, Камчатка, Кавказ, Сыктывкар, Мурманск, Воронеж, Омск, Красноярск – Европа и Азия!
Около тысячи человек и в этот раз зажигали костер. Я не видел более веселой и оживленной «туристской ярмарки». Обмен подарками, значками, маршрутными картами. Состязание в песнях, знакомства, уговоры встретиться там-то и там-то на летних дорогах. И почти каждая из приехавших групп совершает зимнее путешествие по Уралу...
Граница... Стоишь на хребте и видишь землю, тебе принадлежащую. Направо – земля и налево – земля. След самолета над головой. Голубые дымы из видимых и невидимых труб тянутся вверх над лесами. Обрыв скалы. Белая полоса речки. И опять то ли дымы, то ли морозный пар над землей. Железно-каменный, поросший лесами хребет лежит на тысячу километров. А справа и слева – два крыла у страны: Европа и Азия.
МАЯК НА БАЛТИКЕ
«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». Так начиналась старинная лоция... Листать не спеша лоцию – все равно что путешествовать. Лоция создана моряками. Рождалась она из устных рассказов и описаний. «Будешь плыть, так знай: справа – мель, слева – камни. На камнях постоянно сидят бакланы, а скала на берегу похожа на гриб»,– примерно так рассказывал один моряк другому о местах, по которым придется плыть. Потом появились и книги – лоции. В них находишь теперь указания мелей, глубин, фарватеров, силы ветров и течений, сигнальные знаки. Но тут же видишь вдруг отступления от сухих наставлений: «Остров похож на кудрявую голову...». В одних названиях сколько поэзии! Например, на Камчатке: скалы «Три брата», «Мыс Африка», «Мыс, крещенный огнем», «Бухта ложных вестей». Читаешь – и видишь землю глазами моряков-открывателей...
В лоции я наткнулся на маленький остров. Наверное, на самый маленький из обитаемых островов – пятьдесят шагов в поперечнике. «Издалека остров можно принять за корабль... Маяк на острове светит по всему горизонту. В туман сигнал подается гудками. А если гудок неисправен, туманные сигналы даются колоколом». Почему-то очень захотелось побывать на этом острове. На морской карте я нашел его у входа в Рижский залив – крошечная отметка, как будто маковое зерно уронил кто-нибудь в море...
Берег у входа в Рижский залив.
– Плыть на ночь глядя? – Рыбак с минуту задумчиво скребет ногтем краску на старом, баркасе. – Ну ладно...
Вчетвером толкаем баркас в сонную воду. Пыхтит мотор. На мокрых сваях и на крышах рыбных сараев, вобрав головы, спят чайки. Две или три спросонья летят за нами, но возвращаются. Море чистое. Звезды... Ага, вот он. Над горизонтом что-то сверкнуло. Еще минута – и мы уже не спускаем глаз с большого огня. Прерывистый свет. По этой условной азбуке любой капитан скажет: «Это маяк Колка». И корабль обойдет стороной каменистые мели.
Мы на баркасе могли бы идти прямым путем на огонь. Но кругом рыбацкие сети. Стоящий на носу парень угадывает в молочной дымке буи. Баркас петляет. Маяк у нас то справа, то слева. Но вот уже пытаемся причалить к острову. Почему-то около острова волны. Нас швыряет, как деревянную ложку. А маяк над нами! Огромная темная башня с ослепительным шаром огня. Нас увидали, кидают веревку...
Гулкие камни. Оказывается, остров-то сделан людьми. В прошлом веке частые катастрофы на каменных мелях заставили адмиралтейство обозначить опасное место. Много лет подряд корабли возили и в одну точку кидали камень. Зимою камень возили по льду на санях. И вот поднялся над морем каменный остров. Сюда привезли и землю, чтобы росла на острове хотя бы трава.
Три чистых домика. Огороженные стеной, они делают остров похожим на крепость. Посредине маяк – кованая металлическая башня высотой в два метра. Литая доска на башне: «Маяк Колка. 1884 год». И памятка для живущих на острове: «Помни, башня маяка – неповторимое монументальное сооружение. Оберегай всеми силами от разрушений». Этот наказ, видно по всему, неукоснительно соблюдается – ни соринки во дворе у домов, ни соринки на гулкой винтовой лестнице внутри башни. И ни с чем не сравнимая, сверкающая чистота башенного фонаря! Когда нет огня, кажется, глядишь в огромный кристалл горного хрусталя. На лампу, которая гаснет и зажигается в полуметре от твоей ладони, невозможно глядеть.
С башни на горизонте видно россыпь огней – идут корабли. Ни один из них не приблизится к маяку. Огромная лампа сигналит: тут мели, тут мели... Маяк обречен на постоянное одиночество. Только рыбак, если заблудится, может прийти на огонь, да еще птицы осенней ночью тянутся к свету и бьются о башню. Иногда приплывают полежать на теплых камнях тюлени.
– Вот там при тихой воде видно: лежит на дне затонувший неизвестно когда деревянный парусник...
Смотритель маяка Алексей Сопронюк ведет нас по острову.
– Это жилье. Это радиорубка. Тут – дизельные моторы. Светом на маяке управляет электронная установка. А при тумане бьем в этот колокол. Как живем?.. Несем службу, ловим угрей, занимаемся фотографией, читаем, зимой обкалываем лед, в конце недели ждем смену...
Дежурят на маяке трое. Каждые семь дней с берега приплывает новая тройка.
– Осенью шестьдесят третьего смену ждали четыре недели. Тридцать два дня штормило.
Остров сделался как сосулька. И мы на нем пленники. Съели все, что годилось в пищу. Уже готовы были сварить сапоги, когда наконец вертолет смог появиться над островом...
В полночь я попрощался с ребятами на маяке. А через день мы низко пролетали над Колкой. Попытались посадить вертолет, но на острове не нашлось даже пятачка свободного места. Мы покружились над маяком. Кинули ребятам записку и видели, как они взяли привязанный к гайке кусок картона. А когда мы поднялись выше, чтобы лететь на базу, на маяке вспыхнул огонь. Это был знак привела. Над морем бежали серые облака. И огонь на темной, подернутой рябью воде далеко было видно.
А недавно я получил письмо. «Видел ваши снимки по телевидению. Маяк Колка! В конце войны я был высажен с боевого корабля на остров с задачей: зажечь маяк и обеспечить прохождение кораблей. На маяке находился один в течение месяца. Задачу выполнил. Петр Сухопаров».
Вот такой он, самый маленький из всех обитаемых островов.
ДВАДЦАТЬ МИНУТ ПОЛЕТА
– Хочешь, догоним коршуна?
Я понимаю это как шутку. Но вертолет делает маленький поворот, и вот уже нам с коршуном по пути. И он и мы летим низко над лесом. Я могу сосчитать перья на распластанных крыльях. Перья чуть подрагивают от ветра, идущего от винта. Коршун беспокойно оглядывается, и я вижу черную блестящую точку глаза. Чуть-чуть пониже – я мог бы дотянуться сейчас до птицы. Пилот искусно сохраняет нужное расстояние, и мы скользим над бегущими назад пиками елок и пышными головами берез. Коршуну надоедает соседство – кувырок, и он исчезает.
Раннее утро. Люди на одиноких лесных хуторах еще не проснулись. Звери в такое время не избегают открытых мест, и мы можем видеть многие тайны. Вот у старого, брошенного сарая играют четыре косули. Мы делаем полукруг, чтобы лучше зайти для съемки, но видим только четыре мелькнувших зада... Одинокий лось в мелком ельнике... Лисица на песчаном берегу маленького болотца, закусывает чем-то. Подняла морду, гавкнула и быстро юркнула в камыши. Видно строчку лисьих следов на мокром песке и остатки еды...
В вертолете мы сняли дверь, хорошо привязались и можем безбоязненно нагибаться за борт. Лесная жизнь – в сорока метрах под нами, Видны все тропки и просеки, видны наполненные водою следы лосей, кажется, приглядись – увидишь даже грибы. Белыми фонарями светятся яблоки в темной листве сада на хуторе... Белые куры кидаются в панике под кусты. Вертолет, наверное, кажется курам огромным голодным коршуном....
Озеро Энгури... В ста километрах от Риги вдоль моря в лесах тянется полоса пресной мелкой воды. Вода сверху однообразна, только на отмелях испуганные крупные рыбы оставляют «усы» на воде. Но вот на озере появляется что-то занятное. Странная геометрия... Заросли куги и осоки. Но как все это растет! Кажется, чья-то большая рука опустила над озером циркуль, провела правильные разных размеров круги и посеяла в них кугу и осоку. Я был на озере, плавал между зелеными островами, но там, на воде, не видишь загадочной геометрии. Теперь же мы видим множество темных «тарелок», уплывающих к горизонту. Как объяснить строгую геометрию?..
Великое множество птиц: утки разных пород, лебеди, чайки и кулики. Утки россыпью мака сидят на воде. Наверное, им тоже мерещится коршун – мы видим, как армада птиц срывается и не летит, а, кажется, бежит по воде в заросли. На ряске остаются полоски следов утиного бегства.
Лебеди, может быть, потому, что имеют меньше врагов, совсем равнодушны к нашему появлению. Два лебедя обучают птенцов добывать корм со дна. Снижаемся, снимаем – никакого волнения, продолжают кормиться. И только одинокий холостяк лебедь не выдержал. Хорошо видно, как птица помогает крыльям сильными лапами – толчки об воду: бух-бух-бух, как будто камни кидают позади птицы...
Ага, вот и «Ковчег». Из-за лесного клина выплыл дощатый дом с забавным хвостом из лодок. Мы бы гадали: что это? Но три года назад я жил в этом доме несколько дней и теперь машу ему, как старому другу. На «Ковчеге» только-только проснулись. Кто-то вертит над головой полотенце, кто-то забрался на крышу и сонно, неподвижно наблюдает за вертолетом.
...У науки много постов на земле. Есть дорогие обсерватории, громоздкие синхрофазотроны, атомные котлы, океанские корабли. И есть вот такой домик с дюжиной лодок, с керосиновой печкой, где варят на обед кашу и греют воду для инкубатора. Весною лодки доставляют на борт утиные яйца. В трюме «Ковчега» инкубатор выводит на свет диких утят. Каждому на лапку надевают кольцо и отвозят в гнездо к маме, которая в это время сидит на фальшивых яйцах, подложенных орнитологами... Есть давняя загадка, волнующая людей: как птицы, пролетая тысячи километров, находят дорогу? По какому компасу находят те же утки, возвращаясь из жарких стран, например, это озеро Энгури? Люди ищут ключи к загадке. Каждое лето ходит по птичьему озеру эта посудина с хвостом из лодок. Маленький пост науки...
Делаем последний круг над «Ковчегом» и летим по своим делам. Плывет внизу странная геометрия зарослей с пугливыми утками и белыми семьями лебедей...
ОБЪЯТИЯ ДУНАЯ
В вагоне не оказалось воды. Хотелось пить, и, как это бывает, разговор зашел о воде.
– В Кишиневе в сорок четвертом – ни капли! Город из рук в руки переходил. Водопровод разбит. Ни капли воды! Вспомнили о родничке в старом саду, называется Боюканы. С бидонами, с ведрами, с кружками и стаканами стояли в очереди. Ну, конечно, сейчас же и спекулянт появился. Стоит спекулянт на базаре, стеклянной банкой продает воду: «Пять рублей!..» Белым вином умывались, выходило дешевле... Точно. Я сам умывался.
– А у нас от воды деться некуда. Вся жизнь на воде... Про нас и в журнале писали. Так и сказано: «Вся жизнь на воде». Да-а... Это в аккурат там, где Дунай подходит к Черному морю.
В блокноте я тогда записал: «Вилково. Вместо асфальта – вода. Рыбаки. Староверы. Дунайская сельдь». Теперь выпадал случай по глядеть на «вторую Венецию».
Дорога из Кишинева оказалась несложной. В Измаиле (том самом, где Суворов прославился) надо сесть на маленький пароходик и плыть по Дунаю к Черному морю. Если дорого время, надо сесть на «Ракету». Этот сверкающий белый снаряд дрожит от нетерпения, как норовистая лошадь. И когда капитан в своей обтекаемой рубке отпустит наконец «удила», «Ракета» срывается с места, мчится, как и подобает ракете, только не дым из хвоста, а водяная белая пыль. И все, кто первый раз оседлал эту лошадь, переглядываются, улыбаются: вот это да! Наверх подняться? Что вы! Как листок сдует.
На Дунае новичок сразу Штрауса вспоминает и удивляется: почему же не голубой? Но такое уж свойство воды: небо огнем полыхает – и вода полыхает, небо свинцовое – и вода серая, как тоска. В погожее время Дунай кроткий и чистый, как дорогое зеркало. Если чайка летит, кажется – две чайки летят. И четыре берега у Дуная – два обычных, два «кверху ногами».
Как и подобает силачу, который держит на хребте черные баржи, рыбацкие лодки и белые пароходы, Дунай не хвастает попусту силой.
Шумливы только мелкие речки. А тут ширь, и глубь, и красота – заглядишься.
Справа и слева одинаковые берега. Старые, безглавые ветлы. Слева – наша земля, справа – заграничная. Слева – наши столбы, полосатые, с гербом. Справа – румынские. Два рыбака. Один ловит справа, другой – слева. У границы свои законы. Говорить не положено на реке. Но я думаю, эти два рыбака говорят. Наверное, так: «Ну как сегодня?..» – «А никак. Осень. Какая рыба...»
Пристань с надписью «Вилково». Толпа на пристани. Сегодня проводы в армию. Бритые рыбаки непременно хотят разбить каблуками дощатый пол дебаркадера, гармошка выдыхает через медные ноздри весь дух, какой только есть в гармошке, и вот-вот выпрыгнет из-за белого полотенца. Чья-то косынка вьется над бритыми головами. Старуха плачет. Две девчонки хохочут и сыплют на бритые головы цветочные лепестки. Частушки, «Последний нонешний денечек», «У нас еще до старта...» – все смешалось...
– Ну, все. Трап! – Капитан вошел в рубку. «Ракета» сверкнула белым хвостом и понесла гармошку и бритые головы по Дунаю.
И вот уже пусто на пристани. Плавают по воде лепестки астр и оброненная кем-то пачка сигарет «Лайка».
Двое мальчишек обращают внимание на мою «пушку» со стеклами.
Через две минуты мы уже связаны дружбой любопытных людей. Я им – поносить сумку и «пушку», рассказать про Москву. Они мне – показать Вилково.
Вилково – это чудо!.. Дома, палисадники у домов – в рядок, как положено. На плетнях горшки, белье на веревках. Однако попробуй заехать на улицу в этом городе. Только на лодке! Вместо асфальта, булыжника или даже простой деревенской травы вода течет по всем улицам. Дома чуть выше воды. Возле домов – виноград, груши, яблоки. Поспеет яблоко, захочет на землю упасть, а земли-то, глядишь, и нет под веткой. Блюк! – и поплыло яблоко. Рыбы захотел половить – бери бредень, лови прямо на улице; купаться – хоть из окна прыгай. Из окна же, если захочешь, можно закинуть и удочку. Лещи, сазаны, караси, судаки – отцепляй прямо на сковородку. А на бережку, в илистом палисаднике, все, что хочешь, родится. Земля такая: загородят палками край канала, глядишь – палки зазеленели, и вот уже превратилась ограда в рядок кудрявых ракит – еле-еле продерешься на лодке. А лодка тут все! Родился человек – из роддома по воде доставляют; свадьба – на лодках; что-нибудь по хозяйству купил, кровать, скажем, стол – на лодке везут. Умрет человек – последнее путешествие тоже на лодке.
Если вода небольшая, мимо домов можно пройти и посуху. Тянутся вдоль канала на сваях деревянные тротуары, где шириной в полметра, где в одну доску. Ночью чужак может и бултыхнуться с мостков. А свой человек уверенно ходит. В темноте сразу определить можно, кто идет по мосткам: стонут доски, скрипят – подгулявший рыбак в сапожищах до пояса дом ищет... А это каблучки спешат на свидание... Бочку с рыбою покатили...
Все мостки и каналы приводят в главный канал. Тут лодки ночуют. Сколько б, вы думали, лодок ночует в канале? Две тысячи! Лодки зовут каюками, похожи они на пироги – помните, у индейцев? – борт крутой, нос загнутый. На многих лодках моторы. Но это только для моря и для реки. С мотором по улице – не моги! Нарушителя сразу за ворот, а утек – номер запишут. На каждой лодке номер, как на машине. Зато уж на самой реке лодки – хозяева. Каюки, чуть больше каюков – могуны, совсем большие – фелюги, и совсем уже корабли – сейнеры. Весь этот деревянный и металлический флот караулит дунайскую рыбу. А рыбы тут много, и хорошая рыба. Есть такое название: дунайская сельдь. Нежность необычайная! Ее и коптить будто бы запретили – жиром исходит. Ну и, кроме селедки, есть тут красная рыба (осетр и белуга), лещ, судак, сазан, линь, сом.
Я попросил ребятишек отвести меня по мосткам к самому главному рыбаку. Ваня и Петька советуются, перебирают фамилии:
– Унгаров Яков... Унгаров Володька, дядя Кондрат Севизин, дядя Куприян Изотов...
– Нет,– сказал Петька,– хоть деда Махно на почетной доске и нет, все равно он главный рыбак...
Ищем деда Махно.
Дед стережет сети. Надо бызвать деда Федосий Васильевич Овсянников. Но так повелось: Махно и Махно. Старик не обижается, даже удивленно поднимет бровь, когда услышит имя и отчество.
– Да, семьдесят семь... Из них почти семьдесят – на воде. Всяко ловил... Что, белугу?.. Нет, не брешут. Вот такая была. Верхом ее окорячил – ноги до земли не достали. Сорок пудов!—Старик оживляется, садится верхом на скамейку, и мы не можем уже не поверить, что действительно ноги до земли не достали. – Первый год на путину не вышел, сижу стерегу сети... Эх, сынок, понимать надо! Сижу стерегу... А насчет путины Володьку Унгарова поспрошайте – хорошо ловит...
Но молодой капитан сейчас где-то под Керчью ловит хамсу...
Вилково – городок небольшой. Петя Изотов и Карасев Ваня показали мне все, что могли показать. Я только в конце дня заметил: Петька как вышел из дому в отцовских войлочных шлепанцах, так и отправился в путешествие. Обувка неподходящая. Но Петька вернуться не пожелал, снял шлепанцы, смешно держит в обеих руках и шлепает по мосткам красными, как у гуся, ногами.
С высоких мостков мы видели, как с лодок возле домов сгружали снопы камыша (к зиме на топку). Другая лодка по самый борт насыпана красной морковкой (к зиме с огорода). Из третьей лодки рыбак выгребал колючие, гремевшие, как железо, водяные орехи (свиньям на зиму). В четвертой лодке стоял молодой, видно, приезжий поп с модным кожаным саквояжем и журналом «Огонек» под мышкой. Его бородатый старик вез к церкви. Церковь, как белый маяк, возвышается над поселком.
– Ребята, вы бывали на колокольне?
Петька и Ваня не бывали на колокольне. Решаем добраться и глянуть, что видно сверху.
Для подъема на колокольню нужна «виза» церковного попечителя. Шла субботняя служба. Потолкавшись с минуту в душной, пахнущей потом, воском и ладаном церкви, мы нашли попечителя. Старик с синевато-пепельной бородой спросил: «Кто? Откуда?» – и открыл дверцу на узкую лестницу.
Церковь старинная, простоватая. Она ненамного моложе поселка. Первые русские поселенцы появились тут в самом начале прошлого века. Было их дворов десять. Поселились старообрядцы – люди фанатично религиозные, крепкие, работящие. Отвоевали кусок земли у Дуная. На насыпях поставили дома, сады заложили и так глубоко житейские корни пустили, так зелено расцвели ветки на родословном рыбацком древе, что теперь уже в Вилкове числится десять тысяч рыбацких душ.
...Вид с колокольни удивительно интересный: серебристые нити каналов, улицы островками, отдельные дома-островки, скопище лодок, а дальше вода, вода, камыши между ветел...
Разлитая всюду вода побывала в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии и теперь сверкает и плещется у домов русского городка Вилково. Кое-где Дунай служит границей, но он служит и дорогой людям друг к другу. Всюду одинаково рыбаки радуются восходу солнца над Дунаем, одинаково рады, если сбываются планы, и печалятся, если рыбы становится меньше.
На площадке, где мы стоим, висит колокол с надписью: «Пожалован купцом Семякиным и сыновьями». Бьем по бронзе ладонью. Густой глуховатый звук волнами катится вниз – и кажется, не от ветра, а от этого звука пробегает рябь по воде,
– Какая пропасть воды! – по-взрослому говорит Петька. – Вот бы на лодке так плыть и плыть...
Скрипят ступеньки. На колокольню поднимается старичок-попечитель. Он вежливо говорит, что пора нам спускаться – служба кончилась, и надо замыкать церковь.
...Опять видим на улицах лодки. Везут снопы желтого камыша, картошку в мешках, две бородатых козы смирно стоят в одной лодке, знакомый поп с саквояжем возвращается к пристани...
Такой он, городок Вилково в устье Дуная.