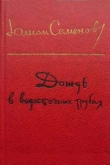Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск I"
Автор книги: Василий Шукшин
Соавторы: Валентин Распутин,Виктор Астафьев,Анатолий Приставкин,Виль Липатов,Мария Халфина,Аскольд Якубовский,Юрий Магалиф,Давид Константиновский,Юрий Куранов,Андрей Скалон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
– Садитесь, Иван Пыж! – весело сказал преподаватель обыкновенным голосом двадцатичетырехлетнего молодого человека. – Хорошо!
Ночь прошла спокойно. Пыж ворочался на кровати, разговаривал с кем-то, называл неизвестную Марию Федоровну, а под утро, вскрикнув, проснулся. Ему приснилась гигантская плетеная корзина. Она висела в воздухе и очень медленно переворачивалась. Пыж долго размышлял, почему корзина не падает на землю, удивлялся этому обстоятельству и не заметил, как корзина перевернулась. С громом и свистом полетели на него четырехугольные куски дерева с очень острыми краями. Он хотел убежать, но ноги точно примерзли к земле, и ему оставалось думать одно: что чурочка сырая и никто не может помочь ему. Когда все из корзины высыпалось, Пыж проснулся с чувством облегчения. В комнате было светло, как днем. В графине, стоящем на тумбочке у окна, порозовела вода.
Пыж стал перевертываться на бок и почувствовал, что все тело болит. Ныли руки и ноги, покалывало в боку.
Спать не хотелось. Пыж тихонько поднялся и стал одеваться. На цыпочках он вышел на улицу. Занимался день.
Кругом все розовело, а сигнал на кузове автомобиля горел ярким красным огнем.
Вчера утром Пыж заметил несколько старых корзин, валявшихся у механической мастерской. Корзины были на месте. Пыж внимательно осмотрел их. Хорошие еще корзины, целых четыре штуки. У одной, правда, немного подносилось дно. Перевязать его веревочками – дело пяти минут. Вот только где достать веревочки? Пыж вспомнил сторожа, с которым он познакомился в первый день приезда на лесозаготовительный пункт. Сторож сидел на лавочке у входа в мастерские. Он обрадовался возможности поболтать с Пыжом.
– Веревочки? Как же не быть веревочкам! У хозяина, который всегда при деле, да не быть веревочке? Мы это дело мигом! Мы это дело сейчас…
Старик принес несколько старых обрывков каната. Они распустили их, и старик помог Пыжу отремонтировать корзины.
Теперь оставалось главное – увезти корзины в лесосеку. Пыж понимал, что шофер лесовозной машины откажется взять громоздкий груз. Поэтому он отправился в диспетчерскую. Здесь еще никого не было. Пыж сел на лавку и привалился к стенке. Вдруг оказалось, что мучительно хочется спать. И он быстро уснул.
– Вставай! Слышь, вставай! – Над Пыжом наклонилась усатая физиономия Дутова. – Ты почему, парень, здесь спишь?
– Я нечаянно, – стал оправдываться Пыж. – Хотел вас подождать и уснул… Я штуку одну придумал. Корзины тут нашлись какие-то лишние. Вот посмотрите.
Еще ничего не понимая, Дутов послушно пошел за Пыжом, а когда узнал, в чем дело, радостно потрепал своего ученика по плечу.
– Дело, парень. А шофера мы мигом уговорим. Пошли-ка!
Шофер долго не соглашался. Он упирал на то, что в машине для людей не место всяким корзинам. Он очень гордился, этот шофер, своими почетными обязанностями возить пассажиров, но с Дутовым ничего сделать не мог. Сдался он после того, как тракторист вышел из терпения и закричал:
– Ты, Сенька, смотри! Ты хоть и шофер, а я сниму ремень и так тебя обработаю!..
Пыж от удивления вытаращил глаза: шофер оказался родным сыном Дутова. После нахлобучки шофер с ворчанием вылез из кабины и побросал в кузов все три корзины, приговаривая сквозь зубы, что будет жаловаться самому директору леспромхоза Сутурмину на самоуправство разных там отцов, которые лезут не в свое дело.
Но он скоро успокоился. Рабочие между тем собирались. Рядом с Пыжом уселся сосед по комнате, который просил у Пыжа мыло. Его звали Ефимом. Протирая заспанные глаза, Ефим рассказал Пыжу, что Емельян вчера куда-то ходил. Было это после занятий, и все предполагают, что Емельян бегал упрашивать преподавателя не жаловаться на него парторгу Волошину. Парторга Емельян боится больше огня. И не то, чтобы тот был слишком сердитым, нет, дело в другом. Волошин неделю тому назад заступился за Емельяна перед директором леспромхоза, который хотел перевести Емельяна из учеников в обрубщики сучьев. Емельян тогда здорово проштрафился. Он без разрешения тракториста сел в кабину и давай ездить по карчам. Чуть погрузочный щит не поломал. Вот Волошин и заступился за Емельяна. Он сказал директору, что ручается за Емельяна, а Емельян обещал больше не безобразничать.
Потом Ефим сообщил, что ему здорово понравилось, как Пыж вчера срезал преподавателя. Так ему и надо, пусть знает, какие люди живут в сорок четвертой комнате общежития! Подумаешь, зазнался со своим Джоулем-Ленцем!
Болтая с Ефимом, Пыж и не заметил, как машина пришла в лесосеку. На эстакаде было тихо. Только что кончилась ночная смена. Тракторы стояли в ряд, легкий парок клубился над ними; казалось, тяжелые машины отдыхают. Изредка из бункера какого-нибудь трактора вырывался тоненький язычок огня: догорал газ. Только слева на передвижной электростанции раздавался визгливый звук напильника. Там точили цепи для электропил.
Неизвестно откуда появился мастер Павел Иванович. В руке он держал знакомый Пыжу блокнот.
– Выгружайся! – закричал Павел Иванович.
Кричал он зря: все и без команды попрыгали на землю. Пыж сошел последним. Он подавал Дутову корзины.
– Ты, однако, сегодня не завтракал? – подозрительно спросил Дутов, а когда Пыж сознался, что да, не ел, распорядился: – Я машину проверю. Иди завтракай!
Пыж зашел в передвижную столовую и попросил гречневой каши. Буфетчица удивилась:
– Это что за мода? В поселке надо завтракать, молодой человек! Мы, молодой человек, завтраками не кормим.
Из маленькой, отгороженной фанерой кухни появилась белобрысая официантка и что-то зашептала на ухо буфетчице. Та слушала ее, строго поглядывая на Пыжа.
Наконец буфетчица сказала:
– Гречневой каши нет, молодой человек!
Пыж понял, что с буфетчицей шутить нельзя: такая это строгая и неприступная женщина. Он надвинул фуражку на лоб и пошел к двери.
– Постойте, молодой человек! – вдруг заволновалась буфетчица. – Вам же сказано, что гречневой каши нет! Придется минут пять подождать, пока каша будет готова.
Через десять минут Пыж вышел из столовой, ощущая тяжесть в желудке. Ему наложили огромную порцию каши, но Пыж не ударил в грязь лицом: на тарелке осталось ровно столько, сколько полагается для приличия. Теперь можно было смело приступать к работе. Пыж так и сделал. Он подошел к складу чурочки и быстро наполнил все четыре корзины. В ожидании Дутова он присел на бревно. Солнце висело высоко над лесом. Кроны сосен из темно-зеленых стали бирюзовыми. На иглах еще вздрагивали разноцветные капельки росы. Где-то далеко в лесу тонко посвистывала пичужка. Но вот робко, словно пробуя силу, фыркнул тракторный мотор, на секунду затих, а затем уверенно, торжествующе зарокотал, оглашая лес бодрым, веселым голосом. И лес ответил ему задорным эхом. А когда эхо, перекликаясь, затихло, заработали моторы сразу всех тракторов. Перебивая друг друга, они спешили увериться в собственной силе и здоровье.
Вспыхнул и заклубился над выхлопными трубами передвижных электростанций голубоватый дымок. Змеевидные кабели ожили, с шуршанием поползли по земле, чтобы впиться черным раструбом контакта в электрические пилы. Щелкнули выключатели. Крошечные моторы пил запели звонко, досадливыми осиными голосами.
Дутов первым подъехал к заправочному пункту.
– Начинай, парень! – радостно крикнул он.
Пыж подал Дутову одну за другой четыре корзины чурочки. Никогда еще трактор так быстро не заправлялся. Это привело тракториста в восторг.
– Н-н-о-о, Иван Иванович! – Дутов покрутил головой. – Парень ты башковитый! Ведь чего проще этого, а никто не додумался!
Он уехал в лесосеку, а Пыж быстро набрал в корзины еще одну заправку и пошел к трактору. Дутов посадил Пыжа в кабину и, пока чокеровщики зацепляли хлысты, рассказывал ему о хитроумном устройстве тракторной лебедки, которая оказалась сильнее самой машины. Если трактор не может взять с места воз хлыстов, то лебедкой их сдвинешь, как пушинку. Однако пусть Пыж не думает, что в лебедке сила берется невесть откуда. Очень хитрое это дело – хорошо отрегулировать лебедку. Правда, Пыжу повезло: Дутов научит его так регулировать лебедку, что другие трактористы завидовать будут.
Первый воз хлыстов они привезли на эстакаду, когда работа была в разгаре. Мастер Павел Иванович был тут же. Он велел Пыжу немедленно вылазить из машины и следовать за ним. Они остановились у заправочного пункта. Здесь стоял трелевочный трактор, на котором работал Емельян. Тракторист, степенный, очень высокого роста латыш, что-то горячо объяснял своему ученику. Емельян упрямо качал головой. Но тракторист настаивал, жестикулировал и даже погрозил пальцем, поднеся его под самый нос Емельяна. Затем он увидел мастера Павла Ивановича.
– Ага! – обрадовался тракторист. – Вот и Павел Иванович пришел! Павел Иванович, послушайте-ка!
Емельян схватил тракториста за рукав.
– Ладно, ладно! – торопливо сказал он.
Павел Иванович подозрительно посмотрел на Емельяна. В руках мастера появился знакомый блокнот. Он помахал им в воздухе.
– Нам все известно! И все-таки опять фокусы!
– Да я же согласен, – угрюмо ответил Емельян.
Павел Иванович вынул старинные массивные часы, щелкнул крышкой, обернулся к Пыжу и недовольно сказал:
– Порядок подачи рационализаторских предложений строго определен в положении. То, что внесли вы, товарищ Пыж, – это, конечно, не рационализаторское предложение, но сие не значит, что мастер должен узнавать о нем через третьи руки. Так-то! Применение нескольких корзин для загрузки бункеров чурочкой, при всей простоте и даже наивности идеи, дает определенный экономический эффект. Что это значит? А то, что я должен провести хронометраж. Порядок установим такой. Оперируя только одной корзиной, ученик товарищ Кузьменко загрузит бункер трелевочного трактора номер семь. Затем товарищ Пыж, применяя четыре корзины, загружает бункер трактора номер два. Приступаем!
Обступившие заправочный пункт рабочие сдержанно улыбались, а Дутов – тот открыто смеялся, хитро посматривая на Емельяна.
– Приступаем! – грозно повторил мастер.
Тогда Пыж решительно вышел вперед и, чувствуя, как горло перехватило волнение, заговорил:
– Я не понимаю… ну, что такого… Подумаешь, четыре корзины! А Емельян, он при чем? Не надо никаких хронометражей… Вот, честное слово, не надо! – Пыж покраснел, его тонкий голос дрожал.
Мастер Павел Иванович снял цветные веревочки с ушей, сунул очки в карман и, близоруко щурясь, смотрел на Пыжа. Без очков лицо мастера казалось незнакомым: оно было моложе и добрее.
– Мы принимаем ваше предложение, – сказал он.
В. Лихоносов
ДОМОХОЗЯЙКИ
Весна в Сибири капризная. В начале мая после хороших дней зачастили дожди. С утра побрызгивало, иногда подсыхало, а ночью раскалывался над крышами гром, тяжело шумело и плескалось под окнами. Ставни отяжелели, и Варя уж позабыла, когда и раскрывала их с улицы.
– Теперь зарядили на месяц, – ворчала она на дожди, счищая с ног грязь о порожек. – Чтоб вы прокисли, конца и краю нет. Пропадает все в огороде.
Она поскоблила галоши щепочкой, поставила ведро на то место, где капало, и скрылась в избе.
– Ва-аря!
Варя сунулась в окно, увидела проследившую по двору Мотьку Толстую, вышла ей навстречу.
– Я за нее.
– Принимай!
Мотька Толстая, меся грязь, топталась у крыльца.
– Дожди-то киснут, прям как прорвало.
– Не говори. По радио передавали – без осадков, а оно вон что.
– У них сроду ж так! На бобы разложат и гадают.
Она стянула кирзовые сапоги, тряхнула плащом и вошла следом за Варей.
– Ты бы не скидала, у меня все равно грязно, – сказала та.
В комнате же было прибрано, помыто, хотя и видно, что хозяйка еще не кончила стирку.
– Смотри-ка, чо творится! – не унималась Мотька Толстая. – Через дорогу перебежала – и насквозь.
– Дак оно льет-то.
Варя выхватила из духовки сковородку с картошкой, полила маслом капусту и села за стол. Сунув ноги в Варины шлепанцы, Мотька Толстая сложила руки под грудью, молчала, но Варя чувствовала, что принесло ее неспроста, не терпится ей что-то рассказать.
– Садись со мной.
– Нет, спасибо, я только что ела. Ждала-ждала своего Васю, села сама, умолола полчугунка. Меню ему составила: «Все не ешь, жди меня». Хе-хе. Ты чо, стирать надумала, чо ли?
– Только растеяла, думала, состирну немножко. Намочила, ждала ж, что перестанет.
– Не-ет, еще на ночку оставит, тучки-то какие… Охо-хо-о, с дождями и жизнью такой.
Мотька глубоко вздохнула и полезла в карман фартука за флакончиком с нюхательным табаком.
– Чо вздыхаешь? Приболела?
– Да нет, тянусь пока. Сердце пошатывает. Вчера у Зайчихи свадьбу гуляли. Поверишь, едва-едва шесть стаканов выпила.
Варя засмеялась: ох и Мотька!
– Не могу, и все! Не как раньше.
Мотька Толстая хихикнула, сама удивляясь своей слабости, втянула носом табак и содрогнулась от его крепости.
– Меня тоже звали, – сказала Варя. – Я не пошла. Как раз обезденежела, без подарка идти неудобно. К вечеру раздобыла, да магазины уже закрылись, я и не пошла.
– Ты у меня учись! Я с гитарой пришла. Васю вперед послала, а сама после. Жених, говорю, я тебе гитару кладу! Будет тебе и на чем поиграть, и чем жену стукнуть при случае. Пошутила, побренчала и обратно унесла: гитара-то не моя. Я их так заговорила, что они про все забыли. Дай им бог еще такую Мотьку, они б пропали там без меня. Охо-хо-о, а голова болит.
– Может, моего попробуешь? Легче станет. У меня стоит с праздника.
Мотька повернулась к окну, обвела взглядом улицу, кого-то высмотрела там и успела обсудить и, подумав, что еще не скоро прийти ее Васе, согласилась:
– А то давай!
Женщина она была развеселая, по улице все для нее – кум да кума. Детей у них с Васей не было, воспитали они девочку умершей сестры, недавно выдали замуж в другой город и опять жили вдвоем.
Варя с первых же дней войны осталась без мужа, да так и до сих пор. Многие к ней сватались, но никого не приняла, жила помаленьку, до самой пенсии работала в школе уборщицей. Годы убавили, но не стерли ее красоты, а мягкость, добросердечность и открытость ко всем стали особенно заметны в ней. Мотька Толстая считалась ее задушевной подружкой, хотя иногда, даже не ссорясь, они переставали ходить друг к другу. По своей слабохарактерности Варя делилась с ней всеми переживаниями, а Мотька была вольная на язычок, женщина с хитрецой и между людей, то ли по зависти, то ли так, болтала лишнее. Правда, у Вари скоро отходило на сердце, и она всегда уступала первой.
Варя налила ей стаканчик, сама отказалась. Мотька издалека сводила разговор к своему.
– Вот ож стояли давче на углу, – добралась она, наконец, до самого больного. – Устенька была, Мотька Черненькая и я. Что-то завелись о свадьбе. А Мотька Черненькая возьми и брякни: «Ты, кума Мотька, говорят, на свадьбе все вино вытаскала». А я и говорю: «Хватит болтать-то. Я таскала или нет, а вот Терентий твой, кума, сроду из соседей не вылазит, в чужой стакан заглядывает, все не нахлещется». – «Как твой Вася». – «Мой, говорю, Вася по чужим дворам рюмки не сшибает. Это твой, как пронюхает, где бражка, так и туда. Сам лишний раз не позовет к себе. Распознал, что у Вари завелось немножко, так он что ни вечер, то прется: то щипцы ему дай, то мясорубку, все выгадывает – может, поднесут! И подносили! А раз не поднесли – уж и Варя не та. Нет, говорю, так нельзя, кума, не по-соседски это. Тебе ли, говорю, в сплетни встревать, чужих обсуждать? На своих посмотри. А-а-а, говорю, какая ты красивая! Сама у сына в работницах, воспитывала, кормила, поила, а пришлось приболеть, неделю внучку не понянчила, и твой же сын, родное дите, высчитал с тебя пятнадцать рублей; из того, что обещал на подарок. Страм какой! Мотька Толстая тебе плохая стала. Пока ухаживала – хорошая была, а не угодила – и глазу не кажешь».
– Хватит бы вам уже ругаться, – посоветовала Варя. – Надо как-то мирить. Слово-полслова, и вы пошли – и уже цапаться! Ай, я так не могу.
За окном кто-то хлопает мокрой калиткой, и по потолку пробегают две тени.
– Спрячь, кума, стаканы, – говорит Мотька Толстая. Она ставит их на подоконник, прикрывает занавеской.
– Обедаете? – спрашивает любопытная Устенька. – Здравствуйте!
За ней прикрывает дверь Мотька Черненькая, плотная, не в пример Устеньке, женщина с разросшимися мужскими черными бровями, породистым носом и маленькими глазками. Заметив Мотьку Толстую, чувствует неловкость, не надумает, как повести себя. Устенька и Мотька Черненькая подруги, и Мотька Толстая не рада, что они вместе: ей так и кажется, что они только что судачили о ней, и она уже готова наговорить им что попало.
– Ты подумай-ка! – заговаривает суетливая Устенька для начала, оставив подружку у порога, проходит вперед, мостится на стуле. – Дожди и дожди, поть они. Ой, грязи я тебе понанесла!
– Ладно уж, – говорит за Варю Мотька Толстая, не поднимая глаз. – Молодая, вымоет.
– Да хоть и так. Пенсионерка, делать-то нечего.
– Проходи, Моть, – приглашает Варя Мотьку Черненькую, – чо стала, ровно ругаться пришла.
– Да мы пойдем сейчас.
– У них там профсоюзное собрание на дому! – поддевает Мотька Толстая.
Замолчали. Мотька Толстая достала флакончик с табаком. Устенька хватилась рассматривать Варину обстановку, будто и не бывала у нее никогда.
– Ты чем сегодня занимаешься? – спросила ее Варя.
– Ничем. Так день прошел впустую. Встала, как раз ко мне из Ересной свои пришли. Поговорили, туда-сюда – время уже двенадцать. А тут и почту принесли. – Устенька вытащила платочек, прослезилась.
– Чо такое?
– Ой, не говори! – отчаянно махнула Устенька. – Сын у меня женился! Сдурела наша улица, один за другим. Не писал, не писал, а тут на тебе вот! «Мама, поздравь меня». Хоть бы спросил: мама, так и так, прошу благословения. Я бы, конечно, не отказала, пусть только хорошую выбирает, ему жить – не мне. Дорого то, что матери с отцом поклонился бы, ведь это из веку так идет. Посидела, поплакала, кума Мотька вот зашла. Пойдем, говорю, к Варе.
– Радуйся, а ты плачешь, – подбодрила Варя.
– Передай ему, – сказала Мотька Толстая, – что я больше всех его свадьбы ожидала. Хотела, скажи, гитару подарить.
– Да уж приедут – соберу компанию. Лишь бы жили. Нонче ж молодые, знаешь, как живут. Загорится – не подумал, что она за человек, можно ли, нет с ней, вбухался и расписался. А через неделю кто куда. Я уж и сама думала: как выберет себе, так все денежки ухокаем на свадьбу, всех созовем. А оно вон как. У Зайчихи, видишь, как хорошо.
– Жених-то ничего? – спросила Варя. – Я и не видела. Они проходили как-то, я в окошко глянула в спину.
– Какая невеста, такой и жених, – сказала Мотька Толстая.
– Мне тоже не поглянулся, – согласилась Устенька. – Сидит, как немой ровно. Мой бы Витька…
– Твой бы и подраться успел, – сказала Мотька Толстая.
– Ты уж сиди, кума, не подковыривай!
– Да, детки, детки, – перебила их Варя, – ро́стишь, ро́стишь их, а они поднялись на ноги и улетели из твоего гнездышка.
– Бежит время.
– Моему уж до пенсии два года осталось. Кума, твой с какого года? – спросила Устенька Мотьку Толстую.
– С восьмого.
– Тоже немного.
– Хватит еще.
– Кто ж меня, Устенька, будить тогда возьмется? – сказала Варя. – То, смотришь, еще радио не говорит, а твой уже кричит под ставнями: «Варя, вставай, проспишь!»
– Все равно! Все равно и на пенсии не будет лежать. Да, а сегодня он у меня задержался. Станки новые пришли, работы много. Подумать только: весь завод на одни кнопки перейдет. Я спрашиваю: а чо ж людям тогда делать? В карты гулять? Найдут, говорит.
– Он у тебя как жук, – сказала Варя, – все-е копается. Встанешь зимой, смотришь: всем дорожки пооткидывает.
– Он у меня такой, – радуется Устенька. – Ом у меня и смолоду такой. И на фронте был, так, говорит, как передышка, не знаю, куда руки девать: хочется повертеть что-нибудь. Так он кисеты бойцам вязал! Он у меня такой.
– Да-а, – сказала все время молчавшая Мотька Черненькая, – а сегодня ведь Девятое мая. По радио передали: в Москве салют будет.
– Смотри-ка, как время прошло, – удивилась Устенька. – Скоро двадцать лет, а кажется, недавно война была.
– Недавно! – сказала Мотька Толстая. – Сталин уж десять лет как помер.
– Он в каком месяце помер? – спросила Варя.
– В марте, – ответила Мотька Толстая. – Пятого. Я почему хорошо помню: они с моей сестрой в один день. Хоронили – раскисло все…
Варя вздохнула.
– А я вот так сижу частенько, – сказала она, – и думаю: а чо, если мой Димитрий живой? Прислали тогда похоронную: «Пропал без вести». Мало ли их тогда присылали, было там время искать кого, когда что ни день, то слышишь по радио: «Вчера после долгих боев оставили…» И на другой день оставили… Кто-то же рассказывал, что вертаются наши помаленьку оттуда. Думаю, а может, и мой там? Попал в плен да так и застрял. Еще чего доброго женился на нерусской.
– Да нет, он бы сказался.
– Да нет, конечно, это уж я так. Как я его знаю, так мне кажется – он такой, что не стерпел бы. Где бы ни был, а обязательно послал бы весточку. Писал тогда: «Варя, проходил я через нашу деревню, где мы с тобой гуляли в молодости, всю спалили немцы, один тополь у нашего дома. Вот, дай бог, победим, свожу тебя на родину, давно ты там не была». Свозил.
– А кто и остался, – заметила Мотька Толстая.
– Ну, это уж не дай бог. Променять, как говорится, свою родину на чужую сторону. Это уж надо без сердца родиться. Как вон в песне раньше пели: «Мне родину, мне милую…»
– Мне рассказывала, – оживилась Устенька, шумно потягивая носом. – Все звать забываю, поть она… Соня ли, Тоня ли, поть она. Да еще… тьфу память, вокруг рота мотается – не могу вспомнить!
– Кто?
– Да хохлушка, возле базара живет, у нее еще сын на целине.
– Мару-у-уся!
– Во-во, Маруся! Насилу вспомнила, поть она… Так она рассказывала: мужик-то у нее нашелся!
– Да ну?
– Надо же…
– На Севере отбывал, – продолжала Устенька.
– По-одумай ты…
– Тоже, говорила, сколь пережила, а оказалось, что он и невиноватый. А сердце, говорит, все равно чуяло. Все, говорит, думала: не мог он погибнуть!
– Ну, а как же!
– Чо ж ты хочешь.
– Родные ведь…
– Вот и я, нет-нет да и разгадаюсь, – сказала Варя, – а может, и с моим так?
– Да! – не кончила своего Устенька. – Сердце, говорит, чуяло! И с тех пор, говорит, никаким цыганкам не верю!
– А то цыганки не врут! – сказала Мотька Толстая. – Я тебе ворожу, я ж все подряд брешу!
– Ты… Какая ты цыганка?
– Чо! Только что кожа не грязная.
– Ой, кума! Начала уже! – остановила ее Мотька Черненькая.
– А ты, кума, сиди, не фыркай! Я на тебя крепко обиделась.
– За что? – краснея спросила Мотька Черненькая. – Я уж и забыла.
– Забыла она.
– Ты ведь тоже хороша: лишнего не перемолчала.
– Мне простительно: я часто на свадьбах гуляю.
Все засмеялись.
– Магарыч с тебя, – сказала Мотька Толстая. – Без магарыча не мир.
– Я уж вам налью, – поспешила Варя, радуясь, что они заговорили. – Я купила на праздник, думаю, зайдет кто, выпьем за Димитрия. Давайте присаживайтесь, сегодня День Победы. Пусть им будет хорошо там, им не пришлось порадоваться, так нам хоть не ругаться. Лежит там и не знает, что о нем тут разговаривают, каждый год поминают.
Варя заплакала, а за ней и все заплакали. На минуту их как-то очень сблизило, и все они подумали о своем горе, о прожитой жизни.
– Ну, давайте, – сказала Устенька. – Пусть уж дети наши не знают этого. Не дай бог. Давайте по всей.
– Ладно, Варя, – сказала Мотька Черненькая, вытирая слезы, – теперь уж не выплачешь. Брось плакать. Видно, нам с тобой суждено было.
– Да-й, обидно: у них с Устенькой мужики, а мы с тобой… Я так и перебивалась одна, у тебя хоть и второй, хоть и привыкла сама, да детям не нужен. А с другой стороны, какой-никакой он у тебя, а все же мужик, одна семья. Ты его не ругай зря, он еще ничего мужик.
Варя бы говорила еще долго, но ее прервала Устенька, выследившая кого-то в окне.
– Вон, вон пошли молодые! Из бани, чо ли…
– А ну-ка, ну-ка!
– Да не засти мне.
– Костюм на нем какой модный!
– Как у моего Васи.
– Твой Вася в довоенном ходит.
– И она…
– К его матери, видно, ходили.
– Кума Мотька! – вскрикнула Устенька. – Глянь, а это не твой там тащится?
– Где?
Мотька Черненькая, прилипая лбом к стеклу, с интересом стала искать по улице своего.
– Ах ты, распрости-и его… – заругалась она. – Опять, паразит, на рогах ползет! Еще не напился он, собака. Ну я ему сейчас дам! И на порог не пущу!
– Варь, – подтолкнула Устенька, – тяни его сюда, слышь? Выбеги.
Варя, сунув нога в галоши, вышла и закричала с крыльца.
– И куда только льют они эту заразу? – рассуждала Устенька. – И содют и содют, как в бочку! Ей-богу.
– И не отучить их, дьяволов, – добавила Мотька Черненькая. – Как напьется, прям лихотит, лихотит его. Ну, говорит, старушка, последний раз пил! Завтра – все! Кого там завтра! Проспится, а утром бродит, ровно чо потерял. «Старушка, что-то горит внутри, дай на чекушку». Ах ты, наказание еще! – Опять посмотрела она в окошко. – Хоть расходись.
Сошлась она с ним после войны, когда уже окончательно убедилась, что муж ее не вернется. Прошли для нее все составы, отворожили цыганки, и больше надеяться было не на что. От первого мужа осталось у нее двое мальчишек и девочка. Новый пришел к ней без ничего: штаны да рубаха. Долго колебалась Мотька, советовалась с соседями, думала, как еще и дети к этому отнесутся. Первый раз он допоздна сидел у нее и молчал. Дети сумрачно столпились у печки, что-то подозревая.
– Ты куда снаряжаешься? – спрашивал в тот вечер муж свою Устеньку.
– Побегу ж, гляну на Мотиного жениха.
Нашла ей жениха Мотька Толстая. Он был щупленький, стеснительный и неразговорчивый. И Мотька Черненькая тоже не умела поговорить как следует, а в этот вечер и не рада была, что он пришел и сидит при детях. Выручила находчивая сватья Мотька Толстая. Посидели, поперебирали из пустого в порожнее, потом извинились, что не вовремя помешали. Мотька Толстая намекающе пошутила с порога и ушла с Устенькой. А они опять молчали.
Ребята легли спать, жених засобирался домой, оделся и уже на крыльце предложил сходиться (в темноте ему было легче сказать это).
– Дай мне обдумать, – сказала она. – Сходиться не на один день. А я не одна, у меня их еще трое. Я передам тогда через куму.
Через неделю он еще раз пришел, в кармане была поллитровка.
– Ребятишки мои не хочут, – сказала она на том же крыльце. – Не надо чужого отца – и все!
Пришлось вмешиваться Мотьке Толстой.
– Ох, сынки мои, – уговаривала она ребят. – Это попервам только, а поживете – привыкнете: такой еще папка будет! Мать у вас такая молодая, красивая, чо ей теперь: сложить руки и помирать? Хороший был ваш папка, но что ж поделаешь, раз война проклятая. Не у вас одних. И у других есть чужие отцы – живут же. Вас обуть, одеть надо, выучить! А вы вон сядете за стол, галдите: «Мамк, я картошку без масла не буду есть!» А где она вам, прости господи, возьмет?
Мать стояла у печи и плакала.
– Чо они там понимают! Думают, все с неба им валится. А ты, мать, крутись одна. Встанешь – и то надо, и это надо, и на работу надо – везде одни руки.
– Вам отец нужен, а ей хозяин, – наталкивала их Мотька Толстая. – Вы подождите вот, вырастете, да своих щенят настряпаете, туго придется, – тогда узнаете, откуда оно все берется.
– Не хочут, не надо! Только пусть потом не жалуются, что не так воспитала.
Старший сын неделю молчал, а после, выбрав минуту, насмелился и сказал матери:
– Ну ты, мам, выходи, раз так. Только, как хочешь, а отцом мы его звать не будем.
И они сошлись. Постепенно новый отец привык к тому, что дети никак не называли его, но в компаниях постоянно жаловался: ему все-таки было обидно.
– О-о! – Поднял он руку, увидев в комнате Мотьку Толстую, которая обычно заступалась за него, если нападала жена. – Здорово, сестриська!
– Здорово, братка! А я, братка, тебя жду.
– Се так? – пьяный, он не все выговаривал.
– Горит все внутри.
– А се с ты не сказала, я б купил.
– Сам должен знать, – разыгрывала его она.
По пьянке Терентьич любил прихвастнуть и наобещать, а трезвый – забыть.
– Где тебя черти носили? – строго спросила жена.
– У друга борова колол, – соврал Терентьич.
– И оставался бы там! Жрать захотелось, небось, не покормили?
– Что ты, кума, на него напала? – защитила его Мотька Толстая. – Ну, выпил, подумаешь…
– Да ну его!
– А се ты, мать, раскипятилась? – кривил губы Терентьич.
– Се-се! – передразнила жена. – Ты у меня скоро насекаешься. Нажрался, и-и-и, не стыдно?
Была она строгая лишь на вид, кричала впустую. Терентьич за многие годы хорошо изучил ее отходчивый характер.
Он посмотрел на Варю, тайком мигнул ей: нет ли там по стаканчику?
– Мне не жалко, спрашивай у жены.
– Не давай, ну его к черту!
– А ты молси!
– Пошли домой.
– А кого мы там не видели? Я там не нужен.
– На-ачал уже, начал. Не нужен он.
– Сестриська! – обратился он к Мотьке Толстой. – Давай запоем.
– Давай, братка. Какую мы, братка, запоем?
– А вот эту.
Ка-ак на ре-еськ-е ма-ае-ей
Все гаре-ел ага-ане-ек.
Расцвета-али-и кудря-явы-ые-е…
– О, высоко, братка, взял.
– Подстраивайся, подстраивайся.
Ка-ак на ре-есь…
– Сестриська! – крикнул он плача.
– Чо, братка? Не дают, да? Выпить не дают? Ах, они, царя мать! Счас, братка, моей попробуем, у меня своего завода есть.
– И-ы-ых! – заскрипел Терентьич зубами. – Ребята меня не признают. Не почитают за отца. За кого ж я тут живу?
– А ты не обращай внимания. Они уже большие, у них своя семья на руках, зачем они тебе? Ум будет – чо-нибудь поймут, а нет ума – своего не вставишь. Воспитал, выкормил, живи теперь по-стариковски со своей Мотей. Чо, плохо разве она к тебе относится?
– Мотя – нисе не говорю. Моть, ты не ушла еще?
– Жду ж.
– Как я, сестриська, любил! Как я…
– Иди, иди, – уцепила его жена. – Пошел теперь жаловаться. Все уже давно знают, сколько можно?
– Пусть поплачет, – моргнула Мотька Толстая. – Скачи, братка, это не я плачу, это вино плачет. А, братка, слышишь?
– Домой, домой!
– Мотя! Ты не лезь… не лезь… Сестриська, и я ее люблю. Хочешь, поцелую!
– Ой, беда с тобой, братка! Ее-то, я знаю, что поцелуешь. Ты меня поцелуй.
– Я к ней – не поверишь! – в одних кальсонах перешел. Скажи, Моть? Так ведь? Ну! А сейчас у нас? Все есть! Обуты, одеты. Я своих детей не знаю, я на фронт мобилизовался, они еще ма-аленькие были, один еще и не ходил даже. Так в оккупации и пропали.
– Ты уж рассказывал, братка.
– Да не мешай ему, – сказала Варя, – пусть человек выскажет, раз у него наболело. У каждого свое.
– Подожди, сестриська, Варя правильно говорит. Ка-ак я… эх… Жену убило, а детей развезли. Я и розыски посылал – нет.
– Ясно, братка, ясно…
– А ее, ее ребята… а! Я неродный, я знаю, но дорого то, что они отцом назовут. Оно знаешь, как на сердце… когда своих нет.