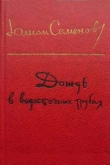Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск I"
Автор книги: Василий Шукшин
Соавторы: Валентин Распутин,Виктор Астафьев,Анатолий Приставкин,Виль Липатов,Мария Халфина,Аскольд Якубовский,Юрий Магалиф,Давид Константиновский,Юрий Куранов,Андрей Скалон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Вадим Макшеев
ПОСЛЕДНИЙ ПАРЕНЬ
Ванюшка был рождения тысяча девятьсот двадцать третьего года и, вероятно, его призвали бы в армию еще в сорок втором, если бы с малолетства не был он хром на обе ноги. Его вместе со всеми вызвали в военкомат на комиссию, но едва военком взглянул на Ванюшкины косолапые ноги, как сразу распорядился выдать ему справку о снятии с воинского учета. И в дни, когда ребят провожали в армию, и потом, когда при нем читали солдатские письма, Ванюшка чувствовал себя будто виноватым в том, что его не взяли на фронт.
Пока дома были мужики, особенных дел для него в колхозе не было. Ходить за плугом он негож, коров пасти тоже. А потому стал он сапожничать. В избе, где жил Ванюшка вдвоем с матерью, теперь всегда кисло пахло кожей, которая мокла в шайке под деревянной кроватью. Из этой кожи он шил новые чирки и исправно латал старые. Сапог ему шить не носили – для такого дела были сапожники получше. Когда же не стало сапожников, не из чего стало и кроить сапоги.
Всего заветного было у Ванюшки – балалайка, расшитая сатиновая рубаха да картина, которую привез в тридцать седьмом Ванюшкин отец, ходивший тогда с обозом за болото в город Тару. Была это не обычная картина – на холсте или бумаге, – а прямоугольный лист жести с нарисованным эмалевыми красками богатырем. Ванюшка уверял, что это Александр Невский, учитель Константин Васильевич считал, что нарисован Алеша Попович, а Мария Ивановна – Ванюшкина мать – величала богатыря Егорием Победоносцем. Картина стояла на видном месте в углу на угольнике, и оба – мать и сын – дорожили ею, потому что это была память о Ванюшкином отце. Помимо куска ситца над кроватью, именовавшегося ковром, эта картина скрашивала голые стены.
Когда полдеревни ушло в армию, Ванюшке пришлось освоить еще одну профессию – кузнеца. В фартуке из мешковины, в стоптанных внутрь чирках косолапил он от горна к наковальне, ловко управляясь с кузнечными щипцами и молотом. В серых глазах играли отблески раскаленных углей, из-под молота звездочками рассыпались потрескивающие искры, и, несмотря на трудное время, Ванюшка обычно не вешал носа.
– Сказать по правде, эту чашку не жалко и забросить, но мы ее еще подлатаем, – говорил он тетке Дарье либо бабке Авдотье, принесшим починить вконец прохудившуюся посудину. – Вот здесь я запаяю, тут тряпицей заткнешь, – дыра больно большая, – и будешь щи хлебать за милую душу. А кончится война, привезут в сельпо миски, купишь себе новую, луженую.
– Жив твой Михаил, тетка Варвара, – успокаивал он старуху соседку, третий месяц не получавшую весточки от сына. – Ихнее солдатское дело такое – сегодня здесь, завтра там – писать некогда. А может, и написал, да на почте затерялось. Сейчас ведь у почты мильон дорог… Раз похоронной нет, значит, живой. Война кончится – вернется. Я к вам чай пить приду, а ты мне стаканчик бражки поднесешь. Правду, мол, ты мне тогда сказывал, Ванюша.
– Поднесу, поднесу, Иван Николаевич, только бы вернулся Мишенька, – отвечала бабка. И в потухших глазах ее загорался лучик надежды.
С девками он тоже умел разговаривать. Чернобровый, с густыми, чуть курчавыми волосами, был бы он совсем парень хоть куда, если б не ноги. И девки в общем-то были к нему благосклонны.
Поскольку Ванюшкина ровня была на фронте, а был он очень общительным, то сдружился с нами – парнишками, чьи годы еще не подошли для армии. Было нас, таких гавриков, семеро, и все мы уже работали за мужиков; пахали, косили, на двух, а то и на трех конях ездили по сено.
Я в ту пору работал в конторе. Сейчас бы меня называли бухгалтером, и даже главным, но тогда я был просто счетовод колхоза. И старшим, и младшим, потому что был один. В особо важных случаях, например, по субботам, когда составляли ведомость на выдачу муки по трудодням, мне помогала шестнадцатилетняя Тонька, уборщица, посыльная и письмоносец одновременно. Зато если в конторе не было дел, я шел копнить сено, скирдовать хлеб, метать на гумно солому.
Частенько ко мне в контору приходил из кузницы Ванюшка и, присев на вышарканную скамейку, заводил речь о вещах, довольно далеких от колхоза. Почему давно не было солнечного затмения? Будет ли здесь когда-нибудь железная дорога, и правда ли, что Васюганье – это бывшее морское дно? И, конечно, самое главное: когда наши победят?
Днем в контору почти никто не заглядывал. Но по вечерам собиралось много народу. Заходили посидеть женщины – дома было тоскливо и голодно, приходили подымить «козьими ножками» старики, в дальнем углу за печкой шушукались девки.
Наговорившись, пожилые расходились по домам, и оставалась молодежь – мы, парнишки да девчонки. Ванюшка подсаживался ближе к свету и начинал тренькать на балалайке, а мы танцевали под эту музыку. Репертуар был один и тот же: подгорная, краковяк, коробочка, метелица и вальс. Из-за шарканья чирков не было слышно балалайки, но нам это не мешало. Потом провожали девчонок по домам и целовались около калиток.
Посиделки устраивались летом. Сразу после Октябрьской девки и ребята уезжали на лесозаготовки и жили там до последнего санного пути. На всю зиму из молодых оставались мы с Ванюшкой. Он еще чаще наведывался ко мне, и мы неторопливо беседовали о чем-нибудь или просто молчали, и нам было хорошо вот так сидеть и молчать. Иногда я заходил к нему в кузницу, подсоблял чем-нибудь, между делом снова рассуждая о том, скоро ли наши победят и когда будет вольный хлеб?
Весной троим ребятам пришли повестки. Еще крепче сблизился с нами, четырьмя оставшимися, Ванюшка. Видно, подле нас он чувствовал себя менее обойденным. Ведь еще не все в армии, не все воюют…
Но настал и наш черед. Это было в октябре, когда в колхозе уже отстрадовались и выкопали картошку. Стояли чудесные дни, сухие, теплые, безветренные. Золотая листва плотно застилала землю, на опустевшие жнивья вылетали по утрам косачи, в высоком небе призывно курлыкали улетающие на юг журавли. Казалось, везде на земле воцарились мир и покой…
В этот день мы с Пашкой Филипповым возили капусту. Запыхавшаяся Тонька, прибежавшая прямо в поле, подала нам повестки.
– Двоим? – спросил Пашка.
– Митьке с Шуркой тоже.
Повестки были краткими. К такому-то числу, к такому-то часу, с кружкой, ложкой и парой белья явиться в райвоенкомат. Ехать нужно было на следующий день.
Мы выпрягли лошадей и пошли в контору. Председатель поглядел на повестки, вздохнул и велел кладовщику Тихонычу выдать нам по три килограмма пшеничной муки и два килограмма масла на четверых.
Хозяйка, у которой я жил на квартире, замесила муку в квашне, заодно высыпала туда и свои два килограмма, которые ей дали на неделю, сложила мне наутро весь хлеб в фанерный чемодан, поцеловала в щеку, смахнула слезу и ушла на работу.
У ребят были матери, они прощались с ними дома, а у меня родителей не было. Я постоял на берегу возле лодки, в которой нам предстояло ехать. Пароходы уже с месяц не ходили, и почти двести километров до района приходилось плыть вверх по реке на гребях. Возле лодки еще никого не было, собирался накрапывать дождь, и я пошел последний раз в контору. В ней было светло и пусто. Вдруг я вспомнил, что никому не отдал ключ от шкафа, и как раз в это время зашел председатель.
– Кому отдать ключ? – спросил я его.
– Да хоть мне.
Он вздохнул, взял ключ от висячего замочка, которым закрывался конторский шкаф, и сел к столу.
– Однако Тоньке придется браться счетоводить… Как думаешь, справится?
– Научится…
– Третьего счетовода забирают… – Он еще раз вздохнул. – А может, еще не возьмут тебя… Шурку вон сколько раз в район вызывали. Комиссию пройдет – и обратно.
– Пишут – с кружкой и ложкой.
– Это, однако, всегда так пишут. Может, еще вернешься… А возьмут, может, ребят где своих увидишь, сказывай привет. Ничего, мол, мы без них тут… Справляемся… Ну, я, однако, пошел… – сказал он, подымаясь. – Счастливо тебе. Может, еще вернешься…
Он крепко пожал мне руку и ушел, не закрыв за собой дверь.
Почему-то вспомнилось, как он меня несколько раз ругал за то, что я свистел в конторе («весь колхоз просвистишь»), и мне стало грустно. Я тоже уже собрался идти, но в это время, переваливаясь с ноги на ногу, на крыльцо поднялся с мешком в руках Ванюшка.
– Уф-ф, уморился… Прямо из кузни… Думал, не успею.
Он присел у двери на лавку, где обычно сидел, и в мешке глухо стукнули какие-то жестянки. Посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка получилась жалкой и грустной.
– Уезжаешь, значит?
– Уезжаю.
– Уезжаете… Последние парнишки.
– Все девки теперь твои, – неумело попытался я его утешить.
– Да ну их… Лучше бы и я с вами.
Видно было, что он хочет еще что-нибудь сказать, но, как обычно при расставаниях, уже ничего не мог придумать. Только грустно улыбнулся.
– Вот я тебе принес, – спохватился он и, засунув руку в мешок, достал самодельный котелок. – Варить по дороге в нем будешь, а может, и дальше сгодится…
– Ванюшка! – воскликнул я. – Зачем же ты свою картину…
На дне котелка была нарисована эмалевыми красками голова богатыря и облака на лазоревом небе.
– А мне не жалко. Война кончится, другую… Я всем ребятам ее на дны вставил. На бока колхозной жести хватило, а на дны нет.
– Друг ты мой, Ванюша…
Я обнял его, и он вдруг зарыдал у меня на плече.
– Один теперь остаюсь.
Потом мы вместе пошли на берег. Подошли остальные ребята и провожающие. С покрасневшими от слез глазами Ванюшка вручил каждому по котелку и каждого по очереди обнял.
Мы оттолкнулись от берега. Заскрипели в уключинах тяжелые греби. Начинался тихий и нужный дождь. Он барабанил по нашим котелкам, ручейками, словно слезы, сбегая по их гладким бокам. На повороте мы в последний раз оглянулись. Несколько человек махали с берега платками. Чуть в стороне, скособочившись, стоял Ванюшка и тоже махал фуражкой. В холщовом фартуке, с непокрытой головой. Последний парень в нашей деревне.
Михаил Малиновский
ПАМЯТЬ
Ты скажи, земля,
Ты на чем стоишь?
Владимир Смирнов
Ночные заморозки прихватывали землю – она посветлела на опустевшем Ефимьином огороде, где в ближнем углу осталась доспевать капуста. По утрам выпадал иней, вытягивал из тугих сочных кочанов терпкую горечь.
В пятницу утром Лукьяныч, уловив во взгляде Ефимьи согласие, взялся споро точить ножи, потом распорядился:
– Дошла капуста, мать. Пора!
За ними вышли на свои огороды соседи – Ефимьина капуста издавна славилась, и односельчане следовали Ефимье во всем, даже грядки обсаживали крапивой, чтобы червь не проникал.
Ефимья, гибкая и проворная старушка, внаклонку шла по грядке, одним касанием ножа сваливала кочаны. Лукьяныч подбирал капусту в одно место. Он работал медленно, прицеливался к кочану, прежде чем взять его дрожащими руками.
Старикам не управиться бы и в два дня, потому что насажено капусты, как в былые времена, когда семья была сам-семь, но с обеда, после школы, подгадали помощники: дочка, зять и внук. У Кирилла, зятя, чутье, в какой день приходить. Он уже не отговаривает стариков, что, мол, тянуть хозяйство не по силам. Более того, вошел в пай, чтобы помощь не казалась навязчивой. Лукьяныч воспрянул духом – поставил Соню в подмогу матери рубить капусту, Кирилла – носить ее в сени, десятилетнему внуку Коле поручили собирать листья, а на себя взял общий надзор. Привычная роль в хозяйстве молодила его, даже походка стала пружинистой. Заметив, что Коля пропустил уже несколько вялых желтых листков и, вообразив кочерыжки, выдернутые с корнем, гранатами, расшвыривает их по огороду, Лукьяныч подозвал внука к себе, с наслаждением сделал внушение:
– Ты, сынок, приучайся работать отчетливо. Труд, когда он отчетливый, должен глаз радовать, создавать приятность.
Тоже, как в давние времена, когда было кого наставлять, даже внука непроизвольно сынком назвал.
Тут же он увидел, что Кирилл берет мешок с капустой низко на спину.
– Кирюша, сынок, спину надломишь! – Лукьяныч подбежал, помог вскинуть мешок на плечи. – Так-то вот оно легче, сынок, когда в упор по стержню, только ноги переставляй.
Кирилл до сумерек таскал капусту в сени, узкие и длинные, сохраняя проход в один след до двери. Управившись с рубкой, женщины перешли помогать ему. Ефимья устала, из-под платка выбились седые прядки густых волос, и она не поправляла их, зато глаза светились довольством, что так дружно одолели еще одну заботу.
И Соня притомилась. Ефимья подбадривала ее:
– Еще, доченька, чуток. Полдела – не дело…
Дабы не ронять авторитет Лукьяныча, Кирилл шепнул ему, улучив момент:
– Пап, я бутылочку прихватил. Как там насчет ужина?
Лукьяныч встрепенулся:
– Мать, ступай готовь на стол! Без тебя завершим.
В это время зазвякала щеколда на калитке – почтальонка Катерина Мальцева извещала, что принесла что-то, а заходить некогда, еще до края села, наверно, пробежать надо. С улицы донесся ее голос:
– Ефимья Ивановна! Письмо вам от Марьи!
Ефимья заспешила к почтовому ящику. Марья, младшая и уже единственная сестра – две старшие умерли, – живет в городе, здоровьем осела, исхворалась, а пишет совсем редко.
– Да грибков достань, мать! – напутствовал ее Лукьяныч. – Слышишь?
За стол сели уморенные, говорить даже не хотелось. Ефимья успела поджарить картошку на сале, выставила соленья – огурцы, помидоры, грибы. Выпили по стопке.
– По единой с устатку, – сказал Лукьяныч, но по второй налил только себе и Кириллу.
Ефимья, наскоро поев, держала письмо наготове дать кому-нибудь почитать – у самой глаза ослабели. Первым вызвался Коля.
– «Здравс-туй-те рад-ныя маи си-стри-ца И-фи-мья и зять Дими-трий», – добросовестно пробрался сквозь первые строчки Коля и сконфуженно умолк.
– Ну-ну? – поторопила его Ефимья.
– А дальше совсем непонятно, баб.
– Дай-ка, – взяла письмо Соня. – «Во первых строках, сестрица, лопнуло мое ожидание, так как долго от вас ничего не получала…»
– Так ведь огороды, – пояснила Ефимья. – Некогда ведь.
– Слушай, мам: «Напишите о своем здоровье. А мое здоровье такое, что и врачи отказались. Я уж думаю, не рак ли? Оторопь берет, как взгадаешь: я ведь и платья хорошего не успела поносить…»
Кирилл забеспокоился, видя, как пригорюнилась Ефимья. Сказать бы что-то надо, смягчить впечатление от письма, но Ефимья предварила его:
– Было ли когда, – сказала она со вздохом. – Из нужды в войну, из войны обратно в нужду… Только бы и жить начать, а здоровья уже и нету… Ну, читай, Соня, читай.
– «А еще беспокоит меня, сестрица родная и зятек, международное положение…»
– Ай как! – вскрикнул от неожиданности Лукьяныч. – Вот это Марьюшка, вся как есть тута!
Засмеялись Кирилл с Соней. Ефимья тоже улыбнулась.
– «Как там у вас слышно, будет война или нет? – продолжала читать Соня. – Ты, Ефимья, заметный человек, напиши, если знаешь… А я вот доработаю до пенсии, восемь месяцев и три недели осталось, тогда, если не случится войны, буду принимать решение и перебираться к вам. Мне на прошлой неделе директор бани выдал похвальную грамоту и говорит, назначу тебя, Марья Ивановна, старшей по смене. Я, конечно, отказываюсь: зачем мне такая обуза при моем здоровье? Ну, пока, до скорого свидания, родные!»
Ефимья отсела к окну. В руках ожили вязальные спицы, заиграли на них световые зайчики – за вязанием как-то лучше прояснялись мысли. Соня подала мужчинам чай, подсела к матери.
– Крошить в воскресенье будем или завтра начнешь?
– А? Ну да, наверно, в воскресенье.
– Я к тому, чтобы без нас не делала. Мы сами управимся.
– Опять «комбайном»?
– И всю бы «комбайном» можно, хлопот меньше.
– Оно, конечно, скорее. А из-под ножа пригляднее выходит. Я уж по старинке ножом… Коля, дай-ка ногу носок примерить.
– А кому это? – Коля выставил ногу из-за стола. – Красивые!
– Так тебе же, кому еще. Один ты у меня такой – под красивые носки.
– Баба, а как это – заметный человек? Баба Маша-то заметнее тебя, вон она какая толстая.
Ефимья взъерошила Коле волосы заскорузлой доброй рукой. Соня ответила за нее:
– Проживешь такую жизнь, как бабушка, тогда узнаешь.
Лукьяныч с легкого зачина Марьи Ивановны взялся выяснять с Кириллом международное положение на Западе и на Востоке. От горячего чая и жаркого спора у него вспотела круглая лысина.
– Не говори так, Кирилл! – горячился Лукьяныч. – К примеру взять, если в прошлом году Санька, сосед вон, через дом, по недомыслию и по лени не просушил картошку и ссыпал в погреб. Так? Она к весне вся как есть погнила. Кашу доставали. Ну, а почто я должен ругаться с ним? То-то же, и сказать тебе нечего! Ты хоть и образованный, ребятишек учишь, а понятия не нажил.
– Ну, папа, политика не картошка.
– Знаю! Не картошка… Это пример для убеждения. А государство, хочешь знать, оно что хозяйство – каждый мужик на себя примерить может. Если он, само собой, мужик с понятием…
Соня позвала Кирилла и Колю собираться домой – пора идти.
– Дак оставались бы, поночевали, – предложил Лукьяныч. – Кино посмотрим. Коля, сынок, где программка? Интересное должно быть.
– Нет, папа. В другой раз, – не согласилась Соня. – У меня тетради еще не проверены.
– А я надумала, – Ефимья отложила носок на подоконник. – Слышь, Димитрий? К Марье сбегаю завтра. А к ночи вернусь с последней электричкой. Кадки я приготовила. Ты только ножи подправишь.
– Надумала так надумала, – согласился Лукьяныч. – Тогда телевизор включать не будем, без кина обойдемся.
Рано утром Ефимья, уже собравшаяся, склонилась над спящим Лукьянычем:
– Пошла я, Димитрий.
Лукьяныч приоткрыл один глаз, хотел сказать обычное, вроде: «В добрый путь! Да не задерживайся, смотри», но взгляд Ефимьи остановил его. В больших запавших глазах проглянуло что-то очень давнее и вместе с тем незнакомое, они будто впитывали Лукьяныча. Он вскочил, натянул на плечи фуфайку, прикрыл голову шапкой, вступил босыми ногами в галоши, приговаривая:
– Я мигом, Ефимья, я мигом.
– Куда это подсобрался так? – спросила Ефимья.
Лукьяныч поддернул широкие стариковские подштанники, заметил в глазах Ефимьи лукавинку – она повернулась лицом к свету, – и морщинки проступили вокруг глаз, ласковые морщинки застыли с молодости, и сам повеселел:
– Дак по нужде, мать, куда же еще!
– Ну да… Так пошла я.
– В добрый путь! Да гляди, не задерживайся!
Лукьяныч проводил Ефимью до калитки. Она поворачивалась к нему, слабо упиралась ладонью в грудь:
– Вертайся, Димитрий, простудишься.
Лукьяныч отводил ее руку. Обоим было приятно и легко на душе.
От калитки Ефимья шустро зашагала в белесый сумрак на дальние шумы станции – прямиком через лог будет не больше двух километров. Можно и селом, оно справа огибает лог, дорога лучше, но в три раза длиннее. Когда-то село было селом, а станция станцией. И эта улица была главной в селе, а дом Лукьяныча не последним в порядке: вокруг – распушенные лиственницы, окна в резных наличниках, тесовые ворота под козырьком. Постепенно село вытянулось до станции, в истоке лога образовался новый центр с большой кирпичной школой и многоэтажными домами, и дом Лукьяныча, оседая в землю, сошел на самую окраину.
Лукьяныч смотрел вслед Ефимье – в прилегающей плюшевой жакетке, голова повязана черным кашемировым платком с кистями и красными розами по кайме, на ногах литые резиновые сапоги – смотрел и думал, что крепкая она еще старушка, и удивлялся себе, как это сообразил вдруг провожать ее за ворота. Последние пятнадцать лет, как вышел на пенсию, они, вообще-то, не разлучались. А до того Ефимья провожала Лукьяныча в короткие поездки – он работал машинистом на паровозе и одно время водил местный пассажирский поезд. По этой самой тропке и провожала. Взгляд Лукьяныча зацепился за тропку – Ефимья уже скрылась из виду, и на сизой траве остались ее следы, не отдельные отпечатки, а две полоски, будто от лыж. И тревожно стало на сердце от этих полосок. Лукьяныч заторопился домой.
Одиноко и пусто показалось в доме. Лукьяныч нехотя позавтракал, поточил ножи, взялся было чистить капусту – готовить к завтрашнему дню. Непонятная тревога не улегалась. Собрался пойти к Кириллу, но вспомнил, что с утра они все трое в школе. Квартира у них просторная, со всеми удобствами. Лукьяныч усмехнулся своим мыслям. Соня и Кирилл, когда получили квартиру, хотели и стариков взять к себе. Ефимья сразу запротестовала. А Лукьяныч согласился испробовать – пожил один дня три и сбежал. Держать уборную в квартире, по его мнению, дело вообще непристойное, а тут – рядом с кухней, где едят, через тонкую перегородку. Ефимье он признался:
– Нету больше сил терпеть эти удобства. Одна забота с утра до вечера – как нужду справить. Не хочешь, а думаешь.
– И я об том же, Димитрий, – поддержала его Ефимья. – Безделье силы не прибавит.
Кириллу сказал, что мать, мол, согласия не дает. На том и остались старики вековать в своем доме без удобств.
Тревога возросла к ночи, когда последняя электричка по времени давно пришла и стало ясно, что Ефимья сегодня не вернется. В старости привязанность как в детстве: и день прожить друг без друга тягостно. От беспокойных мыслей и дурных предчувствий спалось плохо. И Соня, придя утром, встревожилась:
– Что с тобой, папа? Заболел?
– Так, ничего… Матери что-то долго нет. Вчера обещалась с последней электричкой…
– Приедет. Без нее пока начнем.
Кирилл задержался во дворе. Он уже хотел войти в сени, как осторожно отворилась калитка и во двор вступила Катерина Мальцева. Необычное появление почтальонки и в такое время насторожило Кирилла.
– Что случилось, Катерина Петровна?
– Ой, вы тут, Кирилл Андреич! – она протянула ему телеграмму. – Беда какая, Кирилл Андреич… Вы уж сами с Лукьянычем, я не знаю – как…
Кирилл пробежал единственную строчку глазами:
«Приезжайте умерла Ефимья».
Кирилл незаметно сунул телеграмму Соне. Соня побелела лицом, телеграмма выскользнула из рук. Лукьяныч на лету подхватил ее:
– Что там, что?
Он медленно прочитал телеграмму, недоуменно посмотрел на Кирилла, на Соню, на Колю, который насторожился в предчувствии, перечитал еще раз:
– Не-ет, не может она так вот… Простудишься, говорит, Димитрий, – и умолк, вспомнив полоски вместо следов на сизой траве.
– Тут какое-то недоразумение, – заговорил Кирилл. – Я поеду сейчас и все выясню.
– Я поеду! – сказал Лукьяныч.
– Ты пойдешь к нам. Где у тебя деньги? Не успею домой забежать.
– В горнице под скатеркой, – Лукьяныч как-то сразу сник.
События дня не задели сознания Кирилла. Не воспринималась такая внезапная смерть близкого человека за реальность. Марья Ивановна, грузно бегавшая следом, что-то причитала, с кем-то ругалась из-за машины надрывно. Кириллу же никто не перечил. Он всем говорил:
– Скорей надо. Лукьяныч ждет.
Никто не спрашивал, кто он такой, Лукьяныч.
Под вечер, в завершение никчемных хлопот, Кирилл перехватил машину. Усатый пожилой шофер уже отработал свою смену и дальним рейсом на ночь глядя не прельщался. Он присел на подножку, закурил, подал Кириллу папироску и поднес горящую спичку в ладонях. Кирилл молча протянул ему десятку. Шофер посмотрел на Кирилла – серое застывшее лицо, невосприимчивые глаза – и нехотя взял деньги, долго заталкивал их во внутренний карман пиджака. Опыт подсказывал, что от таких людей отделаться невозможно.
– Ты чей там будешь?
– Кочемасов.
– Не припомню что-то. Таких вроде не было. Я ведь сам тамошний, в тридцать третьем, это, перебрался в город. Из приезжих, наверно?
Кирилл промолчал.
Подбежала Марья Ивановна, заголосила впричет, уговаривая шофера:
– Миленький, помоги, ради матери твоей помоги, душенька твоя ласковая!..
Шофер поднялся в удивлении:
– Маруся?.. Марья?!.
– Ох, господи! Да кто же ты такой? Знакомый ведь, а?
– Самопаловых помнишь?
– Матюшка? Матвей же! Вон ты где… Родненький ты мой! Ефимья-то, Фимушка наша… Одна я теперь, Матюша-а, – Марья Ивановна припала шоферу на плечо.
Матвей усадил ее на подножку, присел рядом, растерянно поглядывая на Кирилла.
– При памяти отходила… Господи, как пережить-то! Утром вчера чаю попили, прилегла отдохнуть на диван. Приехала меня проведать. Лучше б не приезжала, лучше б я еще не видела ее полгода… Вечерком, говорит, обратно надо – капусту крошить… Полежала. Что-то, говорит, Марьюшка, в середке зажгло… И зажгло, и зажгло, в жар кинуло. Я за скорой помощью… Резали ее. Зачем уж резать-то?.. К полночи померла. Смотрит так на меня, из глаз слезинки сливаются: жжет, говорит, Марьюшка, в середке, душа горит. И не верит сама, что помирает. Ничего так и не наказала… Так вот и вижу ее глаза, так и вижу…
– А чего, это, и спасти нельзя было?
– Вот я и говорю, зачем резать было, раз спасения нету? Доктора объясняют, будто сосуды, в которых кровь держится, прохудились и вся кровь в нутро вышла… Господи! Матвей, на тебя вся надежда. Я завтра с электричкой – на работе надо отпроситься. Вот Кирюша приехал за ней… Осиротели все мы, Матве-ей!..
Выехали за город. Матвей прокричал что-то, потом остановил машину.
– Слыхал я, говорю, про тебя, вспомнил. Еще директором в школе работаешь. Соня, это, Софья Дмитриевна, за тобой. Почему сразу не сказался? На вот деньги-то. Извини, что не так… Как твое имя-отчество?
– Кирилл Андреевич.
– Передохнем, Кирилл Андреевич, маленько… Как я знал ее, тетку Фиму… В соседях жили… Она ж семью нашу… От нас беду отвела… – Матвей раздавил в пальцах папиросу, достал другую. – Это под колчаками, когда уже конец им приходил… Лютовали, шомполами секли всех подряд. Мой батя и Дмитрий Лукьяныч пластами лежали по избам… Офицерье, это, нагрянуло в наш двор. Сивка вывели, меня, мальчонку, за ездового хотели посадить. Мать воет: мужик не работник, мерина уводят, а пора надвигается, когда один день год кормит. Тетка Фима услыхала, знать, и подворачивает тут на своей Ласке, кобыле-пятилетке. Удалось им как-то схоронить ее от мобилизации, а тут на последних днях сама, значит, вывела напоказ. Давайте, говорит, со мной, господа хорошие, вмиг, мол, до станции домчим. Стоит это на телеге, а глаза жгучие – зловещая стоит, одними губами улыбается и сдерживает Ласку, а та сучит ногами, шею в дугу гнет… Там, где школа теперь, на спуске в овраг тетка Фима разгорячила Ласку и на всем ходу выдернула шкворень – отцепленный задок с офицерами пошел кувырком, а ее Ласка на вожжах уволокла… Ездил я потом с теткой Фимой за телегой. Пятна от крови на дороге были, а что с офицерами сталось, так и до сей поры неизвестно – в село не вернулись тогда и до станции не дошли. А то бы взорвали водокачку – мины там заранее были заложены, вот они и торопились… Все окна проглядели мы, с дороги ждали тетку Фиму. А в полдень идет она прямиком из лога, дуга на плечах, Ласка в поводу. Я к ней побежал. Как она шла, Кирилл Андреич! Строгая, красивая. Не помню я таких баб с той поры, не видал больше. А платье на правом боку изодрано в лохмотья, в дырах темнеют кровавые ссадины, аж земля втерлась в тело. «Больно?» – спрашиваю. – «Им больней, – отвечает и тревожится: – Никого не было?» – «Нет, – говорю, – тихо пока». Она смеется, это, а губы дрожат. «За все шомпола, – говорит, – им выплатила». И когда наши пришли и созвали митинг, партизанский командир при всем народе благодарил ее: без воды б затор на дороге вышел, а дорога тянется через всю Сибирь.
Кирилл вздохнул: от знакомого рассказа и оттого, что передает его чужой человек, защемило сердце.
– Закуришь, Кирилл Андреич?
– Скорей надо. Лукьяныч ждет.
– Живой, значит, – Матвей послушно стронул машину, но скорости не набирал. – А Иван где?
– Погиб на фронте.
– Иван погиб?! А Яков с Михайлом?
– Тоже.
– А этот, самый младший-то, как его, Серега, что ли?
– И он. Все там.
Машина рванулась.
До Лесовой они больше не обмолвились ни словом. Обоим думалось об одном: зачем живет человек, что сохраняется от него на земле?
Дома их встретили Лукьяныч и Степан Кузьмич Сухарев, слесарь вагонного депо. Они уже поставили в сенях перегородку за дверью, сбросали за нее капусту, в стене сеней напротив двери из дома надрубили верхнее бревнышко, но проема делать не стали загодя. Теперь ясно стало, что проем нужен – в узких сенях не развернуться с гробом.
Степан Кузьмич и Матвей при свете переноски протянули два раза пилой до пола, выставили бревнышки – пусть Ефимья по-людски войдет в дом, чтобы отправиться из него в свой последний путь.
Гроб установили на столе в передней комнате. Лукьяныч сел рядом на табуретку. Кирилл замер около него. Степан Кузьмич и Матвей оставили их одних у гроба.
Лукьяныч за один день осунулся так, будто месяц не поднимался с постели. Глядя на него, Кирилл острей и глубже осознавал утрату и со страхом думал, достанет ли сил у Лукьяныча перемочь такое горе. Не стало Ефимьи, и ни к чему этот дом, ни к чему огород, капуста эта ни к чему – некому отказать, никому не нужно… Вдвоем старики еще поддерживали очаг, сохраняли видимость большой семьи. Один Лукьяныч не потянет… Кирилл тихонько вышел в сени, прислонился к проему в стенке. «Все – прахом? – думал он растерянно. – Никакой отметки после себя?..»
За углом в темноте приглушенно гудели голоса – Степан Кузьмич и Матвей были там на крылечке.
– …хотели уводить коровенку уж, и она на себя взяла тогда половину налога, – говорил Степан Кузьмич. – Не умеем мы сказать человеку в глаза добрых слов… А теперь кому скажешь?
После молчания Матвей промолвил:
– Думаешь, живет человек и живет…
И снова молчание.
Кирилл догадался, о чем речь шла: в войну Ефимья Ивановна была председателем сельсовета, помогала бабам-красноармейкам. Помнят… Кирилл переступил с ноги на ногу, под ногой хрустнула щепка.
– Кирилл Андреич? – спросил Матвей и, не дождавшись ответа, подошел.
Степан Кузьмич тоже приблизился, тронул Кирилла за плечо, хотел что-то сказать, но не сказал, вздохнул только.
– Спасибо, Степан Кузьмич.
– За что там…
– Спасибо…
Кирилл попрощался за руку с ним и с Матвеем Самопаловым.
Похороны были назначены на вторник. Все эти дни в доме и во дворе Пастуховых толпились люди. Коля слонялся между ними неприкаянным. Скучно: приходят, постоят молчком простоволосые и уходят. Одни сменяют других. Из-за них и Коле никакого внимания. Коля пробрался к дедушке – он сидел неподвижно у изголовья гроба.
– Деда, а что они все идут и идут?
Он ожидал, что дедушка распорядится, как прежде, и все станет, как всегда… Но дедушка, непривычно робкий, положил трясущуюся руку ему на голову:
– Идут, внучек, идут, отдают последний долг.
Коля направился от дедушки вдоль стенки к двери и приступил на недовязанный носок, оброненный в сутолоке на пол. Довязать-то здесь пустяк – и готовый будет. Коля отнес носок матери, выговаривая по-дедушкиному резко:
– Валяется под ногами!
Мать протянула руку и в который раз без звука осела. На Колю зашикали. Из горницы выскочила медсестра со шприцем – делать укол.