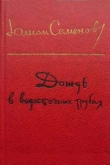Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск I"
Автор книги: Василий Шукшин
Соавторы: Валентин Распутин,Виктор Астафьев,Анатолий Приставкин,Виль Липатов,Мария Халфина,Аскольд Якубовский,Юрий Магалиф,Давид Константиновский,Юрий Куранов,Андрей Скалон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Что-то сделалось с Елизаветой Михайловной. Кровь тоже бросилась ей в лицо, и так грубоватое, оно набрякло, отяжелело, и голоса своего она не узнала:
– А это ты спроси у моей невестки!
Больше она не могла говорить, отвечать, слышать пошлости. Тяжко погрузившись в сетку, натянула одеяло на голову, чувствуя, как в груди и даже животе у нее дрожит. Захотелось домой, сейчас же, немедленно. Ком обиды в горле не давал продохнуть. Подумала: «Отдать ей чернослив? Смешно…»
В палате было невыносимо тихо, и что-то копилось в этой тишине.
И ужинали, тихонько переговариваясь. Елизавета Михайловна, не глядя ни на кого, дрожащими пальцами отламывала хлеб.
– В Сухуми восемнадцать градусов тепла, – негромко сообщила Надя, но все расслышали. – Ваши, наверное, ходят раздетыми.
Ксенофонтовна просипела:
– Это тепло обманчивое, не застудили бы мальчонку.
– Его как зовут? – спросила Ира.
– Максимом, – у Елизаветы Михайловны задергался подбородок.
– Ой, – воскликнула малявочка, – а мы с Толиком тоже Максимкой хотели назвать. И назвали бы обязательно – самое хорошее имя!
О Юльке словно забыли. Ее ни о чем не спрашивали, ни на что не подбивали, не задевали, и Елизавета Михайловна почти физически ощущала, как благодарное тепло к женщинам проникает в нее.
– Соскучились по внучку? – опять спросил кто-то.
И вдруг она почувствовала острое желание рассказать им о себе, о сыне, о невестке, о внуке – обо всем, к чему даже мысленно не хотела никого подпускать. Она не отдавала себе отчета, что была причина, отчего хотелось рассказать сейчас же, пока эта Юлька лежит в своем углу.
– Ой, очень, – все еще подавленно сказала она, – Максим для меня все: и луна, и солнышко, и звезды. А ведь если бы не я, не знаю, что и было бы. – Она вздохнула, оглядывая всех.
Сначала хотела сказать в двух словах. Но приступила – и полезли подробности, вспомнились мелочи, даже кое-что уточнялось для самой себя; удивившись, она продолжала увереннее, громче, свободнее, словно перед аудиторией, которой обязана что-то доказать и объяснить.
Впрочем, она уже не знала, что произносила вслух, а что проносилось в памяти. И реплику Юльки слышала сквозь туман ощущений, а потом, кажется, ее уже и не прерывал никто.
…В десятом классе мой Митька влюбился в девочку из класса. Знаете, как бывает: учился, учился вместе – и вдруг открыл. Я так и говорила: подошла пора, пришло время влюбиться, а ты в эту минуту увидал ее: была бы другая рядом – в другую влюбился бы. Подозреваю только, что это она его выбрала, и, может быть, давно. Он всегда ничего был мальчишка: высокий, кудрявый, только худющий, но вообще-то сильный – рельсу поднять мог, на физкультуре выжимал, что полагается, и дома занимался – эспандер, гантели, в кроссах и эстафетах первенство брал, заметный мальчишка. А судил обо всем, как все они теперь судят, архисовременно, над нами, родителями, подтрунивал. Как-то неприятности на работе случились, извелась я, добиваясь справедливости, получила выговор, заболела, но не сдавалась. Он и говорит: «Что, мать, счастье трудных дорог?» Понимаете? Вот такой. «Зачем, говорит, жениться, когда сейчас и так все доступно». Девчонки, конечно, телефон обрывали: он то с одной, то с другой в кинишко сбегает, у нас собирались, куролесили с гитарами и свечами, но серьезно ни к кому не относился, я еще боялась – избалуется парень. Мы дружили, как мне казалось. Поужинаем, бывало, и еще час просидим за столом, проболтаем, книжки, кино обсуждали, мои и его дела – все старался на меня влиять, чтобы мать у него, чего доброго, не отстала от современности, а я – на него, чтобы сын, чего доброго, не вырос циником и подлецом. Да заодно – чтобы ловкой какой на крючок не попался.
И тут появляется на горизонте Лена одна. Мальчишистая, грубоватая, властная. Мальчишки считали ее, как они говорят, своей в доску и уважали. А уважают мальчишки – значит есть за что. Думаю, подкатывались к ней, да с тем и откатывались. А может, наоборот как-то – кто их разберет. Но так и говорили: «Ленка – хороший парень». И я спокойна была. Не по фильмам и книжкам жизнь она знала, была в ней некая доля мудрости. Обстановка в доме грубейшая. Отец – шофером на самосвале, запивал крепко, братья на трубном у нас, тоже дебоширы порядочные, мать придет на родительское собрание, начнет руками махать – люди глаза прячут. И в такой семье выросла рассудительная, грубоватая, правда, но умная, смешливая и очень прямая девочка. Вообще, забавная, своеобычная, и тем мне нравилась. Но это вообще. Однако смотрю, телок мой храбрый слюни распускает. Велела я слюни подобрать и на что-то другое переключаться – вы понимаете, как я могла к ней относиться.
(Кажется, тут-то Юлька и вставила: «Еще бы, куда вам такую, когда папочка – главный инженер, мама – лекции читает!»)
Она ходила к нам. Веселая, разбитная, и, может, мне уже стало казаться – бесцеремонная: придет – сумочку ему на кровать бросит или косынку, стакан сама из серванта возьмет, на ковре устроится телевизор смотреть. «Стоит мигнуть, дескать, и буду хозяйкой в этом доме». И это мне не нравилось, и я не могла уже быть с ней запросто: разговариваю вроде дружелюбно, а внутри все напряжено. Но, думаю, не дурак же, опомнится.
Стали в институт поступать, волнений тьма. Она тоже поступила, в геодезический, туда проще было. И вот уже в разных институтах учатся, а не перестает к нам ходить. То с компанией, с товарищами – друзья детства! – провожаются, бесятся, дурака валяют, а потом одна повадилась. Дальше – больше. Закроются у него в комнате, стихнут, а меня так и носит. Или приду с работы, а она у него. И не знаю, был в институте, не был ли. Выйдет, оденется и уйдет – не увижу как. Тогда я сказала Митьке, чтобы гулять гулял, но с матерью тоже считался бы. Серьезный произошел разговор.
И перестала ходить. Спрашиваю, что с Леной, поссорились? Вертится, отнекивается. Ну, думаю, покончили – и ладно.
А тут стали у меня в доме вещи исчезать: то простыни не досчитаюсь, то полотенца, то платок шерстяной куда-то запропастился. Значения не придала – найдутся.
Но сын изменился. Задумывается, за обедом говоришь ему – не слышит, в пространство смотрит. Переживает? Или заучился совсем? Осунулся, похудел. Пятьдесят копеек давала на завтрак, на перехват, стала по рублю давать – все то же. Потом такую манеру взял: сунет яблоко в карман или грушу, а то хлеб с колбасой схватит – там, говорит, съем. Вот это-то и показалось мне странным: в школе не могла заставить его бутерброд с собой взять, а дам конфету – горсть требует, одному, видите ли, неудобно питаться…
А в один прекрасный день десятка из кошелька пропала. Я даже не помню хорошо, была или нет в кошельке – везде обыскала, его спросила, пожал плечами, вылупился на меня. Вылупился, подошел к холодильнику и возится там: опять карманы набивает! Комсомольское собрание, говорит, затянется, необходимо подкрепление. Ну, ладно.
Я тоже собиралась куда-то и прошу: подожди, вместе выйдем, по дороге… Но пока квартиру запирала, он уже был таков. Только слышу – внизу дверь хлопнула. Неприятно мне стало, горько: вот уж и не нужна, и с матерью пять минут по улице не хочется пройтись, а как прежде любил.
Выхожу с этими мыслями из подъезда и вижу – его пальтишко по другую сторону дома за угол метнулось. Куда бы?
Будто что толкнуло меня. Я – следом! А там улица длинная вдоль заводского забора, на другой стороне палисаднички. Смотрю – шагает вдоль забора, не торопится, вразвалочку. Что такое? При чем же комсомольское собрание?
Перебежала я на ту сторону, прячусь за палисадниками, за углами, за деревьями. Далеко так прошли мы с ним, обогнули заводскую территорию, свернули в улицу, где и не была никогда, вышли к новым домам. Пока пряталась, куда-то девался. Огляделась – вокруг уже ни деревьев, ни посадок, степь голая, а в ней вдалеке – будка железнодорожная. Дома стоят тыльной стороной, только у одного подъезды сюда выходят. Добежала, вошла в крайний, чтобы остальные были в поле зрения. Стала ждать.
Два часа простояла я в том подъезде. Неловко, люди проходят, оглядываются. Пройдут – я опять к двери, к щелочке. Стало мне казаться – пропустила его. И даже подумалось, а что если не здесь, а в той будке железнодорожной? Раза четыре выходила из нее молодая дивчина, поезда пропускала. Издали было видно: краснощекая, черноволосая. Неужели, думаю, приголубила? Или с какой компанией неприятной связался? Что у нас, матерей, на уме?.. Странный он в последнее время. И десятка эта… Мельчайшие детали перебрала. Сердце стучало-стучало от ожидания – и стучать перестало, отчаялась я, погасла. Вышла из подъезда, стою одиноко, смотрю в поле на дурацкую эту будку – домой надо идти.
И вдруг из той самой будки вываливается он, Митька мой!
Растерялась я, обратно в подъезд! Переждала, пока прошел, стою – сердце унять не могу. Ну вот, думаю, довоспитывалась. Хоть посмотреть, на нее еще раз, хоть бы вышла. Нет, не выходит. И я решилась. Ну что, правда, зайду и погляжу, возможно – поговорим, ведь я мать, меня касается, а от него ничего не добиться.
Иду. Прямо в домик иду. Раскрываю дверь – и едва на ногах удержалась. Кудрявая, румяная, стоит она у стола, рубит капусту. А на железной кровати в углу – Ленка. Сидит, обвязанная по плечам крест-накрест моим платком, и ребеночка на руках держит. Уставилась на меня – слова не вымолвит. И я не могу…
Сбросила шубу на пол, шагнула к ней, обхватила обоих их – не помню ничего. Кажется, только и говорила: «Дураки, дураки, дураки-то какие…» Взяла я его на руки, прижала к себе, кровиночку мою – слезы градом. А я скупа на слезы. Скупа на нежности. Но тут мы с ней наревелись. Максимка-то ведь тоже в кофту мою старую укутан был – я эту кофту давно уже и не носила.
Прибегаю домой, накричала на Митьку, что дурак он круглый, позвонила мужу: пришли машину немедленно! Что за срочность? Надо, потом расскажу. Забрала Митьку, поехали за ней. Одеяло свое с кровати взяла – у них ничегошеньки не было.
Вот так… Как сказала она матери, что беременна – уже заметно стало, та в крик и выгнала из дома. Она, Лена наша, гордая очень, ушла, конечно, И не вернулась больше. Набрели они с Митькой на эту будку, случайно разговорились с той кудрявой, поделились, а она и предложи у нее пожить. Сменщица есть – и с той договорилась. Если бы это не со мной, не поверила бы, что может такое в наше время произойти…
Слезы набегали на глаза Елизаветы Михайловны, она не смахивала, смотрела сквозь них на белые стены, на матовые плафоны, на женщин – у тех тоже глаза блестели, и все плыло туманом.
– Ну, а потом как? – донеслось до нее.
– Потом просто. Стол накрыли на четверых. Приезжает сам, кивает на тарелку лишнюю: «Ждете кого?» – «А с этого часа, говорю, отец, нас за столом будет не трое, а четверо». И вывела ее. А Максимка спал.
– А как же ее матушка, когда узнала?
– Ничего, пришла, постояла, поджавши губы, посидела, Максимку даже на руки не взяла. Простить до сих пор не могу.
– Не можете, а сами не хотели ее, Лену вашу! – сказала, неожиданно зазвенев голосом, из своего угла Юлька. – Попробуй тогда сынок скажи вам, все бы сделали, чтоб избавиться, сюда бы отправили, уговорили бы – вы умеете!..
– Н-не знаю, вряд ли, – не оборачиваясь к ней, отвечала Елизавета Михайловна с сознанием своей правоты. – Я считаю, раз они решили, значит – думали серьезно. А если даже не так, он должен отвечать.
– Понятия у вас высокие, – в тон ей, но имея в виду что-то другое, сказала Юлька. – Нелегко ей. Представляю, шпыняете как – совсем заучили!
Что было отвечать этой потерянной девчонке? Про себя знала все Елизавета Михайловна – и ладно. Скажите, учуяла близкую душу! Исходит раздражением… Но разве можно ее сравнивать с Леной? С преданной, цельной натурой, пусть и со своими номерами. Если хотите, они ссорились, да, во многом не понимали друг друга, и Ленка убегала из дома, и Митька ходил искать ее – жизнь есть жизнь. Но та же Лена зубами вцепится, если кто обидит Елизавету Михайловну. А Митьке голоса не дает поднять на мать. Конечно, есть у нее заскоки, помешана на закалке ребенка, что неминуемо ведет к простуде, и еще, но мелочи, мелочи… А эта…
Женщины сразу будто очень устали. А может быть, заскучали по дому, по детям, мужьям – хотелось, видно, сосредоточиться на своем.
Даже Ксенофонтовна только и рассказала, как приехала из деревни к сыну погостить, а он вот заставил лечь на исследованье. «Уж такой дошлый, такой дошлый!» – похвалялась она.
Ночью Елизавета Михайловна проснулась оттого, что в палате кто-то плакал. Глядя в темноту, она прислушалась. Кто-то боролся со слезами, давился и внезапно неудержимо всхлипывал.
Она хотела тронуть Ксенофонтовну, но та застонала, повернулась на спину – снилось что-то. Теперь отчетливо слышалось, что звуки вырывались из-за кровати Ксенофонтовны. Елизавета Михайловна приподнялась, но, кроме белевшей подушки, ничего не увидела. Что это – подушкой накрылась? Нет, не во сне… Испугалась, что рожать не сможет? Или вообще о жизни своей?
Она смотрела на Ксенофонтовну, не зная, что предпринять, окликнуть Юльку или нет. Но Ксенофонтовна открыла глаза и, глядя на Елизавету Михайловну, слегка шевельнула сухоньким скрюченным пальцем. Так они минутку полежали, слушая, потом Ксенофонтовна заворочалась:
– Ты чего, Юлия, чего расходилась?
На секунду стихло, но кровать снова задергалась, а тело под одеялом на ней забилось.
– Чего это с ней? – кажется, Ира села на постели.
– Подожди, ничего, – сказал Надин голос, – водички бы. – Ира не отозвалась.
– Сестру, может, позвать? – спросила Елизавета Михайловна.
Никто уже не спал. Не разговаривали, но и не спали. Елизавета Михайловна растерянно оглядывала палату: никто не хотел подойти к Юльке, спросить, успокоить, словно ждали, чтобы выплакалась или настрадалась. Словно рады были, что, наконец, проняло.
Елизавета Михайловна встала и боком, без халата, обошла Ксенофонтовну.
– Юля? Что с тобой, Юля? Что-нибудь случилось? – чувствуя, что спрашивать глупо, все же спросила строго.
Юлька затаилась, но рыдания прорвались. Обеими руками она притискивала к голове подушку, прижимала к матрацу голову.
Елизавета Михайловна приблизилась, стащила с нее подушку. На светлой простыне билась черная, растрепанная, мальчишеская Юлькина голова, ходуном ходили острые лопатки и плечи.
Колючая жалость пронзила Елизавету Михайловну. Она ухватила эти плечи, сжала их и опустилась на край кровати, и Юлькино тело толкнулось об нее.
– Уйдите, уйдите, уйдите! Не трогайте меня, не трогайте! – не выкрикивала, а вырыдывала, хрипя и вся содрогаясь, Юлька.
– Пусть поплачет, оставьте ее, – сказали из темноты, и все в Елизавете Михайловне возмутилось, отвернулось от тех, кто советовал. Она с силой рванула Юльку к себе, и вдруг Юлькины плечи воткнулись ей в грудь, коленки – в живот.
– Ну, девочка, девочка, успокойся, девочка, – твердила Елизавета Михайловна, сжимая полными сильными руками худенькое, горячее, неловкое и покорное тело. Больше она ничего не могла сказать.
Юлька лежала у нее на руках, шея и грудь вымокли от Юлькиных слез, а Юлька все плакала, корчась и торкаясь носом в нее. Они были сейчас одни в этой большой палате.
Палата молчала. Безмолвием этим – понимала Елизавета Михайловна – разрядилась затаенная враждебность, прикрытая прежде любопытством, фальшивым сочувствием, шутками, подначками. Но еще больше, казалось Елизавете Михайловне, молчание обнажило беспомощность людей. Они не знали, что с э т и м делать, и пока отворачивались. Сможет ли что-нибудь сделать для Юльки Елизавета Михайловна – она тоже не знала. Только чувствовала себя глубоко потрясенной, почти так же, как тогда, увидавши на кровати в железнодорожной будке девочку, закутанную в ее платок.
Кто-то подал воды из темноты, кажется, студентка-малявочка. Зубы Юлькины стукнули о стакан.
– А Наталью нашу сватали богатые. Щегольцовы, – зашелестел, заструился рядом слабый голос. – Жених ей не нравился, гуляли два дня, а она побоялась сказать. И в этот же месяц приходит Марк: одна шинелишка да шпоры на нем – кавалерист! Он и сватал сам: «Тятька, дайте правую, ничего у меня нет, но если ваша невеста согласная, то дело пойдет на дело». Она, видно, с ним понюхалась, он сказал ей, что у Щегольцовых она будет всегда в унижении, как из бедного положения, и девка не побоялась: «Пойду, говорит, за Марка». И до сих пор живут. Деловой мужик, но хвастливый…
Юлька и Елизавета Михайловна – обе замерли. Елизавета Михайловна все сжимала Юльку, боясь отпустить, и Юлька затихла, время от времени вся вздрагивая от подавленных рыданий, как когда-то ее Митя в детстве…
Анатолий Никульков
ТРУДНОЕ ЗНАКОМСТВО
Елена Сергеевна внесла в гостиную дымящийся поднос. В конце стола приподнялся муж, Дмитрий Всеволодович. Но его опередил Лева, молодой инженер-капитан: он бросился к Елене Сергеевне, коснувшись с нарочитой неуклюжестью ее обнаженной руки.
Тотчас она уловила просяще-укоризненный взгляд Дмитрия Всеволодовича и откровенно сердитый – Левиной жены, худой и бледной женщины.
Несколько рук передвинули бутылки и блюда, освобождая место для подноса. Елена Сергеевна засмеялась:
– Боже мой, сколько суеты! Как будто я паровоз на себе притащила.
Елена Сергеевна ощущала эту атмосферу общего внимания, чувствуя собственную красоту и молодость. Да! Молодость! Сегодня десятилетие ее свадьбы с Дмитрием Всеволодовичем. Она уже мать двух детей, у нее солидный муж, а лет ей – всего двадцать девять… Иногда казалось – это много. Но сегодня видно – нет. Сколько уже пройдено в жизни, как прочно все слажено в ней, а до старости еще далеко! Нет, не ошиблась она в тягостном сорок втором году, вручив свою судьбу Дмитрию Всеволодовичу.
…После выпитого вина и застольного шума все вдруг почувствовали утомление, тихо расселись по гостиной и завязали вялый разговор. Товарищ мужа, мало знакомый Елене Сергеевне, откинулся тучным телом на спинку дивана и, положив руку на колено Дмитрия Всеволодовича, заговорил о каких-то делах.
Елена Сергеевна взглянула недовольно, подсела к женщинам и с улыбкой произнесла:
– Ну-у! Начались высокие материи.
Но жена Левы, услышав что-то, бросила реплику и пересела к мужчинам.
– Пойдем к ним, – сказала и вторая гостья.
Елена Сергеевна погрустнела, но, уловив, что речь идет о газете, обрадованно воскликнула:
– Я знаю, это Веры Павловны статья, начальника отдела писем.
– В данном случае неважно, кто писал, – вежливо обернулся к ней тучный товарищ мужа. – Я говорю о принципиальной постановке вопроса. А вы работаете в редакции?
– Н-нет. – Елена Сергеевна поспешила добавить – Но я связана с газетой.
– Прошу любить и жаловать, – широким жестом показал на жену Дмитрий Всеволодович. – Активный участник нашей дорожной газеты. И домом руководит, и с детьми возится, и, так сказать, корреспондирует.
– О! – сказал тучный товарищ.
– И главное – очаровательная женщина, – пьяно заулыбался Лева.
Его жена грустно опустила глаза, но тут же оживилась, потому что тучный товарищ обратился к ней:
– Так давайте доспорим!
Она горячо стала отвечать, присев на диван боком, а Лева, сзади на стуле, поддакивал жене и безуспешно пытался вставить фразу подлиннее.
Теперь настал черед Елены Сергеевны грустно опустить глаза… Забыли про хозяйку… И зачем Дима позвал этого толстяка? «О!» – сделал он вид, что восхитился. Почему он думает, что писать корреспонденции – это не работа? Почему работа считается только тогда, когда человек надрывается изо всех сил?..
Была уже полночь, когда Елена Сергеевна проводила гостей. Ничего красивого уже не было. На столе стояли измазанные тарелки, лежали почерневшие ножи и вилки, в рюмках темнело недопитое вино. Ковровая дорожка на полу сбилась.
Она начала было собирать тарелки, но со звяканьем поставила их и опустилась на стул…
Дмитрий Всеволодович посмотрел вопросительно. Он полулежал на диване в белой рубахе, пересеченной по бокам подтяжками. Его бледноватое лицо с морщинками на лбу, с седеющими висками, было усталым и расплывшимся.
«Вот и весь праздник», – подумала Елена Сергеевна и с нотками раздражения сказала:
– Тебе совсем нельзя пить… Опять мешки под глазами и весь постарел сразу.
– Не сразу, не сразу, матушка, – усмехнулся Дмитрий Всеволодович. – Зато ты так расцветаешь, что Лева с тебя глаз не сводит.
– Фу! – с сердцем сказала Елена Сергеевна, вставая. – Как тупо ты остришь! – и снова стала собирать посуду.
– Оставь до утра, – примирительно проговорил Дмитрий Всеволодович. – И так утомилась.
– Не бойся, завтра мне хватит дел.
– Я не боюсь, – поднимаясь с дивана, пожал плечами Дмитрий Всеволодович. – Что опять с тобой?
– Вот брошу всю эту возню и пойду работать… В редакцию поступлю.
Муж вздохнул и медленно заходил по комнате:
– Во-первых, странно, что о работе ты говоришь только тогда, когда у тебя плохое настроение, а во-вторых, ответить могу то же, что и раньше: задерживать мне тебя не положено, но смысла не вижу. Я достаточно отдаю сил государству, чтобы ты имела право думать о детях и обо мне.
Дмитрий Всеволодович ходил, чуть ссутулившись и заложив за спину руки как раз под тем местом, где перекрещивались подтяжки. Казалось, что руки у него привязаны и не будь этого перекрестия, они бы разомкнулись, упали.
Елена Сергеевна гоняла по скатерти хлебные крошки и думала: «Боже мой! Неужели все мужья только так с женами и разговаривают? Хоть бы заругался, что ли!»
– Красавица моя, – послышался у самого уха шепот. – Не сердись, не нервничай. Все у нас хорошо.
Елена Сергеевна сказала преувеличенно сердито:
– Мне надоели всякие шпильки. Вчера опять довольно прозрачно намекали, что я сижу дома, а детей устроила в садик.
– Кто это намекал? – Дмитрий Всеволодович выпрямился. – Черт знает, чего людям надо! В конце концов, детсад – управления дороги, а я там не последний человек.
Утром Елена Сергеевна, как всегда, проснулась первой. Едва она успела перемыть посуду, как в детской послышались голоса.
– Мама, – позвала Галинка сонным голосом, заводя руки за шейку.
Она сидела в белой рубашонке, спадающей с плеча, большелобая, раскрасневшаяся, со слипающимися глазами. Еще не дойдя до нее, Елена Сергеевна явственно ощутила теплоту ее крепкого тельца, мягкого, тяжеленького, родного.
Витя уже стоял на полу и, придерживаясь за спинку кровати, пытался попасть ногой в штанишки.
– Проснулись, мои милые! – воскликнула Елена Сергеевна, входя в этот самый дорогой мирок в своей жизни, всем существом воспринимая его особые звуки, запахи, движения.
В спальне раздался кашель мужа. Елена Сергеевна взглянула на часы, – «Как всегда, полвосьмого», – и заспешила с завтраком.
Это был самый счастливый час дня – все вместе, все отдохнувшие, ласковые, все ждущие ее заботы.
Но быстро пролетел хлопотливый час. Стало пусто и одиноко. И за окном все давным-давно знакомое. На бульваре сидят женщины и бегают дети. По асфальту мчатся машины. Возле «Гастронома» толпится народ.
«Наверно, что-нибудь хорошее появилось – давно не было копченой колбасы и свежей рыбы». При этой мысли Елена Сергеевна засуетилась было, по внезапно разозлилась: «Не пойду ни в какие магазины».
Она посмотрела на светлый диск телефона. Вот сейчас позвонить в редакцию – и завтра она на работе. И не будет больше ловить в детском саду недоброжелательные взгляды и перестанет скучать в пустой квартире.
В конце концов не такое уж трудное дело – газетная работа. Больше года пишет она корреспонденции. Правда, сильно их сокращают, но на это и все редакционные работники жалуются. «Тесно в газете», – любит говорить Вера Павловна, начальник отдела писем.
А началось все с Дома отдыха управления дороги.
– Конечно, будет похуже Белокурихи или, тем более, помнишь, Крыма, – проворчал Дмитрий Всеволодович, принеся домой путевки.
Но все оказалось лучше, чем представлялось. На прощанье Дмитрий Всеволодович исписал страницу в книге отзывов, а Елена Сергеевна послала письмо в газету. Так появилась первая корреспонденция.
«…Все-таки надо идти в магазин. А через два часа – варить обед. Боже мой, это же может делать любая домработница!..»
На другой день нарочито медленно, стараясь унять волнение, она поднималась по широкой лестнице, идущей кругами вверх, мимо дверей с табличками, за которыми стрекотали пишущие машинки и звенели телефоны.
Редактор стоя склонился над столом и читал что-то на узкой, длинной полосе бумаги. При входе Елены Сергеевны он выпрямился и шагнул навстречу. Был он молодой и высокий, туго обтянутый черным кителем с погонами директора-подполковника.
«Как Дима», – подумала Елена Сергеевна и почувствовала себя уверенней.
Редактор пожал ей руку:
– Кропилов… Валентин Петрович.
Пригласив Елену Сергеевну сесть, он прошел за стол. Ходил он твердо, размашисто – и вообще весь был похож скорее на строевого офицера, чем на газетчика.
Опускаясь на стул, Елена Сергеевна мельком оглядела свой стального цвета костюм, поправила воротничок розовой блузки и посмотрела на Кропилова, отметив, что у него очень симпатичное лицо: сероглазое, с юношески свежими губами.
Елена Сергеевна начала рассказывать о том, что уже печаталась в газете, что ее знает начальник отдела писем. С транспортом она знакома, муж работает в управлении…
Кропилов усмехнулся добродушно и снисходительно. Елена Сергеевна смутилась: наверное, напрасно о муже сказала.
– Немного знаю Сташкова, – сказал редактор. – И вас тоже знаю.
Елена Сергеевна удивилась.
– Помню ваши заметки, – пояснил редактор. – Одну, о молодежи депо, мы на летучке отмечали. Ну что ж, сотрудник нам нужен. Принимаю на испытательный срок, на месяц. Сразу возьмите задание. Попробуйте от информаций переходить к более сложному.
Елена Сергеевна слегка огорчилась… Почему – от информаций? Она все-таки корреспонденции писала. Вера Павловна хоть как-то повежливей называла – письма.
Не дожидаясь согласия, редактор стал объяснять.
– В паровозном депо есть Николай Споров, токарь. Сделайте о нем зарисовку. Постарайтесь вникнуть, как добился он увеличения производительности труда. Понимаете?
– Понимаю, – сосредоточенно сказала Елена Сергеевна и достала из сумки маленькую записную книжку.
– Ну, знаете! Это не журналистский блокнотик. Возьмите-ка у секретаря наш, настоящий.
Елена Сергеевна шла по улице и с гордостью смотрела вокруг. Вот идет она – равная в этой деловитой толпе, работающий человек, газетчик, красивая женщина в светлом костюме. И в ее нарядной сумочке лежит согнутый пополам журналистский блокнот – большие белые листы без обложки, скрепленные узкой полоской дерматина.
Квартира показалась какой-то настороженной, словно ждущей кого-то. Пройдя в кухню, Елена Сергеевна поняла это ощущение. Ведь в эти часы она всегда варила обед.
Едва поставив борщ, Елена Сергеевна побежала к книжному шкафу – найти у мужа что-нибудь о паровозном депо. А то Кропилов даже усмехнулся, когда она сказала, что знает транспорт.
Весь день настроение у нее было победное. И даже за столом, когда собралась вся семья, она нисколько не огорчилась, уловив в тоне мужа сдержанный упрек, прикрытый улыбкой и витиеватостью выражения:
– Ты от радости и котлеты пережарила. Хотя они так же, как и мы, совсем не виноваты в твоих необъяснимых метаниях… И так же, вероятно, бессильны протестовать.
Утром она пошла в депо к Николаю Спорову, а вечером взялась за очерк.
Муж уступил свой рабочий стол.
Она сидела в светлом круге, отброшенном настольной лампой. За этим кругом уютно прижимался к спине тихий полумрак.
Один раз за весь вечер зашел муж. Елена Сергеевна подняла увлеченный взгляд и увидела, что Дмитрий Всеволодович, недоверчиво улыбаясь, читает рукопись.
– Спорова похоже описываешь, – похвалил он.
Елена Сергеевна откинулась на стуле и, закинув руки, обхватила сзади шею мужа, притянула его лицо к своему:
– У меня получится, Димок. Правда?
– У тебя все получается, – сказал Дмитрий Всеволодович. – Непослушница моя. Что я с тобой могу сделать!.. Ну, пойду. Только, понимаешь, ребятишки там разбаловались, читать не дают. Ты скоро кончишь?
– Терпи, терпи, – весело прикрикнула Елена Сергеевна. – Ты от них отвык совсем.
Она писала, зачеркивала, вставляла фразы на полях, и сам черновик нравился ей все больше: как у настоящих писателей – пометки и зачеркивания, следы напряженного труда.
Лишь когда в соседней детской комнате раздались тоненькие голоса и приглушенный басок мужа, она не вытерпела, вскочила, чтобы самой уложить в постель Галинку и Витю.
Утром она вручила Кропилову свой очерк. Тот привычным жестом перелистал страницы:
– Ага! Первый успех есть – оперативность. Сейчас прочитаю.
Елена Сергеевна прошла в кабинет, где вчера указали ей стол, открыла дверцу еще пустой тумбочки и спросила своего соседа, молодого толстого парня с расстегнутым воротником кителя:
– Скажите, где тут можно достать всякие пишущие принадлежности?
Парень с неожиданной подвижностью выскочил из-за стола и заговорил так быстро, что иногда глотал слова:
– Прежде познакомимся… Вы новая у нас?.. Степан Ложкин – спецкор. Сегодня – с линии. А вы вчера появились?
Он повел Елену Сергеевну к строгой девушке-секретарше, набрал блокнотов, карандашей, стопку бумаги, потащил все это в кабинет, разложил на столе и сказал:
– Прошу принимать. Полный порядок!
Так же внезапно, как вскочил, он сел на свое место и замолчал, взявшись за перо.
Елене Сергеевне пока нечего было делать, и с тем большим волнением она ждала вызова к редактору.
Но скоро он сам появился в комнате.
– Кончаешь, Степан Ильич? – мимоходом спросил он, направляясь к столу Елены Сергеевны.
– Через двадцать минут – на машинку, – Ложкин на секунду поднял голову и чуть привстал.
Валентин Петрович положил рукопись перед Еленой Сергеевной и сбоку облокотился на стол. Она осторожно сдвинула верхний листок и увидела чернильные кресты и кривые стрелы, идущие от абзаца к абзацу.
– Начала не надо, – сказал Кропилов. – Это же очерковый зачин, а у вас не очерк.
«Как не очерк? – чуть не воскликнула Елена Сергеевна. – Что же это, по-вашему? Опять информация?»
– У вас просто информация, – сказал редактор, словно прочитав ее мысли. – Значит, все и надо в одном стиле… Посмотрите мои исправления и сдавайте на машинку.
Когда Кропилов ушел, она стала разглядывать «исправления».
Ничего себе исправления! Три странички из шести перечеркнуты из конца в конец. Боже мой! Ему даже Споров не понравился. А ведь муж сказал, что хорошо, похоже. Недаром все жалуются, что в этой редакции всегда обкорнают!
Было так досадно и больно, что на глазах выступили слезы. Степан, по-видимому, заметил это. Собрав пачку исписанных листков, он выскочил из-за стола и, направляясь к двери, крикнул: