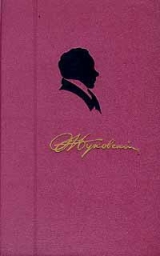
Текст книги "Том 4. Одиссея. Проза. Статьи"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
Вчера получил твои письма с Хлюстиным * ; вложенное к Жихареву * отправил. Портреты и прочее отправлю с кем-нибудь или оставлю у себя и приложу к прочим бумагам твоим и книгам, кои хранятся у меня. На что тормошить их и хлопотать о пересылке? Почему всему этому не быть у меня? Хлюстин мне очень понравился. Он напоминает своим умным лицом своего дядю; говорит приятно и, кажется, со сведениями; хочет быть дипломатом. Это, я думаю, теперь затруднительно. Уж и так слишком много в иностранной коллегии. Я советую избрать министерства внутренних дел или просвещения. Но надобно, чтоб он был употреблен приятным для него образом.
В отрывке, присланном тобою * , где говорится обо мне, есть много для меня трогательного. У него открылось теперь, кажется, какое-то дружеское чувство ко мне * , которого я не предполагал, а по письму графини * вижу, что он его имел ко мне и прежде. Но он до сих пор или, лучше сказать, в то время, когда мог видеть меня глазами, смотрел на меня как на какого-то потерянного в европейской сфере. Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же общее делобыло мне чуждо? Я не занимался современным, как бы было должно, – это правда, и теперь вижу, что мне многого недостает в моем теперешнем звании; ибо теперешние занятия пожирают все внимание, все сердце и все время. На внешнее могу только заглядывать изредка, урывками. А знакомство с ним необходимо для верности, солидности и теплоты идей. Я живу теперь для одногоисключительно * и одно только имею беспокойство, часто мучительное, хорошо ли сделаю свое дело? Других беспокойств нет никаких насчет себя, ибо ничего себене ищу. По сию пору я почти ни с кем не виделся здесь, в Петербурге. Время, время всего дороже. Но это мне может со временем повредить: отдалит слишком от существенного, сделает чуждым современному и поселит в характере дикость, к которой я и без того склонен. Видаю только Козлова * , и то не часто. Манускрипт его лежит у меня * . Я говорил о издании с теми, кто знает это дело, особенно с Дашковым, Блудовым и также Слёниным * . Одно слово: теперь выдавать нельзя. Расположение читателя неблагоприятно этой поэме. Дух ее прекрасный – трогательно и разительно. Но историческая часть неудовлетворительна и быть не может удовлетворительна. Таково их мнение. Оно меня и останавливает. Иначе я бы решился издать от себя, но боюсь повредить Козлову. Как на это решиться? Отдал поэму Полетике * (он не знаток литературы, но имеет здравый смысл и принимает участие в Козлове); он говорит мне, что я бы мог решиться на издание от себя, что он вреда Козлову не предвидит. Я в этом случае, однако, плана не делаю. Представится случай благоприятный, воспользуюсь им и поступлю по вдохновению минуты. Но этого ни предвидеть, ни наперед расположить нельзя. – Думаю о тебе с грустию. Еще нет от тебя ответа ни на одно письмо мое. А я уже из Петербурга написал, кажется, пять писем. Я прошу тебя поверить мне насчет Н<иколая>. Кажется, что я его понимаю. Важнейшее для него будет, если ты будешь с собою ладить. Ты слишком мало берешь над собою воли; ты предаешься произвольно тому, что тебя страшит или бременит. Это, право, противно и твоему достоинству и особенно твоей любви к живому брату и памяти по мертвом * . И следствие этого ощутительно: ты падаешь духом. Должно ли же это так быть? Сравни себя с другими в этом же положении. Ты должен, должен владеть собою: другого спасения нет! Это ты можешь; следственно, это должно быть. Помни одно: не надобно прибавлять к судьбе брата, в которой есть для него утешение, такого, что не оставляет уже никакого утешения, то есть твоего упадка, в котором он должен будет упрекатьсебя.
Обними за меня графиню. Скажи ей, что я говорил с Ламбертом, который усердно хлопочет по делу ее. Нынче пишу ему, к Жихареву. – Вот что пишет Жихарев о Киндякове. Прилагаю выписку или самый отрывок. Сапог один или два без колодки послал * дней десять тому с курьером. Один с колодкою остался у меня.
Ж.
13. 27 ноября с<тарого> ст<иля> <1827, Петербург> *По сию пору не имею от тебя никакого отзыва на мои к тебе письма. Получаешь ли ты их или нет, не знаю. Отдано ли письмо мое Корфу? * Получил ли сапог? Получил ли другие письма? Для чего не скажешь ни слова? Твои все получены. По крайней мере многие. Я на последние, полученные с Хлюстиным, также, кажется, отвечал. С тех пор ничего от тебя не имею. Желал бы, чтобы написал что-нибудь решительное о том, что ты намерен на первое время делать. Думаю, что для твоего душевного спокойствия тебе всего лучше остаться долее в Париже: письма от брата будешь получать часто и скоро. Это для тебя главное.
В немногих словах скажу о себе: живу очень уединенно; всегда почти обедаю дома, изредка бываю в людях, на это у меня определен час после обеда, между 6 и 8. Остальное время за делом. У Карамзиных обедаю по воскресеньям. Всегда говорится о тебе. Третьего дня обедал у Строганова * ; он для тебя совершенно тот же, каков был в Дрездене: нельзя не иметь к нему душевного почтения; в нем много сердечного жара.
Я тебе ничего не сказывал о Пушкине. Он давно здесь. Написал много. Третья часть «Онегина» вышла * . Доставлю ее тебе с Белизаром, который скоро едет в Париж (он заступил место Сен-Флорана) * ; также пришлю и вышедшие недавно сочинения Баратынского * . У Пушкина готовы и 4, 5 и 6 книги «Онегина» * . «Годунов» превосходное творение; много глубокости и знания человеческого сердца. Где он все это берет? Но боюсь, чтобы легкость писать не обратилась в небрежность. Он часто позволяет себе быть слишком прозаическим. Козлова поэма все еще не вышла * . Третьего дня я виделся с Слёниным, который сказал мне, что покажет ее Глазунову * ; не знаю однако, будет ли Глазунов, с коим он уже говорил, ею интересоваться. Он обещал дать ему манускрипт и сказать, чтобы поговорил со мною. Но я уже говорил с Глазуновым и сообщил ему, что думаю о поэме и о поэте. Не в них дело, а в том, какое теперь расположение читателя. Оно неблагоприятное. Полетика говорит: «Печатай! Если выгоды не будет, то и невыгоды нельзя ожидать. Поэма хороша».Я держусь Слёнина. Он лучше всех может пустить в ход книгу. Но он, при всем доброжелании, не видит еще никакого способа. Вяземский к тебе пишет. Теперь письма́ не посылаю: слишком велико. Он хочет, чтобы ты уговорил Толстого быть корреспондентом его журнала * . Геро ему не нравится * . Он писал к тебе много раз; видно, письма растерялись. Тебе надобно дать от себя Жихареву доверенность, без чего дела твои здесь идти не могут. Но не знаю, как тебе решиться дать доверенность. В ней должно быть изъяснено, почему ты теперь единственный наследник имения своего. Без доверенности же от тебя у Жихарева руки будут связаны, и он никаких поручений твоих исполнять не будет в состоянии. Милый брат, мне больно это писать к тебе; но что же делать! Жихарев требует, чтоб я написал. На что ты решишься? А надобно решиться для вашей же общей пользы.
Следующее о графине * .
Если Ламберт дожидаться будет, чтобы к нему высланы были деньги, то этого не дождется. Дай ему знать, что нужно, дабы он дал кому-нибудь в Москве доверенность получить деньги, а вместе с тем поручил бы и заемный акт, который после должен быть надписан и возвращен графу Орлову * . О накопившихся процентах хлопочу; надеюсь и страшусь.
Я увижусь с Ламбертом. Скажи об этом графине.
Наш добрый Максим Иванович * кончил жизнь свою. Умер с именем твоего отца и Ивана Владимир<овича> на языке. Так пишет Жихарев, который закрыл ему глаза. Оставил 30 копеек медью и несколько книг. Пенсион свой весь отдавал бедным. Это узнали после смерти его.
14. 4 (17) декабря 1827, Петербург *Удивительное дело! Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. Итак, ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с некоторою честностию плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже позволено им заглядывать в чужие тайны, то никак не позволено над ними ругаться и что письма, хотя читанные, доставлять должно.Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни к чему вести не может. Доверенность публичная нарушена; то, за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами. А те, которые исполняют подобные законные беззакония, на них не останавливаются, пренебрегают прочитанными письмами и часто оттого, что печать худо распечаталась, уничтожают важное письмо, от которого часто зависит судьба частного человека. И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой ненравственности, обращенной в правило! Что могут узнать теперь из писем? Кто вверит себя почте? Что ж выиграли, разрушив святыню – веру и уважение правительству? – Это бесит! Как же хотеть уважения к законам в частных людях, когда правительства всё беззаконное себе позволяют? Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а нравственность правительства. В той семье не будет беспорядка, где поведение родителей образец нравственности; то же можно сказать и о правительствах и народах. Une manière franche et généreuse d’agir est un signe et en même temps une garantie de la puissance. Les mesures, qu’on prend pour conserver la tranquillité, sont pour la plupart du temps la vraie cause des troubles; au lieu d’apaiser elles inquiètent. [56]56
Искренний и великодушный образ действия – признак и в то же время гарантия могущества. Меры, предпринимаемые для сохранения спокойствия, чаще всего бывают подлинной причиной народных волнений; вместо того чтобы умиротворять, они возбуждают беспокойство (франц.).
[Закрыть]Но куда я забрался с почтою! Все это для тех, кто рассудит за благо прочитать это письмо. Тебе же нечего мне много рассказывать. Нового ничего нет. От Саши я получил письмо * от 14 (17) из Лиона; следовательно, она должна быть теперь уже в Гиере.
То, что пишешь о графине, есть то, что я сам думаю об ней. Ее слишком живое участие к Н<иколаю> не сходно с его натурою; он чувствует глубоко, но не любит высказывать своего чувства; он способен только писать об нем и именно потому далек от всякой экзажерации * , что слишком много имеет истинного. Графиня соединяет много воображения с истинным чувством; поэтому она лучше издали и полезнее, чем вблизи. Она своим присутствием разрушает покой и порядок душевный. То добро, которое могло бы произвести ее нежное, искреннее, неподделанное участие, уничтожается тою формою, которую оно принимает. Николаю такого рода участие должно было à la longue [57]57
Наконец (франц.).
[Закрыть]сделаться нестерпимым; он ищет правила, твердости, ему нужно знать свое положение, без всяких украшений, чтобы решить умом, что ему делать следует. Против смерти Сергея * нет правила, ибо тут оторван кусок от души; но и для нее найдет если не лекарство, то замену в другом чувстве (ибо наше чувство лечится только чувством). Против судьбы же личной ему надобно только ясно видеть, ясно знать, решиться и расположить жизнь по судьбе своей. На это он способнее многих. О будущем не смею ничего сказать * . Для меня одно верно: мое собственное убеждениеи мояготовность воспользоваться благоприятноюминутою. Более ни за что не ручаюсь. И он с своей стороны должен поступать так, как бы не было ничего в будущем. Ты же помогай с своей стороны его твердости. Извлекай из жизни все то моральное добро, какое из нее извлечь можешь. Другого нечего делать. Итак, воздерживай себя от лишней тревоги, если не для себя, то для брата. Обнимаю графиню.
Ты пишешь, что жалеешь о поручениях, которые давал мне. Надеюсь, что ты понял, о каких поручениях идет дело. О мелочных, требующих хлопот и езды; но важное, разумеется, мое.
15. 2 (14) сентября <1828, Петербург> *Милый брат, я давно не писал к тебе. Это вина, которой не думаю снять с себя, ибо я виноват. Но по крайней мере виноват не сердцем, а только своею несчастною привычкою откладывать письма, как скоро есть дело. А у меня скопилось множество работы по моим грамматическим лекциям, и я отложил всякую переписку до тех пор, пока не кончил одной части своей работы. Мысль о том, что не пишу к тебе, лежала, однако, как бремя на душе моей. Думал о тебе, где ты, что ты, и все не писал. Думаю однако, что это время прошло для тебя если не приятным образом, то по крайней мере деятельно. Ты много видел, а ты умеешь видеть. Что было бы для тебя путешествие, когда бы судьба не разбила насилием твоей здешней жизни? Как много прошло по душе твоей, и сколько следов в ней осталось! Но (в сторону счастие!) никогда жизнь твоя не бывала столь богата высоким, никогда не испытал ты столько в школе любви. Когда думаю о тебе, то возвышаюсь душою и ни с кем из моих близких тебя не сравниваю: бог считает только богатства души; а твоя душа в это время собрала много сокровищ, и ты, потеряв с одной стороны так много, еще более выиграл с другой. Из всех нас твоя участь, может быть, самая возвышенная. Мы похоронили Сергея, и он оставил тебе, после тех страданий, которые ты имел об нем, высокое, чистое воспоминание о его жизни и постоянную любовь к мертвому. Любовь к Николаю есть освещение твоей жизни. Я бы желал только одного: более твердого, спокойного взгляда на то, чему перемениться не можно, по крайней мере в чем нельзя предвидеть перемены. Тревожное ожидание этой перемены не допускает тебя ладить с твоею судьбою так, как ты с нею мог бы и должен сладить. На этот счет не могу тебя обманывать: по тому ходу, который взяло наше дело * , я потерял всю надежду на какой-нибудь успех. Знаю только то, что я останусь тебе верен и что воспользуюсь тем случаем, который мне представится, чтобы действовать в твою пользу; но какой может быть этот случай, когда он представится, этого не знаю. Теперь же пока ни о чем думать нельзя: это в самих обстоятельствах. Пошли бог успех нашему оружию * . Это будет и для тебя благотворительно. Я вижу это только vaguement, [58]58
Смутно, неясно (франц.).
[Закрыть]но что именно, то решить могут только минуты. Знай только одно, что мое сердце будет всегда за тебя бодрствовать. Напиши ко мне, прошу тебя, поскорее. Боюсь, чтобы мое молчание не оскорбило тебя. Это даже естественно. У тебя сердце болит, и ты легко можешь и меня обвинить. Это было бы для меня несчастием, тем более тяжелым, что отчасти я подал к тому повод.
Буду ждать с нетерпением письма твоего. Последние твои письма я получил. Сапоги готовы; пошлю при случае. Здесь Фрейганг; отдам ему, он перешлет из Лейпцига.
От Саши получаю утешительные письма из Женевы. Бонстеттен полюбил ее и с нею неразлучен. Недавно писал он ко мне об ней. Письмо 82-летнего старика полно живой молодости.
Вот тебе некоторые последние вести о наших делах в Турции: перед Варною дела идут довольно счастливо, хотя рана Меншикова * , которая лишила нас его деятельности на всю кампанию, и была великим для нас уроном. Место его заступил Воронцов * ; а до приезда Воронцова командовал корпусом наш Василий Перовский * , который уже генерал и кавалер Георгия за Анапу. Крепость совершенно окружена; и со дня на день ожидаем известия о ее взятии. Это будет решительно. Но под Шумлою менее удачи. Турки делают нападения и в последнем отняли у нас редут и 6 пушек и убили генерала Вреде с двумя или тремя стами солдат. Государь возвратился из Одессы; гвардия пришла. Развязка скоро будет. Что-то у вас обо всем этом толкуют в Англии? У нас же нет ничего замечательного на сцене. Да я и не очень замечательно смотрю на нее. Нельзя вести однообразнее жизни моей: я по уши в лекциях, и мысли мои, всегда ленивые, не бродят из узкого моего круга; хотя снова принялся за стихи, но и это для моих же лекций. Перевожу для детей своих отрывки из «Илиады» * , и уже перевел довольно. По незнанию Гомерова языка лажу с Фоссовым шероховатым, но верным (переводом?); переводя Фосса, заглядываю в Попе * и дивлюсь, как мог он при своем поэтическом даровании так мало чувствовать несравненную простоту своего подлинника, которого совершенно изуродовал жеманным своим переводом. Пушкины и Батюшков с сестрою возвратились * . От первых я еще не имею писем. Батюшков беспрестанно занят рисованьем. Жихарев прислал мне один рисунок его. Видно, что он над ним трудился, и прилежно. Со временем надобно будет переселить его в Петербург. – Прости. Жду твоих писем. Обнимаю всем сердцем Николая.
Ж.
16. 23 августа <1831, Царское Село> *Кажется, мне не нужно требовать объяснения на письмо твое. Ты не избежал и этого несчастия: найти предательство там, где надеялся найти дружбу * . Но, признаться, такой презрительной гадости я не ожидал. Это уж хуже всякого убийства! Если только я не ошибаюсь в своей догадке. Итак, еще более надобно радоваться твоему приезду. Но удастся ли тебе свои дела уладить? Имеешь ли на то способы? Знаешь ли, как с ним возиться? По всему вижу, что тебе надобно не только просто устраивать, но покрывать расстроенное и распутывать запутанное. Не хочу требовать от тебя объяснения и подробностей. Это тяжело и противно! При свидании все объяснишь. Скажи только: имеешь ли надежду скоро и хорошо кончить? Главное для тебя иметь обеспеченный кусок хлеба. Будешь ли иметь его?
На этом месте письма моего я остановился, начав писать его тотчас по получении твоего; остановился, да и отложил продолжать по своему похвальному обыкновению; а тебе, вероятно, будет на меня и досадно. Не сердись, душа моя, и сноси меня таким, каков я есмь и каким, вероятно, уже и останусь до перемены в лучшее в каком-нибудь другом уголку творения божия. Думая о письме твоем, приходит мне на мысль, что ты мог и ошибиться. Не входя в подробности, печальные и тяжелые, скажи мне вообще, в чем дело? В одной ли оплошности без намерения, от коей могло произойти расстройство экономических дел твоих, или в разорении тебя по плану и с намерением.Последнее кажется мне неестественным и невероятным. Объясни этот пункт. Потом скажи, что ты намерен делать и долго ли пробудешь в Москве? Сначала я хотел послать письмо твое к Д * ., дабы из немногих строк, до него касающихся, он мог увидеть, что ему делать и какую взять осторожность; но раздумал и буду ждать от тебя разрешения и нескольких немногих объяснений. Не называя никого, можешь, однако, сказать вообще, в чем дело. Поручение же твое остаться честным человекомкак-нибудь постараюсь исполнить; да нас, честных людей, право, довольно, если не героев, то по крайней мере верных идее добра и по натуре своей и с помощью благоприятных обстоятельств. Например, и Пушкин честный человек во всем смысле этого слова, несмотря на минувшие проказы; мы с ним вместе поживаем в Царском и вместе проводим вечера у смуглой царскосельской невесты * , которая также честный человек. Я между дела пишу экзаметры * , а Пушкин ждет осени, чтобы начать писать. Манускрипт Ч. он давал мне читать * и взял его у меня, чтобы отправить к Ч. Вероятно, что он уже и получен. С Петербургом я во все время не виделся и не знаю, что делает наш слепец * , от которого давно не имею вести; но он жив и здоров. На фразу твою: «Желаю иметь опору если не в службе в России, то по крайней мере в деятельности, известной правительству и гласной», можно тогда только отвечать дельным образом, когда будем вместе, но об этом желании твоем было сказаномною в самой вышней инстанции; по какому случаю сказано, об этом после. Оканчивай скорее свои экономические дела и приезжай к зиме в Петербург, чтобы устроить сколько-либо свою жизнь политическую; необходимо надобно, чтобы правительство убедилось, что ты не имеешь и тени намерений, ему противных. Это можешь ты сделать только сам, будучи лично в Петербурге. Но, живучи в Москве, старайся не подать никакого повода к ложным на счет твой заключениям. Много людей найдется, которые и самому невинному дадут смысл виновный. Прости. Возвращаю тебе письмо, тобою мне сообщенное, и обнимаю тебя всем сердцем. А ты передай объятие мое Карамзиным и скажи мое душевное почтение Ивану Ивановичу Дмитриеву.
Ж.
Записку о Розлиге отправлю к Черткову, адъютанту М<ихаила> Павл<овича>. Он спросит у него и уведомит меня; тогда и я тебя уведомлю.
Письма к А.С. Пушкину
Жуковский познакомился с Пушкиным-лицеистом в августе или сентябре 1815 г. в Царском Селе (см. письмо к П. А. Вяземскому от 19 сентября 1815 г.). Это знакомство, как известно, вскоре перешло в тесную и сердечную дружбу. Дошедшие до нас немногочисленные письма Жуковского к Пушкину охватывают лишь двенадцатилетний период (от 1 июня 1824 г. до конца декабря 1836 г.).








