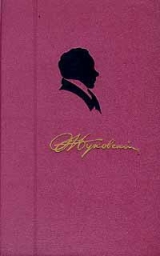
Текст книги "Том 4. Одиссея. Проза. Статьи"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 53 страниц)
Мой милый Николай Гомерович! Обнимаю тебя и дружески поздравляю с милостию царскою. Теперь спешу поручить тебе важную комиссию. Где Екатерина Федоровна Муравьева? Повидайся с нею и поговори о делах Батюшкова. До сих пор она пересылала ему его жалованье * . Но останется ли она в Петербурге? Надобно это устроить порядком. Переговори с нею и возьми на себя доставление денег, узнав от нее хорошенько, как она поступала в этом случае. Когда увидишь ее, скажи ей мое душевное почтение: она не имеет нужды ни в каких от меня уверениях и знает, с каким чувством разделяю все то, что у нее теперь на сердце * . Прошу тебя уведомить меня об ней подробно. Не замедли ответом. Батюшкова беспокоится * . Ей надобны скоро будут деньги. Устрой, прошу тебя, все это поскорее. Наш больной все в одном положении, но доктор не отказывает от надежды. Прости. Обнимаю тебя. Прошу обнять Козлова: стихи его и письмо получил. Отвечать буду, но со временем. Некогда теперь. Прошу одно, чтобы не печатал до моего возвращения.
Где Пушкин: напиши об нем. Жажду «Годунова» * . Скажи ему от меня, чтоб бросил дрянь и был просто великим поэтом * , славою и благодеяниемдля России, – это ему возможно! Обними его.
Жуковский.
28. Е. Г. Пушкиной. <Июнь 1827, Париж> *Мы получили ваши милые письма; благодарим вас за вашу нежную дружбу, которой цену теперь более нежели когда-нибудь чувствуем. От Н. есть известие * . К нему поехала графиня Разумовская, с тем чтоб его приготовить к ужасной потере * и потом об ней объявить. Но он уже знал обо всем прежде ее прибытия. Я желал бы, чтоб вы прочитали письмо его. В нем бы нашли вы все, что есть трогательного в человеческой горести и сильного в человеческой душе. Несчастие есть пробный камень: только по нем узнается чистое золото. Н<иколаева> душа есть чистое золото. Я ему обязан во всех этих горестных обстоятельствах высоким понятием о человечестве. Он был для меня убедительнее всех авторов, проповедующих красноречиво о нравственности. В нем нет искусственного стоицизма. Он все принимает глубоко к сердцу; может быть, сильнее нежели кто-нибудь. Но он владеет своею судьбою; несмотря на сильные, частые припадки горя, он все сохраняет удивительную твердость высокого ума, при всех слабостях нежного сердца; он представляет что-то необыкновенно величественное. Сию минуту мы получили еще письмо от графини Разумовской. Она с ним и еще несколько времени с ним пробудет. От него письма нет, но он здоров. Грустит и борется с грустию. Александр мой также здоров * ; за его физическое состояние не беспокойтесь; но мысль о брате и горе разлуки его терзают. Мы не расстанемся до Эмса. Обстоятельства скажут, что надобно будет делать после. – Получили ли вы мое письмо со вложением к Гудовичу * ? Прошу вас взять на себя труд сказать ему, чтобы ко мне отвечал или в Париж, где пробуду до 1 июля, на имя Rougemont de Löwenberg, Banquier; или в Эмс на мое имя, poste restante. Если его уже нет в Дрездене, то напишите к нему туда, где он теперь.
29. В. В. Измайлову. Ноября 27, 1827 <Петербург> *Я имел удовольствие получить ваше письмо, почтеннейший Владимир Васильевич, и приложенный к нему литературный подарок * . Благодарю вас душевно за то и другое. Вы так давно не показывались на сцену словесности нашей, что мы имели уже право бояться, не покинули ли вы ее навсегда. Страх этот был напрасен. Вы зовете на свой театр и меня – рад бы выступить перед зрителей вместе с вами, но мне показаться не с чем. Моя авторская гардероба вся истрачена, и лоскутка даже от старых костюмов нет в запасе; а новых шить, по крайней мере теперь, некогда. Не отказываюсь от надежды вперед что-нибудь смастерить; но теперь совершенно беден. Говоря без всяких иносказаний, я ничего не имею такого, что бы стоило войти в ваш «Музеум»; ничего не написал и не скоро что-нибудь написать надеюсь. Сожалею, что принужден отвечать отрицательно на ваш лестный для меня вызов. Находя в других альманахах, например у Федорова * , и в журналах, то есть в «Славянине» и в «Телеграфе», мои пиесы, вы, может быть, подумаете, что все это мною дано издателям и написано вновь. Напротив, все старое, напечатано без моего согласия или ведома и никогда с моего согласия не было бы напечатано: я слишком уважаю поэзию, чтоб пускать в свет такого рода дрянь. Мое отсутствие сочтено было смертию * , и то, что случилось найти в моих бумагах или у посторонних, было тиснуто как oeuvre posthume. [75]75
Посмертное творение (франц.).
[Закрыть]Мне было досадно по возвращении моем найти в печати много такого, что было брошено и забыто. Но вас благодарю за помещение в вашем альманахе моей песни о Наполеоне * . Если Иван Иванович мог найти ее стоящею напечатания * , то против этого приговора я не имею апелляции. Он всегда был и будет нашим законом, нашею верхнею инстанциею на Парнасе. Когда увидите его, прошу вас сказать ему мое душевное почтение. Моя привязанность к нему все та же, какая была и в поэтическое время жизни, и ничто ни переменить, ни ослабить ее не может. Стихи его о нашем улетевшем ангеле Карамзине * прочитал я с чувством благоговения; а отрывок письма Карамзина * был для меня не чтение, а слышимый голос с того света: столь жива в этих строках вся небесная душа его, чистая и здесь, как теперешняя, святая жизнь его в другом мире. Простите, не забывайте искренно преданного вам
Жуковского.
30. Д. В. Давыдову. 1829, 10 декабря <Петербург> *Давыдов, пламенный боец, благодарю тебя за твои поэтические и прозаические строки. Очень было мне весело получить от тебя теперь весточку * и видеть, что ты, несмотря на возню около тебя четырех крикунов * , все-таки по-старому беседуешь со своею милою музою. Милою – это ее имя. В своей поэтической небрежности – она привлекательное создание. Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. * Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь. Я и не поправлю и не возвращу тебе стихов твоих. Не отдать ли их в «Северные цветы», то есть три первых * ; эпитафии не пропустят * . Уведомь, а я обнимаю тебя душевно. Писать же много не о чем, да я и не охотник, а люблю тебя охотно. У нас скоро будет Вяземский.
Твой Жуковский.
31. Николаю I. <Февраль 1832, Петербург> *Я перечитал с величайшим вниманием в журнале «Европеец» те статьи, о коих ваше императорское величество благоволили говорить со мною, и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренного. Думаю, что я не остановился бы пропустить их, когда бы должен был их рассматривать как цензор.
В первой статье, «Девятнадцатый век» * , автор судит о ходе европейского общества, взяв его от конца XVIII <века> до нашего времени, в отношении литературном, нравственном, философическом и религиозном; он не касается до политики (о чем именно говорит в начале статьи), и его собственные мнения решительно антиреволюционные; об остальном же говорит он просто исторически. В некоторых местах он темен, но это без намерения, а единственно оттого, что не умел выразиться яснее, что не только весьма трудно, но и почти неизбежно на русском языке, в котором так мало терминов философических. Это просто неумение писателя. Но и в этих темных местах (если не предполагать сначала дурного намерения в авторе, на что нет никакого повода), добравшись с трудом до смысла, не найдешь ничего предосудительного; ибо везде говорится исключительно об одной литературе и философии, и нет нигде ничего политического. Сии места, вырванные из связи целого, могли быть изъяснены неблагоприятным образом, особливо если представить их в смысле политическом; но, прочтенные в связи с прочим, они совершенно невинны. Какие это именно места, я не знаю; ибо я прочитал статью в связи, и ничего в ней не показалось мне предосудительным. В замечаниях на комедию «Горе от ума» * автор не только не нападает на иностранцев, но еще хочет, в смысле правительства, оправдать благоразумное подражание иностранному, утверждая, что оно не только не вредит национальности, но должно еще послужить к ее утверждению. Он смеется над нашею исключительною привязанностью к иностранцам, которая действительно смешна, и под именем тех иностранцев, на коих нападает, не разумеет тех достойных уважения иностранцев, кои употреблены правительством, а только тех, кои у нас (или родясь в России, или переселясь в нее из отечества), под покровительством нерусского имени, первенствуют в обществе и портят домашнее воспитание, вверенное им без разбора родителями. Одним словом, он хочет отличить благоразумное уважение к иностранному просвещению, нужное России, от безрассудного уважения к иностранцам без разбора, вредного и смешного.
Теперь осмелюсь сказать слово о самом авторе. Его мать выросла на глазах моих * ; и его самого и его братьев знаю я с колыбели. В этом семействе не было никогда и тени безнравственности. Он все свое воспитание получил дома; имеет самый скромный, тихий, можно сказать девственный характер; застенчив и чист как дитя; не только не имеет в себе ничего буйного, но до крайности робок и осторожен на словах. Он служил несколько времени в архиве иностранных дел в Москве. Несчастная привязанность, которая овладела душою его, заставила его мать отправить его для рассеяния мыслей в чужие край. Проезжая через Петербург * , он провел в нем более недели и, это время прожив у меня, отправился прямо в Берлин, где провел несколько месяцев и слушал лекции в университете. Получив от меня рекомендательные письма к людям, которые могли указать ему только хорошую дорогу, он умел заслужить приязнь их. Из Берлина поехал он в Мюнхен к брату * , учившемуся в тамошнем университете. Открывшаяся в Москве холера * заставила обоих братьев все бросить и спешить в Москву делить опасность чумы с семейством. С тех пор оба брата живут мирно в кругу семейственном, занимаясь литературою. И тот и другой почти неизвестны в обществе; круг знакомства их самый тесный; вся цель их состоит в занятиях мирных, и они, по своим свойствам, по добрым привычкам, полученным в семействе, по хорошему образованию, могли бы на избранной ими дороге сделаться людьми дельными и заслужить одобрение отечества полезными трудами, ибо имеют хорошие сведения, соединенные с талантом и, смело говорю, с самою непорочною нравственностию. Об этом говорить я имею право более нежели кто-нибудь на свете, ибо я сам член этого семейства и знаю в нем всех с колыбели.
Что могло дать насчет Киреевского вашему императорскому величеству мнение, столь гибельное для целой будущей его жизни, постигнуть не умею. Он имеет врагов литературных, именно тех, которые и здесь, в Петербурге, и в Москве срамят русскую литературу * , дают ей самое низкое направление и почитают врагами своими всякого, кто берется за перо с благороднейшим чувством. Этим людям всякое средство возможно * , и тем успешнее их действия, что те, против коих они враждуют, совершенно безоружны в этой неровной войне; ибо никогда не употребят против них тех способов, коими они так решительно действуют. Клевета искусна; издалека наготовит она столько обвинений против беспечного честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют тайные намерения.Такое обвинение легко, а оправдания против него быть не может. Можно отвечать: «Я не имею злых намерений».Кто же поверит на слово? Можно представить в свидетельство непорочную жизнь свою. Но и она уже издалека очернена и подрыта. Что же остается делать честному человеку, и где может найти он убежище? Пример перед глазами вашего величества, Киреевский, молодой человек чистый совершенно, с надеждою приобрести хорошее имя, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых строках его находят злое намерение.Кто прочитает эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже этот автор представлен вам как человек безнравственный, и он, не известный лично вам, не имеет средства сказать никому ни одного слова в свое оправдание, уже осужден перед верховным судилищем, перед вашим мнением.
На дурные поступки его никто указать не может, их не было и нет; но уже на первом шагу дорога его кончена * . Для вас он не только чужой, но вредный. Одной благости вашей должно приписать только то, что его не постигло никакое наказание. Но главное несчастие совершилось. Государь, представитель закона, следственно сам закон, наименовал его уже виновным. На что же послужили ему двадцать пять лет непорочной жизни? И на что может вообще служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветою?
32. И. И. Козлову. 27 января <8 февраля> 1833. Верне, близ Веве *Давно сбираюсь писать к тебе, мой милый Иван Иванович, и чувствую перед тобою тяжкую свою вину, в которой просто прошу прощенья. Ты по своей дружбе, конечно, обо мне беспокоишься, но надеюсь, однако, что знаешь обо мне от наших приятелей; ты на это молодец: любишь своих друзей без флегмы и, верно, добился известий обо мне посредством Плетнева или Жилля от Мердера * . Я писал сам к Плетневу и просил его у тебя побывать, рассказать обо мне и приготовить тебя к получению письма моего. Теперь пишу сам. Вот тебе, во-первых, отчет о моей физике. Мне вообще лучше. Путешествие морем, шесть недель в Эмсе я брал теплые ванны, четыре недели в Велльбахе (близ Франкфурта) где я пил серные воды, воняющие гнилыми яйцами, но, несмотря на то весьма животворные, – все это поставило меня на ноги, и я приехал в Швейцарию есть виноград с новым румянцем на щеках, с бо́льшими силами, без одышки. Но в Швейцарии ход моего выздоровления остановился; не скажу, чтоб мне было хуже, чтобы выигранное было проиграно, – нет, но я двигаюсь вперед и еще не дошел до такого состояния, чтоб смело возвратиться на север. Надеюсь однако, что несколько месяцев такой жизни, какую теперь веду, возобновят совершенно мои силы и заведут снова расстроенную машину мою. Если б не действие моей болезни, которая мешает душе иметь живость и свежесть, если б не беспрестанное беспокойство, которое тянет меня назад, напоминая мне, что я оставил главное дело своей жизни, то моя здешняя жизнь имела бы много прелестей. Климат самый кроткий, природа великолепная, уединение, досуг, свобода – чего бы желать более? Ты уже знаешь, я полагаю, что я не поехал в Италию, и, верно, пожалею об этом. Если пожалел бы в Петербурге, то вообрази, как должен был пожалеть я здесь, у самого входа в Италию, здесь, откуда я в два дни мог быть за Альпами. И я выдержал трудную битву с самим собою, в которой благоразумие одержало победу. Жалею об Италии и теперь, но не раскаиваюсь, что ею пожертвовал: я бы себя только расстроил тревогами путешествия и самих наслаждений, от коих не имел бы сил отказаться, имея их под рукою, но кои были бы отравлены для меня моею болезнию. И климат для меня не потерян: по сию пору не было здесь зимы, и дни стоят вообще прекрасные. А нужнейшее для моего выздоровления спокойствие имею здесь вполне. Мой дом в поэтическом месте, на самом берегу Женевского озера, на краю Симплонской дороги; впереди Савойские горы и Мельерские утесы, слева Монтре на высоте и Шильон на водах, справа Кларан и Веве. Эти имена напомнят тебе и Руссо, и Юлию * , и Бейрона. Для меня красноречивы только следы последнего: в Шильоне, на Бониваровом столбе, вырезано его имя * , а в Кларане у самой дороги находится простой крестьянский дом, в котором Бейрон провел несколько дней и из которого он ездил в Шильон. Руссо не перенес здешних картин в свой роман; он ничего верно не выразил; ничего, что видишь здесь глазами, не находишь в его книге. И, не во гнев тебе будь сказано, нет ничего скучнее «Новой Элоизы» * ; я не мог дочитать ее и в молодости, когда воображению нужны более мечты, нежели истина. Попытался прочитать ее здесь и еще более уверился, что не ошибся в своем отвращении. Для великой здешней природы и для страстей человеческих Руссо не имел ничего, кроме блестящей декламации: он был в свое время лучезарный метеор, но этот метеор лопнул и исчез. Бейрон другое дело: многие страницы его вечны. Но и в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам – утешителям жизни * . Что такое истинная поэзия? Откровение в теснейшем смысле. Откровение божественное произошло от бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает здешнюю жизнь в здешних ее пределах. Поэзия Бейронова не выдержит этой поверки. – По той дороге, по которой, вероятно, гулял здесь Бейрон, хожу я каждый день, или влево от моего дома к Шильону, или вправо через Кларан в Веве. В обоих направлениях по три версты (взад и вперед 6 верст); я вымерял расстояние шагами, и каждая верста означена моим именем, нацарапанным мною на камне. Иногда в этих прогулках сочиняю и стихи; но теперь еще только переводил; может быть, если поболее слажу с болезнию, удастся написать и свое. Благодарю тебя за доставление твоих стихов: они очень милы. Я был в Эмсе. когда умерла Радзивил-Витгенштейн * , и вместе с старым фельдмаршалом и молодым вдовцом шел за ее гробом в церковь: это было в темную, звездную ночь. Мы шли тихо, а на другом берегу реки гремела музыка и плясали на бале. – Прости, милый, напиши мне о себе и обо всем, что со времени моего отъезда случилось в петербургском свете и в нашей литературе. Ты ничего не видишь, но все знаешь. Обними за меня своих, жену и детей. Особенно дружески пожми за меня руку Муравьеву * . Хочу весьма знать, что он делает. По глупой критике, напечатанной в «Северной пчеле» * , знаю о его «Битве Тивериадской» и должен думать, что трагедия не имела успеха; но уверен наперед, что в ней много красот, и требую от Муравьева, чтоб он не обращал внимания на неудачу (если подлинно была неудача); он поэт в благородном смысле сего слова и писать должен. Передай мое сердечное почтение графине Лаваль * и дружеский поклон Борху. Татьяну Семеновну * обнимаю. Тургенев пишет ко мне из Рима. Он здоров. Прости.
Жуковский.
Пиши чрез Жилля, то есть ему передавай свои письма.
33. Н. А. Маркевичу. 24 февраля 1834, С.-П<етер>бург *М<илостивый> г<осударь> Николай Андреевич, приношу вам искреннюю благодарность за доставление мне ваших «Украинских мелодий» * , которые прочитал я с живым удовольствием, и скажу вам, что в ваших стихах нашел много поэзии. Вы принялись разработывать богатую мину * народных преданий и ничего лучше сделать не можете, как продолжать идти этим путем. Мне даже кажется, что из одной работы могли бы вы сделать две: первая – поэтическоеобработывание народного; вторая – собраниеэтого народного в том виде, в каком оно существует в народе, то есть сказок, преданий, суеверий, пословиц, песен; и издание оного в оригинале с буквальным русским переводом, или, по крайней мере, с полным словарем. Этот последний труд был бы великою услугою отечественной словесности. Я уверен, что вы можете его предпринять и совершить с успехом. Сделанный вами опыт за то порукою: вы обогатили свои «Мелодии» весьма любопытными примечаниями * , кои доказывают, что с поэтическим талантом имеете вы и трудолюбие собирателя. Вы просите от меня советов: работайте, успех будет несомненный. Вы желаете от меня критики; это на письме трудно; да и на что вам критика? Вы свое дело знаете лучше меня. Оставим критику до возможного нашего свидания. От всего сердца благодарю вас за то, что говорите вы о стихах моих, и благодарю не потому, что самолюбие мое довольно похвалою, а потому, что вы нашли в написанном мною то именно, чего я сам всегда искал в поэзии и чем поэзия была для меня в жизни. В отплату за ваш подарок посылаю вам и своего добра. Если вам неизвестно * это собрание баллад моих * , то оно может быть интересно для вас, потому что в нем помещены многие новые. Примите уверение, и проч.
В. Жуковский.
34. С. Л. Пушкину. Февраля 15 <1837, Петербург> *Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда – непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?
И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась: в одном – чувством испытанного им наслаждения простить, в другом – живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею. Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин – славе Екатерины, а Карамзин – славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностию на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.
Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.
Опишу просто все, что со мноюбыло. В середу 27-го числа генваря в 10-ть часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву * . Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини * (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского * , князя Вяземского, князя Мещерского * , Валуева. На вопрос мой: «Каков он?» Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно».
Вот что рассказали мне о случившемся.
Дуэль была решена накануне (во вторник 26-го генваря); утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем полковником Данзасом * , он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д’Аршиаку * , секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну * и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Данзаса для условий с д’Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для его журнала) * ; в этом письме, довольно длинном * , он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в <пробел> часов. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное место было в лесу, у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн * с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé», [76]76
Я ранен (франц.).
[Закрыть]сказал он падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup». [77]77
Не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел (франц.).
[Закрыть]Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ляжки; эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!» Между тем кровь лила из раны; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.
Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» – опросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N’entrez pas», [78]78
Не входите (франц.).
[Закрыть]ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти. «Плохо со мною», – сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» – «Не могу вам скрыть, она опасная». – «Скажите мне, смертельная?» – «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано». – «Je Vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi», [79]79
Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек (франц.).
[Закрыть]– сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j’arrange ma maison. [80]80
Надо устроить мои домашние дела (франц.).
[Закрыть]Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» – спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» – сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» – «О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г<осподин> Плетнев здесь». – «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодною; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.
Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца. «Плохо мне», – сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, – говорил он Спасскому, – не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».








