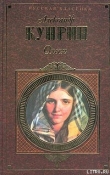Текст книги "Господин штабс-капитан (СИ)"
Автор книги: Василий Коледин
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Долой «лишенное доверия самодержавное правительство»! Долой поставленные им местные власти! Долой военных начальников! «Вся власть – народу»!
Эта демагогия и нескрываемая пропаганда имела успех в людских массах, и во многих местах, в особенности вдоль великого сибирского пути. Там образовались самозваные «комитеты», «советы рабочих и солдатских депутатов» и «забастовочные комитеты», которые ничего и никого не боясь захватывали власть. Сама сибирская магистраль перешла в управление «смешанных забастовочных комитетов», фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог.
Самозваные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из людей случайных, преимущественно из «более революционных» или имевших ценз «политической неблагонадежности» в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания, слушал речи встречавших поезда делегатов и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой!» не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в народных настроениях. «Долой!» и точка. А что взамен никто сказать не мог.
Официальные власти растерялись. Например во Владивостоке комендант крепости стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья подчинился всецело комитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими «народной самообороны», утверждал постановления солдатских митингов, передал революционерам всю почтово-телеграфную службу.
Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой, и с такой легкостью сдававших свои позиции, усугублялся еще тем обстоятельством, что, воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся на их головы манифестом. Именно непонятные им новые формы государственного строя, в которых чиновники поначалу не разобрались, были причиной временного отупения бюрократии. Тем более, что привычных «указаний свыше», вследствие перерыва связи со столицей, первое время совсем не было. А из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге и даже о падении царской власти…
Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Эти держатели пульса армии всегда были во главе любой смуты. Кроме мелких частей, был только один случай, когда весь офицерский состав полка, с командиром во главе вынес сумбурное постановление, о поддержке революционных масс. И то основным мотивом его было нежелание участвовать в «братоубийственной войне».
В это аморфное, непонятное и темное революционное движение влился и бунт демобилизуемых запасных солдат. Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и к речам делегаций, высылаемых на вокзалы «народными правительствами». Единственным лозунгом их был клич: – Домой!
Они восприняли свободу, как безначалие и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу. А в особенности, старались буйствовать возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушались ни своего начальства, ни комитетского, требуя только возвращения домой, сейчас, вне всякой очереди и, не считаясь с состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении почти в 10 тысяч километров Сибирского пути.
Под давлением этой буйной массы и требований «железнодорожного комитета», начальник железной дороги, имевший в своем распоряжении законопослушные войска маньчжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам целыми частями и приказал начать перевозку в первую очередь всех запасных. При этом, вместо того, чтобы организовать продовольственные пункты вдоль Сибирской магистрали, и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали одних, выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги естественно пропивались тут же на Харбинском вокзале на ближайших станциях, по дороге понемногу распродавался нехитрый солдатский скарб, а потом, когда ничего больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки. Революция!
Достойно удивления, как в таких условиях в армейских частях сохранялась дисциплина.
Самое бурное время, а это, наверное, ноябрь 1905 – январь 1906, я провел в поезде на Сибирской магистрали, пробираясь из Манчжурии в Петербург. В Харбине я сел на почтовый поезд. Провожать меня было некому. Семьей я не обзавелся по причине своей молодости. А мои родители были далеко. Никто не махал мне с перрона и не тосковал после моего отъезда. Ехал я бесконечно долго. Еще год назад я мчался по единой и не делимой империи а теперь еле тащился по целому ряду новоявленных «республик» – Иркутской, Красноярской, Читинской и других бывших губерний. Неделями я жил среди эшелонов запасных, катившихся, как саранча, через Урал домой. Скорее по необходимости, чем по собственному желанию я наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское море. Несогласованность в распоряжениях «республик» и ряд частных забастовок иногда вовсе приостанавливали движение: в Иркутске, где нам пришлось поневоле прождать несколько дней, скопилось до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продовольствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными в Иркутске. Слава Богу, капитан, с которым мы разместились в одном купе, оказался человеком умным и прозорливым. Он взял опекунство надо мной.
Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100-150 километров в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных. Поезд не выпускали со станций. Однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке, без буфета и воды – на том же, где накануне заснули… Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, отцепили и захватили наш.
Всем стало очевидным, что с «легальностью» никуда не доедешь. По вагонам прошлись подполковник и капитан. Они убедили всех офицеров прибыть в шестой вагон. Мы, двадцать оказавшихся в поезде офицеров, собрались в указанном вагоне и провели в духе того времени «революционное» собрание. Выбрали старшего, командира одного из Сибирских полков, и объявили его комендантом поезда. Подполковник и капитан, те, что ходили по вагонам были назначены его заместителями. Собранием был назначен и караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне – старший. Один из прапорщиков, сейчас уже не помню его имени и фамилии предложил собрать деньги для выплаты суточных солдатам, дежурившим по поезду. Все поддержали эту идею. Получилось по 60 копеек суточных на человека. И, удивительно, охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух «революционных» вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако, не очень энергичный.
В тот же день группа «революционного комитета» нашего состава приступила к своим обязанностям. От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, мы отцепили паровоз. Немногочисленные протесты его пассажиров натолкнулись на свирепое молчание нижних чинов и едва заметные стволы револьверов офицеров. И с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Нельзя сказать, что все пошло, как по маслу. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами. По телеграфу революционные разбойники сообщали вперед по нашему маршруту о необходимости остановить взбунтовавшийся эшелон. Впереди нас поджидали другие конкуренты, с целью преградить нам путь и лишить нас паровоза. Но, при виде наших организованных и вооруженных команд, напасть на нас никто не решался. Пышущие бессильной ненавистью наши враги действовали исподтишка. Нам вслед в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризованные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз, при приближении нашего поезда, вместе со всем служебным персоналом, скрывались в леса. Наш поезд прозвали «черным тараном». Уже через неделю такой езды мало кто решался столкнуться с нами в открытом поединке. Бог хранил нас. Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество, всем хотелось попасть домой к празднику.
Самым серьезным участком пути оказался участок перед Москвой. Под Самарой случилось непредвиденное. Нас остановила у семафора частная забастовка машинистов. Все пути были забиты, и движение невозможно.
– Когда можно будет следовать дальше? – строго спросил наш комендант у начальника станции.
– Не могу знать Ваше высокоблагородие! И когда восстановится, неизвестно – отвечал дрожащим голосом испуганный начальник.
К довершению беды сбежал из-под караула наш машинист. Нам опять пришлось собраться всем офицерам, чтобы обсудить сложившееся положение.
– Что делать? – первым взял слово полковник. – Ехать дальше мы не можем. Машинистов нет. Кто-нибудь имеет навыки управления паровозом?
Все молчали. Никто не знал, что делать дальше. Каково же было общее изумление, когда из «революционных» вагонов нашего поезда пришла к коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов.
– Но только, чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их нужно силой! – предложил один из явившихся машинистов.
Мы снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов, на которых указала делегация. Дежурному по Самарской станции комендант поезда передал по телефону категорическое приказание:
– Через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь через станцию. Чтоб путь был свободен!
– Есть! – ответил запуганный дежурный.
Поезд под управлением новых машинистов развел пары, взвизгнул и, медленно набирая ход, помчался дальше.
– Слава Богу! Проехали благополучно, – перекрестился полковник.
В дальнейшем поезд шел нормально, и я добрался до Петербурга в самый сочельник. Вот, что значит строгая дисциплина, грамотность командования, желание всего состава достичь цели. Этот наш «революционный» рейд в модернизованном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных «республик» и озверелых толп.
ГЛАВА 8.
Шесть с половиной месяцев до.
Пасха. Уже тепло. Молодая зелень так и буйствует. Нежные, еще чистые, нетронутые ни ветром, ни дождем, ни гарью войны листочки распускаются и тянутся к солнцу, не зная, что их ждет впереди. На фронте стоит затишье. Мы не наступаем, противник не контр наступает. Паритет. Хотя неприятель и обстреливает нас ежедневно, но только это и напоминает о войне. Мы отвечаем ему тем же, однако больших и серьезных боев нет. Полк наш стоит в маленьком населенном пункте со странным названием Годыновка. Это тыл, но не глубокий. Городок маленький, грязненький и тихий. В нем два православных храма, один немного больше другого. Купола у обоих не золотые, а покрытые зеленой краской. Их архитектура представляет собой нечто среднее между русскими и католическими церквями. Один из них стоит на берегу тихонькой речушки Мольниця, она узкая, спокойная и неторопливая. Берега ее заросли камышом, в зарослях которого просматриваются притаившиеся мальчишки с выставленными вперед удилищами. Через Мольницу перекинут единственный деревянный мост, по которому раз в час скрипит какая-нибудь телега, груженая деревенским скарбом.
День стоит яркий, солнечный и довольно теплый. Местное население с утра кучкуется возле обоих храмов. Значит местные преимущественно православные. Моя рота в полном составе красит яйца в котелках на открытом огне. Офицеры, расквартированные по зажиточным хатам, довольствуются приготовленными хозяевами атрибутами пасхи. Мы все собираемся идти к храму на службу. Вскоре солнце садиться и нас охватывает пасхальное настроение. Ближе к одиннадцати у храма собирается огромная толпа из местных жителей, солдат полка и офицеров. Бабы в платках и с корзинами, в которых просматриваются куличи и красные яйца. Храм украшен белыми цветами. Священники, то и дело проходящие туда-сюда одеты торжественно.
За полчаса до полуночи в алтарь через Царские врата священник и диакон на своих головах вносят полотно с изображением Христа в гробу – плащаницу. Служители полагают ее на престоле. Здесь плащаница находится до отдания Святой. Вскоре начинается и сама праздничная служба. Пение в эту ночь особенно радостное и какое-то легкое, в церкви много свечей и в их свете таинственно золотятся оклады икон. Служба сопровождается колокольным перезвоном.
– Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити! – трижды поют священники. Заканчивают пение стехиры хор в середине храма и все молящиеся. Вслед за этим начинается трезвон.
И вот из церкви выходит Крестный Ход и мы дружной толпой обходим вокруг храма с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе…». Толпа останавливается у западных ворот храма, словно у дверей гроба. В этот момент трезвон стихает. Настоятель церкви берет кадило и окутывает ароматом ладана иконы и всех молящихся. Затем он берет в свободную руку крест с трисвешником и становится лицом на восток. Кадилом священник начертывает перед закрытыми воротами знамение Креста и начинает Светлую утреню. Вслед за этим двери храма открываются и взору молящихся является внутренние покои, украшенные свечами и цветами.
Постепенно небо окрашивается в серые тона. Светает. Народ внемлет каждому слову, каждому движению священника. И тут, когда совсем ненадолго воцарилась кроткая тишина, я услышал знакомый шум в воздухе и, подняв глаза, увидел в синеющем небе совсем низко над собором два вражеских самолета. Быстро оглядев всех близ меня стоявших, я с какой-то непонятной радостью убедился, что все достойно и спокойно продолжают молиться, нисколько не выражая тревоги. Торжественное пение хора неслось ввысь навстречу небесному врагу. Вдруг раздался сильный взрыв и треск упавшей бомбы. Было очевидно, что она попала в крышу одного из ближайших домов. Молебен продолжался. Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло, все женщины и молодые девушки стояли по-прежнему спокойно. Но к ужасу своему, я вдруг заметил, что не только голос главного священника дрожит, но губы его посинели, и он, бледный как полотно, не может продолжать службу. Крест дрожит в его руке, и он чуть не падает. Спасли положение второй священник, дьякон и певчие, заглушившие этот позор перед всеми стоявшими несколько дальше. Молебен благополучно окончился. В завершении Пасхального торжества раздалось радостное пение, и все присутствующие под колокольный звон стали подходить к Кресту Господнему. Послышались со всех сторон праздничные приветствия:
– Христос воскресе! – говорили одни.
– Воистину воскресе! – отвечали другие.
Тем временем вражеские самолеты сбросили еще несколько бомб, но они попали уже в болото за городом. Наша артиллерия быстро их обстреляла и выпроводила восвояси. Уже после я узнал, что бомба разрушила верхний этаж одного из больших домов, убила и искалечила несколько жильцов, но, что все необходимые меры помощи приняты и пожар потушен.
После торжеств я невольно стал свидетелем одной сцены. Наш командир полка, полковник Зайцев подошел к перетрусившему попу, служившему литургию. Священник стоял перед полковником, как провинившийся гимназист. Я не услышал все, что говорил ему Зайцев, но и то, что долетело до моего слуха, красноречиво говорило о том, как полковник распинал священника.
– … и во время прежних войн и во время нашей последней, – горячо говорил раскрасневшийся командир полка, – я видел и слышал о бесконечных героических подвигах духовенства, но вот такой срамоты, какой Вы, отец, меня угостили сегодня, ни разу мне не доводилось быть свидетелем! Стыдно! Стыдно и срамно!
Признаться, мне стало не приятно от увиденного. Я не стал дослушивать резкую отповедь и пошел в свою хату. За храмом я столкнулся с тремя сестрами милосердия. Они были одеты, словно исполняли свой служебный долг – в строгие платья до земли и белые фартуки с красными крестами. Правда, никаких головных уборов. Сестрички были в прекрасном настроении, они прыскали от смеха по любому поводу. Когда какая-нибудь из них что-то рассказывала, другие, не слушая ее, перебивая друг друга, пытались дополнить ее рассказ. Они заметили меня еще издалека, как только я вышел из-за угла церкви.
– Христос воскресе! – приветствовала меня одна из них, самая смелая, когда я поравнялся с ними.
– Воистину воскресе! – ответил я, широко улыбаясь.
– А поцелуй господин штабс-капитан?! – смеясь, сказала другая.
Мы поцеловались, после чего ко мне пододвинулась вторая, та, что потребовала поцелуй.
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – и мы поцеловались троекратно и с ней.
Третья сестричка, стояла в сторонке и скромно улыбалась, стараясь не смотреть мне в глаза. Она была самой красивой из всех. Волнистые русые волосы были убраны в тугой и большой узел на затылке. Прядь непослушных волос, не подчинившихся желанию хозяйки, завитками упал на лоб. Огромные серые глаза, словно глубокие омуты, призывали утонуть в них. Правильный овал лица, даже не намекал на азиатские корни. Прямой маленький носик, небольшой подбородок и пухленькие губы. Строгое платье не смогло скрыть ее красивую, стройную фигуру. Ей было лет двадцать пять. Я подошел к ней и, взяв аккуратно за плечи, стал целовать, приговаривая при этом:
– Христос воскресе…
– Воистину воскресе, – скромно ответила девушка, практически не отвечая на мои поцелуи.
После христосования со всеми я остановился в нерешительности. И, слава Богу, бойкая сестричка, та, что была первой, взяла всю инициативу на себя. Мы познакомились. Первую звали Светлана, вторую Катерина и третью, самую красивую, ту, что приглянулась мне, звали Маша. Я тоже представился.
– Вы куда сейчас? – спросила Светлана.
– Домой, спать…
– Ой! Кто ж спит в такой праздник?! Поедемте с нами!
– А куда?
– Сейчас все едут в Тернавку. Там будет большой праздник!
В Тернавке в то время стоял штаб дивизии генерала Николина.
– А на чем вы собрались ехать? – спросил я.
– Так вы поедете? – переспросила меня Катя.
– А есть на чем? – ответил я вопросом на вопрос.
– Пойдемте с нами!
Девушки подвели меня к двум бронеавтомобилям Никашидзе. Подпоручик в кожаной куртке, галифе и шлеме, на котором сверкали мотоциклетные очки, стоявший возле одного из них, при моем появлении выпрямился и отдал честь. Я ответил ему тем же.
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!
Мы поцеловались. Девушки тоже похристосовались с ним. Я понял, что они все знакомы. Я невольно вспомнил о том, как много наветов и грязных рассказов ходило о сестрах милосердия вообще и как это меня всегда возмущало. Спору нет, были всякие между ними, но я всегда считал, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работало, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы над окровавленными страдальцами – нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито…
– Вы с нами, господин штабс-капитан? – спросил меня подпоручик.
Я охотно согласился. Мы все кое как уместились в одной из бронемашин и поехали по направлению к Тернавке, поближе к передовым позициям. Я сидел сзади на диванчике между Катей и Машей. Всю дорогу они смеялись, и веселью нашему не было конца.
Удивительно, на что только наш солдат не способен, чего он только самодельно, с большим искусством не наладит!
На большой поляне перед лесом, в котором были расположены землянки этой дивизии, нас и многих других, что приехали на телегах и автомобилях, поместили как зрителей удивительного зрелища: солдаты, наряженные всевозможными народностями, зверями, в процессиях, хороводах и балаганах задали нам целый ряд спектаклей, танцев, состязаний, фокусов, хорового пения, игры на балалайках. Смеху и веселья было очень много. Но вся эта музыка, шум и гам прерывались раскатами вражеской артиллерийской пальбы, которая здесь была значительно слышней, чем в Годыновке. Но несмотря ни на что среди солдат и офицеров царило такое беззаботное веселье, что любо-дорого было смотреть.
В какой-то момент представления подпоручик отвел меня в сторону от наших сестричек и прямо спросил:
– Вы случайно не волочитесь за Светланой?
– О! Нет! Будьте покойны! Мне по нраву Мария.
– Простите меня, штабс-капитан! Я просто неравнодушен к Светлане.
– Ничего, подпоручик, – успокоил я его. – Однако бойкая барышня. Можно пожелать Вам только удачи.
– Хм, – усмехнулся офицер, – спасибо. Что Вы думаете делать дальше? Маша очень скромна и целомудренна.
– Прекрасно! А что будете делать Вы? Я имею в виду после представления, – пояснил я.
– Мы все, в том числе и Маша, собирались вернуться в Годыновку. Там есть неплохая корчма, знаете по дороге за мостом, на другой стороне реки. Хотите, поедемте с нами? – предложил подпоручик.
– Если барышни не будут возражать, то с удовольствием!
Мы вернулись к месту, с которого ушли. Наши знакомые сестры, будто бы не заметили отсутствия своих провожатых. Они хлопали в ладоши от восторга, наблюдая за ходом представления. Я встал возле Маши и она, заметив мое присутствие, немного напряглась. Это чувствовалось в ее поведении. Она то и дело косила взгляд своих серых глаз на меня. Но совсем скоро Маша расслабилась и даже оперлась спиной на меня. Я взял ее за руку, и она не выдернула ее из моей горячей ладони.
ГЛАВА 9.
Моя служба в мирное время.
Из Петербурга я был направлен в пехотный полк и прибыл к нвому месту службы в город Белу, Седлецкой губернии.
Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт нашего полка и жизнь городка переплетались очень тесно.
Население Белы не превышало 8 тысяч человек. Из них около 5 тысяч по национальности были евреи, остальные считали себя поляками и немного русскими – главным образом это были служилые люди, такие, как я, их семьи.
Евреи держали в своих руках весь город и всю городскую торговлю, они же были поставщиками, подрядчиками, мелкими комиссионерами, так называемыми «факторами». Без «фактора» нельзя было ступить ни шагу. Они облегчали нам хозяйственное бремя жизни, доставали все – откуда угодно и что угодно. Через них можно было обзаводиться обстановкой и одеваться в долгосрочный кредит, перехватить денег под вексель на покрытие нехватки в офицерском бюджете. Ибо бюджет был очень скромный.
Возле меня проходила жизнь местечкового еврейства – внешне она казалось открытой, по существу же – совершенно замкнутая и нам русским не понятная и даже чуждая. Там создавались свои обособленные взаимоотношения, свое налогообложение, так же исправно взимаемое и покорно выплачиваемое, как государственным фиском, свои негласные нотариальные функции, свой суд и расправа. Все это чинилось кагалом, почитаемыми цадиками и раввинами. У них была своя система религиозного и экономического бойкота.
Среди пяти тысяч бельских евреев, наверное, был только один интеллигент – доктор. Прочие, не исключая местного «миллионера», держались крепко своего «старого закона» и обычаев. Мужчины носили длинные «лапсердаки», женщины – уродливые парики, а своих детей, избегая правительственной начальной школы, они отдавали в свои средневековые «хедэры» – школы, допускавшиеся властью, но не дававшие никаких прав по образованию. Редкая молодежь, проходившая курс в гимназиях, не оседала в городе, рассеиваясь в поисках более широких горизонтов.
То специфическое отношение офицерства к местечковым евреям, которое имело еще место в шестидесятых, семидесятых годах, прошлого века отошло уже в область преданий. Буянили еще изредка неуравновешенные натуры, но выходки их оканчивались негласно и прозаически. Виновных ждало вознаграждение от потерпевших и неминуемая командирская кара.
Мы, связанные сотнями нитей с еврейским населением Белы в хозяйственной области, во всех других отношениях жили совершенно обособленно от него. Евреи не допускали в свой закрытый мир никого из чужаков. Но и своих они старались не выпускать.
Однажды на почве этих отношений Бела потрясена была небывалым событием…
Немолодой уже подполковник нашего полка влюбился в красивую и бедную еврейскую девушку. Он взял ее к себе в дом и дал ей приличное домашнее образование. Так как они никогда не показывались вместе, и внешние приличия были соблюдены, начальство не вмешивалось. Молчала и еврейская община.
Но когда прошел слух, что девушка готовится принять лютеранство, мирная еврейская Бела пришла в необычайное волнение. Евреи грозили не на шутку убить ее. В отсутствие подполковника большая толпа их ворвалась однажды в его квартиру, но девушки там они не нашли. В другой раз евреи в большом количестве подкараулили несчастного счастливца на окраине города и напали на него. О том, что там произошло, обе стороны молчали, можно было только догадываться… Мы были уверены, что, по офицерской традиции, не сумевший защитить себя от оскорбления подполковник будет уволен в отставку. Но произведенное по распоряжению командующего войсками округа дознание окончилось для подполковника благополучно. Он был переведен в другой полк и на перепутье, обойдя формальности и всякие препятствия, успел-таки жениться на своей избраннице. Правда потом его перевели, и они вместе с молодой женой уехали куда-то в Сибирь.
Польское общество мало чем отличалось от еврейского и так же жило замкнуто, сторонилось и русских, и евреев. С мужскими представителями его мы встречались на нейтральной полосе – в городском клубе или в ресторане, играли в карты и вместе выпивали, иногда даже вступали с ними в дружбу. Но домами не знакомились. Польские дамы были более нетерпимыми, чем их мужья, и эту нетерпимость могло побороть только экстраординарное увлечение…
Наше офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и каких-либо столкновений на национальной почве у нас никогда не бывало.
Русская интеллигенция Белы была немногочисленна и состояла исключительно из военного и обслуживающего гражданского люда. В этом кругу сосредотачивались все наши внешние интересы. Там «бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали и женились.
Из года в год всё те же, и всё то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредала в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы – «чеховские будни». Только деловые и бодрые, без уездных «гамлетов», без нытья и надрыва. Поэтому, вероятно, они не засасывали и вспоминаются теперь с доброй улыбкой.
В такой обстановке прошло с перерывами в общей сложности шесть лет моей жизни.
Мои два старших товарища, одновременно со мной назначенные в полк, сделали визиты всем в городе, как тогда острили, «у кого только был звонок у подъезда». И всюду бывали. Я же предпочитал общество своих молодых товарищей. Мы собирались поочередно друг у друга, по вечерам играли в винт, преферанс умеренно пили и много пели. Во время своих собраний наша молодежь разрешала попутно и все «мировые вопросы», весьма, впрочем, просто и элементарно.
Государственный строй был для нас, офицерства фактом предопределенным, не вызывающим никаких ни сомнений, ни разнотолков. «За веру, царя и отечество»! Отечество воспринималось горячо, как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа – без анализа, без достаточного знания его жизни. Мы не проявляли особенного любопытства к общественным и народным движениям и относилось с предубеждением не только к левой, но и к либеральной общественности. Левая отвечала нам враждебностью и призрением, а либеральная – большим или меньшим отчуждением.
Когда я приехал в полк, им командовал полковник Щеткин. Это был один из вымиравших типов старого времени. Человек пожилой, если не сказать даже старый, слишком добрый, слабый и несведущий, чтобы играть руководящую роль в полковой жизни. Но то сердечное отношение, которое установилось между офицерством и полковым командованием, искупало его бездеятельность, заставляя всех работать за совесть, с бескорыстным желанием не подвести часть и добрейшего старика. Не малое влияние на полк оказывал и тот боевой дух, который царил в Варшавском округе.
Наконец, батальонами у нас командовали две крупные личности, капитаны Стоянов и Алмосов, по которым равнялось все и вся в полку. Их батальоны были лучшими в сборе. Их любили, как лихих командиров и, одновременно, как товарищей-собутыльников, вносивших смысл в работу и веселие в пиры. Особенно любила и уважала их молодежь, находившая у них и совет, и заступничество.
Словом, в полку кипела работа, выделявшая его среди других частей. Но на втором году моей службы полковник Щеткин умер. Доброго старика искренно пожалели. Никто, однако, не думал, что с его смертью так резко изменится судьба полка. Вскоре к нам приехал новый командир, подполковник Штайх.
Этот человек с первых же шагов употребил все усилия, чтобы восстановить против себя всех, кого судьба привела в подчинение ему. Человек он оказался грубый по природе, после производства в полковники, стал еще более груб и невежлив со всеми – военными и штатскими. А к нам, обер-офицерам относился так презрительно, что никому из нас не подавал руки. Он совершенно не интересовался нашим бытом и службою, в батальоны просто не заходил, кроме дней полковых церемоний. При этом один раз, на втором году командования, он заблудился среди казарменного расположения, заставив прождать около часа весь полк, собранный в строю на плацу.
Он совершенно замкнулся на канцелярию, откуда то и дело сыпались предписания, запросы, приказы, циркуляры и прочая бумажная ерунда. По форме они были резкие и ругательные, по содержанию – обличавшие в Штайхе не только отжившие взгляды, но и незнание им военного дела. Сыпались совершенно ни за что на почти всех офицеров и взыскания, даже аресты на гауптвахте, чего раньше в полку не бывало ни разу. Словом, сверху – грубость и произвол, снизу озлобление и апатия. И все в полку перевернулось.


![Книга Штабс-капитан Круглов. Книга вторая [СИ] автора Глеб Исаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shtabs-kapitan-kruglov.-kniga-vtoraya-si-369261.jpg)