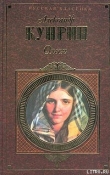Текст книги "Господин штабс-капитан (СИ)"
Автор книги: Василий Коледин
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
господинъ штабсъ-капитанъ.
Глава 1.
Спасение.
Ноябрь в этих местах выдался не по-европейски холодным. Первый снег выпал уже в начале ноября. Но, тем не менее, морозы стояли мягкие, совсем не сибирские. Моя шинель легко справлялась с умеренным холодом. Портупея ладно прижимала толстое рубище к плечам и спине, сжимая поясницу и не пропуская холодный воздух к груди. Теплый башлык грел шею, уши и щеки, компенсируя несерьезность военной фуражки. Сапоги хоть и не на меху, но ладные, не дырявые, давали возможность обмотать ноги теплыми портянками, так, что они не мерзли. Одну руку я держал в кармане, а вторую аккуратно засунул наподобие Наполеона. Перчатки были где-то успешно утеряны. Я был рад, что шел по раскисшей дороге на юге Европы, а не на севере России.
Вокруг меня царило одиночество. Странно, но такое невозможно было представить себе здесь каких-нибудь год, два назад. Эти поля и сады были летом и осенью ухожены, а на зиму аккуратно спать уложены. Темные, тяжелые тучи нависали прямо над головой. На горизонте, однако, они разрывались, и я видел небольшой кусочек голубого неба.
Задумчивость, усталость и ноющая рана ввели меня в состояние какой-то отрешённости. Я смотрел вокруг себя и не ничего не замечал. Наверное, именно поэтому я не заметил приближение ко мне людей.
– Whoa! Lassen Sie Ihre Waffe! Hande hoch! – голос, выкрикнувший эти короткие немецкие приказы, был хриплым и очень похожим на собачий лай. Но не обычный лай благородного животного с приличной родословной, а на тот, что издает сторожевая собака после десяти-пятнадцати минут непрерывного лая. Она лает в подворотню, а проходивший мимо прохожий продолжает ее злить и никуда не уходит. Цепной пес беснуется, рвется, но ему мешают добраться до горла проклятого пешехода крепкая цепь и добротные ворота. Это уже не лай, а какой-то изможденный хриплый рев.
Я остановился и медленно поднял одну здоровую руку вверх. Мне нечего было бросать на землю. Мой наган лежал где-то в кустах, в десяти километрах отсюда совершенно пустой, без единого боевого патрона. Только пустые гильзы заполняли его барабан. На правом боку бесполезно болтались лишь ножны от шашки. Ее самой тоже не было. Ее я оставил на захваченной высоте. Используя ее как лопату и кирку, я сломал шашку пополам. Проку от такого оружия не было, посему я воткнул обломок с рукояткой в землю рядом с могилой.
Медленно повернувшись, я увидел двух всадников в серых мундирах австрийских императорских войск. Тот, что отдавал мне приказы, оказался унтер офицером, а второй был в форме рядового пехотного полка и пока не произнес ни единого слова. Унтер обладал шикарными пышными усами, явно давно не стриженными, потому что я заметил, как он часто их поправлял, когда они лезли ему в рот. Рядовой был совсем юным безусым студентом. Почему я решил, что он студент, признаться, сказать не могу. Вероятно, его очки заставили меня об этом подумать. Странно, отчего и с каких пор австрийская пехота пересела на лощадей? И где остальные неприятели? Почему их только двое. Я незаметно огляделся. Вокруг кроме нас никого больше не увидел.
Фельдфебель молча кивнул в мою сторону и рядовой спешился. Солдат передал свою винтовку командиру, который направил ее дуло мне прямо в лоб. Потом студент нерешительно подошел ко мне и стал обыскивать мои карманы на шинели и под ней. Солдат довольно вежливо обходился со мной, стараясь не причинить ни боли, ни других неудобств, видимо мои погоны штабс-капитана вызывали в нем уважение и трепет, и если бы не преимущество его «армии» в данной ситуации, то он не посмел бы себе даже подойти ко мне. Закончив обыск, рядовой вернулся к своей лошади и отрицательно покачал головой, сказав при этом несколько слов на немецком, которые я не понял. Мой немецкий не выходил за пределы гимназического курса.
– Wer bist du? Wohin gehst du? – вновь обратился ко мне унтер.
– Ich verwundet … – я показал кивком головы на свою перебинтованную руку, вглядывающую через разрезанный рукав шинели. На бинтах ясно виднелась запекшаяся кровь. – Мeknya keine Waffen haben …
– Wohin gehst du? – вновь строго спросил усатый фельдфебель.
– Offenbar – in Gefangenschaft – с нескрываемым сарказмом вздохнул я.
Австрийцы переглянулись. И я скорее почувствовал, нежели увидел их нерешительность. Их молчание я истолковал в свою пользу. Скорее всего, у них не было в планах тащить с собой пленного русского офицера, да к тому же еще и раненного.
Вражеские лошади чувствовали то же, что и их седоки, отчего нетерпеливо топтались по грязному снегу, крутя крупами то влево, то вправо. Наконец фельдфебель что-то для себя решил. Он резко ударил свою лошадь ногами в бока и направил ее на меня. От неожиданности животное встрепенулось и рвануло вперед, не замечая стоящего перед ней человека. В одно мгновение, поравнявшись со мной, унтер со всей силы пнул меня в плечо ногой. Резкая боль пронзила все мое тело и я, не удержавшись на ногах, упал прямо на больную руку. Уже лежа в луже из растаявшего снега я услышал топот удаляющихся копыт. Вражеские солдаты бросили меня, решив не брать в плен.
Кряхтя и матерясь, я с трудом поднялся на ноги. Шинель и без того грязная стала еще грязней. Правая ее сторона сильно намокла. «Черт как бы теперь не замерзнуть сегодня ночью и не простудиться!» – пролетела у меня в голове мысль.
Посмотрев на удаляющиеся фигурки всадников, я отряхнул мокрые комочки снега с шинели и, стараясь не наступать в лужи, поплелся дальше. Проселочная дорога, по которой я шел, едва ли могла считаться дорогой. Видимо совсем недавно по ней прошел пеший строй, отчего мокрый снег превратился в кашу из грязи и полузамерзшей жижи. Сапоги, как я ни старался, часто погружались в лужи, чуть-чуть не черпая воду внутрь. Но уходить с дороги мне не хотелось. Я совсем не знал эту местность и мог легко заблудиться. А идя по ней, у меня оставалась надежда выйти к какому-нибудь населенному пункту. Конечно, была и вероятность нарваться на австрияков, как это произошло несколько минут назад. Но наше наступление или, возможно, стремительное бегство вселяли в меня надежду на лучший исход. В этой неразберихе проще будет скрыться от врага, чтобы тот не делал, отступал ли или наступал. Мне нужно дойти до любого населенного пункта и там дождаться наших! Оставаться здесь среди полей и холмов без крыши над головой – означало медленную, но верную смерть. Рана, хоть и несерьезная, могла спровоцировать осложнения, которые совместно с холодом и сыростью неминуемо приведут к моей кончине. Голод напоминал о себе резкими болями в животе. Надо идти! Не стоять и как можно меньше отдыхать. И я шел, шел, шел.
Почему австрийцы не убили меня? Пожалели? Возможно. А может, просто у них не было патронов? Хм. Скорее всего, да. А если и был, то один. Я вспомнил, как рядовой передал винтовку унтеру. И тот якобы прицелился в меня, но стрелять не стал, а просто свалил с ног. Да! Верно. Теперь не нарваться бы еще и на других! Сколько их бродит теперь по дорогам!
Примерно через час я доковылял до небольшой деревеньки. Каменные дома стояли вдоль раскисшей дороги в ряд. Все они были раскрашены в неповторяющиеся цвета постельных тонов. Ни один дом не был по цвету похож на другой. Я с таким способом индивидуализировать свои дома уже встречался раньше в Румынии. Пройдя вдоль улицы и осматривая приусадебные участки, я старался найти работающих во дворах крестьян или хотя бы их следы. Но везде мне попадались лишь пустые дворы, закрытые глухими ставнями окна и немного пугающая, но уже знакомая тишина.
Только возле четвертого дома я заметил во дворе крадущуюся женщину. На ней был темно-синий полушубок, платок красного цвета и валенки. Подойдя поближе к забору, я окликнул ее. Мне показалось, что ей никак не меньше шестидесяти лет.
– Bine ai venit! – это практически все, что я успел выучить по-румынски, поэтому сразу же перешел на русский. – Не пустите переночевать? Я раненый, но я не доставлю вам хлопот! Я только переночую и уйду!
Женщина испуганно смотрела на меня, и, казалось, совсем меня не понимает. Ее молчание и то, что она не убежала от меня сразу же в дом, я расценил, как возможность уговорить ее пустить меня на ночь. Меня осенила мысль. Что может быстрее достучаться до сознания крестьянина?! Я достал из кармана гимнастерки купюру достоинством в десять рублей и протянул ее старушке.
– Вот это все, что у меня есть. Конечно не бог весть, какие деньги, но они ведь вам пригодятся!
Вид красной купюры немного успокоил женщину, и она уже не так испуганно посмотрела на меня.
– Vrei sa ramai? – наконец полушепотом произнесла хозяйка дома.
– Да, да! Это вам! Возьмите! Я плачу за ночь!
– Ace?ti bani rusesc? – спросила она
– Я не понимаю, о чем вы говорите! Пустите погреться и переночевать!
– E?ti ranit? Noi nu avem un doctor!
– Мне не нужен доктор! Мне просто надо переночевать! – продолжал я ее уговаривать.
Наконец женщина осмелела и подошла к забору. Я протянул ей червонец. Она взяла его и махнула мне рукой, предлагая идти за ней. Я пошел вдоль забора к калитке, которую она открыла, чтобы запустить меня. Вслед за ней я поднялся на крыльцо. Следуя за ней, я снял с головы башлык, в который кутался все это время и остался в одной фуражке на голове. Меня тут же пронзил холодный ветер, который обжег уши. Благо женщина отворила широко дверь в дом и кивком головы пригласила меня войти первым. Мне пришлось немного склониться, так как проход был невысокий. Войдя внутрь, я почувствовал тихое тепло деревенского жилья, сняв фуражку и, увидев образы, я перекрестился. Слава тебе, Господи! Спасен!
Моя спасительница скинула с себя свой темный тулуп, который в доме стал черным. Я тоже расстегнул ремень и аккуратно, чтобы не задеть раненую руку, снял свою шинель, оставшись в гимнастерке.
Мы прошли в большую комнату с печкой. Дрова уютно потрескивали в ней, отдавая тепло, полученное за летние солнечные дни. Хозяйка подошла ко мне и знаками спросила у меня разрешение осмотреть мою руку. Поняв ее, я кивнул головой. Женщина аккуратно провела меня к столу и усадила за стол, сев рядом со мной. Потом она положила мою раненную руку себе на колени и размотала бинт, стараясь тихонько отрывать его от спекшейся крови. Закончив разматывать, она бросила бинт на пол и внимательно осмотрела рану. Кровь уже запеклась на входном отверстии и не бежала, а лишь тихонько сочилась. Выходное отверстие почти затянулось и покрылось темно коричневой коркой. Моя хозяйка встала и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась с медным тазом, который поставила на стол. С печи она принесла чайник и налила из него теплой воды в таз.
Промыв мою рану, и переложив руку на принесенное ранее полотенце, женщина вновь удалилась и возвратилась с чистым бинтом. Осторожно, но очень умело, она наложила повязку.
– Спасибо! – искренне поблагодарил я ее.
– Totul va fi bine, – сказала хозяйка, похлопав меня по коленке.
– А! bine – это хорошо, да? Я понял! Спасибо!
– Acum va voi hrani, – она встала и принялась накрывать на стол.
На нем появилась домотканая скатерть, через мгновение женщина поставила тарелку с черным ржаным хлебом, нарезанным толстыми ломтями. С печи она принесла котелок с вареной картошкой, кастрюлю с мамалыгой, из шкафа достала завернутое в тряпку сало, которое развернув, нарезала большими кусками. Потом она поставила передо мной тарелку и положила ложку. Жестом руки она пригласила меня отведать ее угощение.
Я обернулся к образам и, перекрестившись, набросился на еду. Приютившая меня женщина встала возле стены и, скрестив на груди руки, смотрела на то, как я уплетаю еду за обе щеки. Посмотрев недолго на то, как я ел хозяйка, стала суетиться возле печки. Она из ведра набрала в чайник воды и поставила его на печь. Когда вода закипела, в чайник посыпались сухие травы, и комната наполнилась ароматом летнего поля. Вскоре закопченный чайник оказался на столе, а за ним и фарфоровая чашка. Я налил в нее ароматного напитка, настоянного на местных травах.
Конечно же, после пронизывающего холода наступающей зимы, после сытной еды в тепле деревенского дома мне захотелось спать. Глаза мои закрывались, а рот раздирался от зевоты. Хозяйка подошла ко мне и легонько сжала мое плечо. Я обернулся к ней.
– Haide, o sa pun sa dormi, – сказала она. Догадавшись, что я не понимаю ее, она приложила обе ладони к щеке и склонила голову.
– А, Вы хотите предложить мне поспать! Я совсем не против… – зевая, сказал я.
Женщина кивком головы предложила мне следовать за ней. Мы поднялись по крутой лестнице на второй этаж, и зашли в небольшую комнату, в которой стояла широкая железная кровать. В ее изголовье, как и у наших крестьян, возвышалась пирамида из подушек. Расправив ее и убрав лишние подушки, хозяйка показала мне на кровать, предлагая ложиться. Сама же ушла, оставив меня одного.
С необычайным трудом я разделся. Мои руки и ноги не слушались меня, я словно пьяный качался и падал на кровать. Однако раненная рука совсем не болела. В конце концов, я справился с одеждой, и голова коснулась мягкой большой подушки. Не успел я закрыть глаза, как в комнату постучались. Это была моя хозяйка.
– Somn ?i lasa?i via?a ta va parea un vis, – сказала она, касаясь моей головы теплой рукой.
Я не понял, что она сказала, но мои глаза закрылись, а сознание мгновенно отключилось, словно я уснул или умер. Больше я не думал и ничего не чувствовал. Не знаю, спал я или на самом деле умер.
Глава 2.
Три дня до.
Бездействие бестолковой румынской армии, о котором мы долго и назойливо говорили с офицерами в начале этой компании, привело к ее сокрушительному поражению. А вместе с провалами в стратегии и тактике румынских военачальников пришлось туго и нам, их невольным союзникам. Первая австрийская армия Штрауссенбурга и девятая немецкая армия Фалькенхайна с легкостью вытеснили румын из Трансильвании, в то время как объединенные немецко-болгарско-австрийские войска под командованием Макензена начали наступление на Бухарест со стороны болгарской столицы. Это стратегическое наступление сопровождалось отвлекающими действиями третей болгарской армии генерала Тошева вдоль побережья Черного моря в сторону Добруджи.
Румынское командование рассчитывало, что союзнические войска, то есть мы, отразим болгарское вторжение в Добруджу и перейдем в контрнаступление. Для этих целей в защиту Бухареста они выделили аж 15 дивизий под командованием Авереску. Однако наше контрнаступление, начавшееся 15 сентября, закончилось полным и сокрушительным провалом. Несмотря на то, что румынам удалось форсировать Дунай, операция была остановлена из-за безуспешного наступления на фронте в Добрудже. Наши силы были малочисленны и, за исключением сербского батальона, недостаточно мотивированы, нам не очень хотелось воевать против болгар. Сербам, тем было не привыкать к предательству «братьев славян» и они истребляли «братушек» с легкостью и даже, казалось, с удовольствием. Но вот русская армия была не готова к этому бою. В результате чего отвлекающие действия болгарских войск обернулись их непредвиденным стратегическим успехом. Наши части были отброшены на 100 верст на север, а к концу октября болгары даже сумели овладеть Констанцей и Чернаводой, изолировав, таким образом, Бухарест с левого фланга. В это же время австрийские войска вернули себе полностью Трансильванию и готовились к броску на румынскую столицу. Вот примерно такая диспозиция творилась осенью пятнадцатого на южном направлении. На юго-западном фронте, после не совсем удачного прорыва мы отступали под натиском Макензена. Только на северных границах Румынии линия фронта менялась медленно и незначительно. Именно здесь и стояли наши подразделения. К этой тяжелой оперативной картине надо прибавить холодную осень, частые дожди, переходящие в снег, отсутствие у наших войск должного количества боеприпасов и ужасное тыловое обеспечение передовых войск.
– Штабс-капитан, Вам надлежит со своей ротой атаковать правый фланг чехов и закрепиться вот на этой высоте… – капитан ткнул карандашом в карту, указывая мне рубеж, до которого моему подразделению следовало пройти под ураганным огнем противника.
– Господин капитан, но это практически невозможно! Это верная гибель! – усомнился я в успехе поставленной задачи. – У меня осталось семьдесят два человека и всего один «максим»!
– Штаб полка пообещал поддержать вас артиллерией. Но Вы, конечно, понимаете, что снарядов не хватает и хорошей артподготовки не следует ждать. Черт побери! Как воевать?! Эти тыловые крысы даже не знают о наших нуждах! Вчера встретил штабс-капитана от интендантских войск! Рожа, что уродившаяся тыква! Пьяный! Сидит, жрет рябчиков и рассуждает о целесообразности наступления в данной тактической обстановке на протяжении всей линии фронта! Скотина! Я ему говорю: «Вы бы, батенька, приехали ко мне в часть. Я бы ознакомил вас с тактической обстановкой вдоль линии моей части»! А он мне знаете что? – капитан все больше распалялся. Я отрицательно покачал головой. – А он мне говорит, что все наши беды от трусости полевых командиров и их желания сохранить солдатню! Поверьте, Станислав Максимович, еле сдержался, что бы ни пристрелить эту гниду на месте! Благо со мной была дама… Я все-таки считаю, что вам не окажут серьезного сопротивления, – капитан вернулся к своим воинским обязанностям. – Последнее время чехи не желают воевать. Они сдаются в плен при малейшем нашем наступлении, лишь бы не сражаться за Австро-Венгрию.
Слабое утешение! – подумал я. – А как чехи не надумают сдаваться, а захотят драться?! Что тогда?! Положат всю мою роту со мною в придачу! Что тогда?! Что тогда скажет командир 131 пехотного Новониколаевского полка, полковник Зайцев? Что скажет капитан Радзюкевич, стоящий рядом со мной в блиндаже и ставящий мне невыполнимую задачу?! Семьдесят три человека должны пройти три версты по открытой местности, где нет даже намека на бугорки и овраги! Сколько останется моих нижних чинов лежать на этом участке фронта? А сколько офицеров? Да и я разве заговоренный?! Разве я не простой человек?! Ведь я тоже могу погибнуть! Но вслух я не сказал ничего.
– Здесь, – Радзюкевич постучал карандашом по карте в том месте, где мне надлежало быть через восемь чесов, – у противника имеются склады, которые придутся нам как нельзя кстати! Пока ваша рота возьмет этот рубеж, взвод прапорщика Остроумова и рота подпоручика Иванова выйдут в тыл отступающим чехам и таким образом поддержат ваше наступление. Надеюсь, к утру следующего дня мы создадим предпосылки для наступления всего полка.
– Все понятно? – спросил в конце разговора капитан Радзюкевич.
– Так точно! – совсем не браво ответил я.
– Мне очень жаль, что Хитрова тяжело ранило. Но я, надеюсь, это не повлияет на боевой дух его взвода? Кто сейчас его замещает?
– Фельдфебель Марков…
– Станислав Максимович, бог даст все обойдется! Я ведь понимаю всю опасность вашего задания. Но у других подразделений тоже задачи не простые. Остается только надеется на русского солдата, да на Господа нашего…идите и берегите себя! – он перекрестил меня и я вышел из командирского блиндажа.
Наша линия окопов растянулась на несколько сот метров. Военные инженеры постарались на славу. Линия укреплений тянулась на несколько верст. Здесь были стрелковые окопы и для стрельбы с колена, и для стрельбы стоя, множество различных перекрытых ходов сообщения, с ячейками для стрельбы. У каждого подразделения были свои блиндажи и землянки. Созданные военными головами фортификационные сооружения позволяли довольно комфортно прожить в них и лето, и зиму. В землянках и блиндажах имелись печурки, так что мы устроились с комфортом, если так можно сказать.
Во взводном блиндаже меня встретил стойкий запах портянок, сухих веток березы и прапорщик Тимофеев, который, заметив мое возвращение от командира, поднялся с нижнего ряда нар.
– Ну, что там, Станислав Максимович? – предчувствуя не ладное, нахмурился он.
– Через семь часов выступаем…
– Черт! Они что, с ума сошли что ли?! С кем и чем нам выступать?! С семью десятками солдат? Ведь нам никто не окажет поддержку! Румыны?! Те что стоят с правого фланга? Так они обосрались еще в сентябре!
– Прапорщик! Я попрошу Вас подбирать выражения!
– Простите, господин штабс-капитан…
– Я то же раздосадован, но ничего не поделаешь. Приказ командования.
Тимофеев вернулся на свое место. Оказалось, что он писал письмо домой, матери. Устроившись поудобнее на своем лежбище, прапорщик продолжил писать. Вспышка гнева прошла так же быстро, как и появилась. Он вообще зарекомендовал себя человеком вспыльчивым, но быстро отходящим. Как он сам говорил, этому его научила военная жизнь.
– А, что, господин штабс-капитан, писать матери, что это мое последнее письмо? – спросил он спокойно, так, словно речь шла не о предстоящем бое, а об увеселительной поездке на речку.
– Не знаю, не знаю…
– Ну, тогда и писать не буду. Пусть надеется… – он отложил в сторону химический карандаш, совсем сточенный, весь исслюнявленный, измятый листок бумаги, потом долго и пронзительно посмотрел на тлеющие угли, грустно розовеющие в железной бочке-печке. – Вот сидим сейчас мы с вами живые и невредимые, а через несколько часов уж никто не знает, будем ли мы живы или будем лежать на холодной земле, и мокрый снег не будет даже таять под нашими телами, а душа тем временем предстанет перед Господом…
– Вы один в семье? – спросил я, не найдя ничего более подходящего для поддержания разговора.
– Нет, нас двое братьев и одна сестра. Брата убили еще в четырнадцатом, сестра осталась с матерью, ей всего-то пятнадцать, отца я не помню.
– А вам сколько?
– Двадцать осемь… я средний в семье. Брату было тридцать.
Я молчал, не зная, что еще сказать. Да и не очень-то хотелось говорить. Его слова навеяли на меня какую-то грусть. Не страх, не ужас, а именно грусть. Я живо представил то, о чем он говорил. Конечно, я уже не был зеленым офицером, впервые получившим сложное и опасное задание. Этот военный год научил меня не вдаваться в панику, не думать накануне боя о том, что может произойти. Кроме того, я был обстрелян и получил какой-никакой боевой опыт. Как там у нас пословица – «за одного битого двух не битых дают»?! Так, кажется? Так вот, я был уже довольно битым командиром. Но отчего-то слова прапорщика закрались мне в душу. Плохой признак!
– Ну, значит, будете жить долго! – сказал я, лишь бы что-то сказать.
– Спасибо, это обнадеживает… – усмехнулся Тимофеев.
– Нет, поверьте. Вы с какого времени на фронте?
– Так, месяц уже…
– А я уже больше года, с первых дней… – прапорщик посмотрел на меня молча, но теперь с надеждой, – Разные передряги случались. И бой этот будет не первым и даже не десятым. Гоните от себя дурные мысли. Они только помеха и в бою, и в мирной жизни. В бою вы будете думать не о том, как победить, а о том, как бы спрятаться и сохранить свою жизнь. А именно это последнее, инстинкт самосохранения и погубит вас! В бою вы не должны думать о смерти. Думайте о жизни, о том, как будете отдыхать после боя, как вернетесь домой. Именно такие мысли и спасут вас. Скольких я видел людей, которые прятались от пуль, но неизменно те их настигали в самых неожиданных местах. И скольких я знаю людей, что не жалея живота своего шли на врага и остались живыми. Наверное, это судьба, она решает, кто завтра останется лежать, а кто пойдет дальше. Там, – я поднял палец кверху, – уже все решено…
– Извините, господин штабс-капитан, у меня есть бутылка водки… – Тимофеев осторожно посмотрел на меня.
– И?
– Не хотите ли немного выпить?
– Что ж, если не много, то это не повредит, – пожал я плечами.
Прапорщик встал и, подойдя к своему вещмешку, вынул из него бутылку «смирновки». Потом поставил ее на стол, на котором стояли уже пара стаканов и хлеб с закуской. Жестом руки он пригласил меня к столу, а сам налил в стаканы прозрачную жидкость.
– Сохрани и помилуй нас! – произнес краткий тост прапорщик. Мы чокнулись и выпили. Водка приятно разлилась по телу, согревая все его уголочки.
– Куда вы торопитесь прапорщик? – сказал я, увидев, что Тимофеев опять разлил водку.
– Так ведь времени у нас осталось совсем немного!
– Нормально! Не гоните… – попытался остановить его я, но взялся за налитый стакан. – Я хочу выпить за Родину… Какая бы она ни была, но она наша. И мы готовы умереть за нее.
Мы опять чокнулись и осушили стаканы. Тимофеев достал папироску и вопросительно посмотрел на меня.
– Черт с Вами! Курите! – разрешил я.
Прапорщик закурил. Вернувшись на свою лежанку, он уселся на ней, опершись спиной о бревна землянки. Тихонько попыхивая папироской, прапорщик молчал.
– Станислав Максимович… – полушепотом обратился ко мне Тимофеев через несколько минут молчания.
– Да?
– А вы из военной семьи?
– Да…
– И всегда хотели стать кадровым офицером?
– Да, наверное…
– А я вот и не думал, что одену пагоны. Я ведь из студентов. Только стал работать инженером на сталелитейном и вот, война…
– Вас призвали?
– Нет. Я пошел добровольцем, я «охотник». Сдал экзамены и вот получил месяц назад прапорщика …
– А я оканчивал юнкерское училище. Отец кадровый военный.
– Расскажите о себе, – попросил меня Тимофеев как-то уж очень проникновенно.
– Зачем? – спросил я его.
– Знаете, нам через… – он взглянул на свои карманные часы, – почти шесть часов вместе идти на смерть. Хотелось бы знать о человеке, с которым мы скоро, возможно, погибнем, сражаясь бок о бок …
ГЛАВА 3.
Мое детство.
– …Хм… – я задумался, вспоминая свою жизнь. Что ему собственно рассказать? Об учебе или о службе, о родителях или о своей первой любви? А нужно ли мне это? А ему? Может он и прав, ведь через несколько часов случится такое, отчего ни мне, ни ему не поздоровится. Быть может эти часы и минуты перед боем очень важны. Наконец я открыл рот и начал свою исповедь. Благо слушатель был благодарный. Но скорее всего я сам с удовольствием стал вспоминать детство. – Мое детство на первый взгляд любому постороннему человеку может показаться безрадостным и тяжелым. Оно прошло под знаком большой нужды. Но, тем не менее, я о нем вспоминаю с легкой грустью. Хотя, возможно, любой человек через некоторое время вспоминает только хорошее. Отец мой был отставным военным, дослужившимся до майорского чина, неоднократно раненным, и по сей причине получавшим лишь пенсию. Да и пенсия оказалась уж очень крошечной – в размере всего 36 рублей в месяц. На эти средства наша семья должна была существовать. В семье нас было пятеро, а после смерти деда осталось четверо. Нужда и малоденежье загнали нас в деревню, где жить оказалось на самом деле дешевле, а разместиться можно было свободнее. Мы поселились в просторном доме со своим приусадебным хозяйством. Признаться, свою жизнь в деревне я практически не помню. Одно могу сказать: у меня остались только светлые и приятные воспоминания о тех годах. Помню речку, холодную воду в ней, темную и бурлящую, заросшие ивами и травой глинистые берега. Помню соседского мальчишку, с которым бывало, ходили удить рыбу. Имени его не помню. Вот, в сущности, и все мои воспоминания о деревенской жизни. Время пролетело быстро, и к моим шести годам, как известно, заведено начинать школьное обученье, поэтому ради меня, моего образования нашей семье все-таки пришлось переехать во Влоцлавск.
Отец снял там маленькую и убогую квартирку во дворе на Пекарской улице. В ней еле-еле поместилось две комнаты, темный чуланчик и кухня, которые по необходимости превратились в комнаты. Одна комната у нас считалась «парадной». Предназначалась она для приема гостей, которых, впрочем, можно было сосчитать по пальцам. Она же одновременно служила и столовой, и кабинетом и спальней для редких гостей. В другой, темной комнате мы устроили спальню для нас троих, а в скором времени, после рождения брата, мы с ним остались в этой спальне, а отец с матерью перебрались в «парадную». Чуланчик служил лежбищем для деда, а на кухне спала нянька.
Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Агнешка, постепенно вросла в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами больше не расставалась.
Пенсии отцовской, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось идти по знакомым и занимать у них 5-10 рублей. Ему давали легко и охотно, зная, что непременно в названный срок деньги вернутся. Для отца же эти займы были огромной мукой. Он переживал и маялся. Я слышал, как они с матерью долго обсуждали, на чем они смогут сэкономить для отдачи очередного займа. Но с каждым месяцем ситуация повторялась. Идти на какую-нибудь оплачиваемую работу он не мог, не позволяли ранения. Мать не имела образования и занималась домом.
Раз в год, но, к большому моему сожалению, увы, даже не каждый, сыпалась на нас «манна небесная». Она материализовывалась в виде отцовского пособия из прежнего места службы. Это были огромные по нашим меркам деньги: 100, иногда даже 150 рублей. Вот тогда у нас бывал настоящий праздник: отец сразу же возвращал все долги, родители покупали кое-какие запасы, перешивался и обновлялся костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу, увы, штатское, что его чрезвычайно расстраивало. Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого, денег на него у нас не хватало. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Носил по случаю и без такового. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны. «На предмет непостыдныя кончины, – как говаривал отец, – чтоб хоть в землю лечь солдатом».
Как я уже говорил, наша квартирка была настолько тесной, что я поневоле был в курсе всех родительских дел. Жили мои родители дружно. Мать заботилась о нас всех. Не забывала она ни отца, ни нас с братом, ни деда. Правда, когда мне стукнуло десять, дед тихонько умер. Мать работала без устали, напрягая глаза, что-то вышивала на продажу. Правда, ее работа приносила какие-то совсем ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями. Порой мать целыми днями мучилась, и мы ничем ей не могли помочь. Но, к слову сказать, болезнь эта со временем прошла бесследно, и к старости она о ней даже не вспоминала.
Случались, конечно, между родителями ссоры и размолвки. Но, если честно, то не так часто и по совсем пустяковым поводам. Преимущественно по двум. И во всем всегда был виноват отец. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся, чем мы знакомым в долг, но, обычно назад эти деньги уже не возвращались. Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо и считавшую каждую копеечку. Она с таким трудом организовывала домашнее хозяйство, а отец позволял себе тратить и без того небольшие деньги. И если бы на себя или семью, а то на совсем посторонних людей. «Что же это такое, Петрович, что ж ты делаешь! Нам ведь самим есть нечего…» – пилила она отца.


![Книга Штабс-капитан Круглов. Книга вторая [СИ] автора Глеб Исаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shtabs-kapitan-kruglov.-kniga-vtoraya-si-369261.jpg)