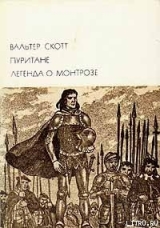
Текст книги "Пуритане. Легенда о Монтрозе"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 52 страниц)
– Я тотчас же распоряжусь, – сказал Аллан Мак-Олей, вставая с места и подходя ближе. – Я люблю сэра Дункана Кэмбела; в былые дни мы вместе страдали, и я этого не забыл.
– Милорд, – обратился к графу Ментейту Дункан Кэмбел, – мне прискорбно видеть, что вы, в столь юные годы, дали вовлечь себя в такое отчаянное и мятежное предприятие!
– Я молод, это правда, – отвечал Ментейт, – однако достаточно жил, чтобы уметь отличить добро от зла, верность от мятежа; и чем раньше я вступлюсь за правое дело, тем лучше и дольше послужу ему!
– И вы, мой друг, Аллан Мак-Олей! – продолжал Дункан, взяв Аллана за руку. – Неужели мы должны называть друг друга врагами, мы, которые столь часто сражались вместе против общего недруга? – Затем, обращаясь к собранию, он добавил: – Прощайте, господа, многим из вас я искренне желаю добра, и ваш отказ принять условия мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть всевышний рассудит нас, – произнес он, возведя глаза к небу, – и укажет, кто прав: мы ли в своих мирных побуждениях или те, кто стремится посеять междоусобную распрю!
– Аминь! – отвечал Монтроз. – Пред этим судом мы все готовы предстать.
Дункан Кэмбел покинул зал в сопровождении Аллана Мак-Олея и лорда Ментейта.
– Вот истый Кэмбел, – сказал ему вслед Монтроз. – Все они таковы: мягко стелют, да жестко спать!
– Простите, милорд, – возразил Эван Дху, – хоть мы и враждуем с его родом, но я не раз имел случай убедиться, что рыцарь Арденвор храбр в бою, честен в мирное время и искренен в своих советах.
– Таков он, несомненно, по своей натуре, – ответил Монтроз, – но сейчас он действует по наущению своего вождя – маркиза, самого лживого человека, когда-либо жившего на земле. И знаете что, Мак-Олей, – продолжал он, понизив голос, – дабы он не смутил неопытный ум Ментейта и затуманенный рассудок вашего брата, пошлите к ним музыкантов – музыка мешает уединенной беседе.
– Какие у меня музыканты! – отвечал Мак-Олей. – Был один-единственный волынщик, да и тот надорвался, желая перещеголять троих сотоварищей по искусству. Впрочем, я могу послать туда Эннот Лайл с ее арфой. – И он покинул зал, чтобы отдать распоряжение.
Между тем среди собравшихся возник горячий спор о том, кто возьмет на себя опасное поручение сопровождать Дункана на его обратном пути в Инверэри. Невозможно было возложить эту обязанность на кого-либо из лиц высшего звания, привыкших считать себя по достоинству равными самому Мак-Каллумору; для прочих, которые не могли выставить ту же отговорку, это поручение все же казалось неприемлемым. Можно было подумать, что замок Инверэри – своего рода долина смерти, такое отвращение выказывали даже наименее знатные вожди при одной мысли приблизиться к нему. После некоторого замешательства истинная причина была наконец высказана, а именно: кто бы из родовитых горцев ни принял на себя это поручение, маркиз, несомненно, затаит против того злобу и при первом же удобном случае заставит его горько раскаяться в своем поступке.
Монтроз, хотя и считал, что предложение перемирия не более как стратегическая уловка со стороны Аргайла, все же не решился отклонить его в присутствии тех, кого оно столь близко касалось; поэтому он предложил возложить это опасное и почетное дело на капитана Дальгетти, не принадлежавшею ни к одному горному клану и не имевшего владений в Верхней Шотландии, на которые могла бы обрушиться месть Аргайла.
– Однако у меня все же есть шея, – откровенно заявил Дальгетти. – А что, коли ему вздумается на мне сорвать свою досаду? Мне известен случай, когда честного парламентера вздернули на виселицу, как шпиона. Римляне тоже не очень-то милостиво расправились с послами при осаде Капуи, хотя, впрочем, я где-то читал, что им всего-навсего отсекли руки и носы, выкололи глаза и отпустили с миром.
– Клянусь честью, капитан Дальгетти, – воскликнул Монтроз, – если маркиз, вопреки правилам войны, осмелится применить к вам малейшее насилие, то я отомщу ему так, что содрогнется вся Шотландия!
– Но бедному Дальгетти от этого не станет легче! – возразил капитан. – Впрочем, coragio! [71]71
Мужайся! (искаж. исп.)
[Закрыть]– как говорят испанцы. Имея в виду землю обетованную, сиречь мое поместье Драмсуэкит, – mea paupera regna, [72]72
Мои нищие владения (лат.).
[Закрыть]как мы говорили в эбердинском училище, – я не намерен отказываться от поручения вашей светлости, ибо считаю, что честный воин должен повиноваться своему командиру, не страшась ни виселицы, ни меча.
– Благородные слова! – отвечал Монтроз. – И если вам угодно будет отойти со мной в сторону, я сообщу вам условия, которые вы должны будете изложить Мак-Каллумору и на основании которых мы согласны не трогать его горных владений.
Не будем утруждать читателя подробностями. Условия были составлены в уклончивых выражениях и рассчитаны только на то, чтобы пойти навстречу предложению, которое, по мнению Монтроза, было сделано с единственной целью выиграть время. Когда капитан Дальгетти, получив от Монтроза все необходимые указания и откланявшись по-военному, направился было к двери, граф знаком вернул его обратно.
– Надеюсь, – сказал он, – мне незачем напоминать офицеру, служившему под знаменем великого Густава-Адольфа, что от него, как от лица, посланного для мирных переговоров, требуется нечто большее, нежели простая передача условий, и что его военачальник вправе ожидать по его возвращении кое-каких сведений о положении дел в лагере противника, насколько они окажутся в поле его зрения. Короче говоря, капитан Дальгетти, вам следует быть un peu clair-voyant. [73]73
Немного проницательнее (франц.).
[Закрыть]
– Верьте мне, ваша светлость, – отвечал капитан, придав грубым чертам своего лица неподражаемое выражение лукавства и смышлености, – если только они не наденут мне на голову мешок, что иногда проделывают с честными воинами, заподозренными в том самом, за чем вы посылаете меня, – ваша светлость может рассчитывать на точный доклад обо всем, что Дальгетти удастся увидеть или услышать, будь то хотя бы количество ладов в волынках Мак-Каллумора или число клеток на его пледе и штанах.
– Отлично! – отвечал Монтроз. – Прощайте, капитан Дальгетти, и помните, что женщина обычно излагает свою главную мысль лишь в приписке к письму; так же и я хотел бы, чтобы вы считали последние мои слова самой важной частью возложенного на вас поручения.
Дальгетти еще раз многозначительно ухмыльнулся и, ввиду предстоящего утомительного путешествия, пошел позаботиться о дорожном провианте для себя и для своего коня.
У дверей конюшни, – ибо он неизменно в первую очередь заботился о своем Густаве, – капитан Дальгетти увидел Ангюса Мак-Олея и сэра Майлса Масгрейва, осматривавших его коня. Похвалив ноги и стать лошади, оба в один голос начали отговаривать капитана от намерения совершить утомительное путешествие верхом на столь прекрасном скакуне.
Ангюс расписывал самыми мрачными красками дорогу – вернее, те дикие тропы, которыми капитану придется пробираться по Аргайлширу, те жалкие хижины и лачуги, в которых ему предстоит останавливаться на ночлег, где невозможно добыть никакого фуража для лошади, если только она не пожелает глодать прошлогодний бурьян. Он решительно утверждал, что после такого странствования конь окажется совершенно непригодным для военной службы.
Англичанин энергично поддерживал мнение Ангюса и готов был прозакладывать душу и тело дьяволу, уверяя, что это просто грех – тащить с собой коня, стоящего хотя бы грош, в столь пустынный и негостеприимный край. Капитан Дальгетти с минуту пристально смотрел сначала на одного, потом на другого, а затем, как бы в нерешительности, спросил их: что же они посоветуют ему делать с Густавом при таких обстоятельствах?
– Клянусь рукой моего отца, любезный мой друг, – отвечал Мак-Олей, – если вы оставите коня на моем попечении, вы можете быть совершенно спокойны, что он будет и кормлен и холен, как подобает такому прекрасному и замечательному скакуну, и по возвращении вы застанете его гладким, как луковка, прокипяченная в масле.
– А если достопочтенный воин пожелает расстаться со своим скакуном за умеренную мзду, – сказал Майлс Масгрейв, – то у меня в кошельке еще побрякивают остатки от серебряных шандалов, и я с радостью готов переправить их в его карман.
– Короче говоря, мои почтенные друзья, – проговорил капитан Дальгетти, вновь поглядывая на своих собеседников с насмешливой прозорливостью, – я вижу, что вы оба не прочь были бы оставить себе что-нибудь на память о старом воине в том случае, если бы Мак-Каллумору вздумалось повесить его на воротах своего замка. И, несомненно, в таком случае для меня было бы весьма лестно, что такой благородный и честный кавалер, как сэр Майлс Масгрейв, или такой почтенный и гостеприимный предводитель клана, как наш любезный хозяин, окажется моим душеприказчиком.
Оба джентльмена поспешили торжественно заверить капитана, что у них и в мыслях не было подобных намерений, но между тем все так же продолжали распространяться о непроходимости горных дорог. Ангюс Мак-Олей невнятно бормотал какие-то труднопроизносимые гэльские названия, обозначавшие особенно опасные перевалы, ущелья, пропасти, вышки и стремнины, через которые, по его словам, лежал путь к Инверэри, а подошедший к конюшне старый Доналд не преминул подтвердить рассказ своего хозяина, всплескивая руками, возводя глаза к небу и качая головой при каждом гортанном звуке, произносимом Ангюсом. Но все это не переубедило непоколебимого капитана.
– Почтенные друзья мои, – сказал он. – Мой Густав далеко не новичок в этом деле и привык к опасным путешествиям в горах Богемии; а дороги в этих горах (не в обиду будь сказано тем стремнинам и ущельям, о которых упоминает мистер Ангюс, и всем ужасам, о которых предупреждает сэр Майлс, никогда не видавший их) могут поспорить с наихудшими дорогами в Европе. К тому ж моя лошадь обладает прекрасным и общительным правом, и хотя она не пьет вина, охотно разделяет со мной краюху хлеба и едва ли будет страдать от голода там, где можно будет достать сухарь или пресную лепешку. И чтобы покончить с этим делом, прошу вас, друзья мои, полюбоваться на походного коня сэра Дункана Кэмбела, который стоит тут в стойле перед нами, такой сытый и гладкий! А в ответ на высказанное вами беспокойство обо мне я честью могу вас заверить, что во время нашего совместного путешествия мы с Густавом начнем страдать от голода не раньше, чем конь сэра Дункана и его ездок.
С этими словами капитан наполнил большую меру овсом и подошел с ней к своему коню; Густав тихонько заржал, прядая ушами, и несколько раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая тесная дружба связывает его с хозяином. Он не прикоснулся к овсу, пока не ответил на ласку своего господина, лизнув ему руки и лицо. После такого обмена приветствиями конь усердно принялся за еду, с быстротой, изобличавшей старую военную привычку; а Дальгетти, полюбовавшись минут пять своим боевым товарищем, произнес:
– Да будет все это впрок твоему честному сердцу, мой Густав! А теперь я и сам пойду подкрепить свои силы перед походом.
Затем он вышел из конюшни, предварительно поклонившись англичанину и Ангюсу Мак-Олею. Оставшись одни, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились дружным хохотом.
– Этот малый пройдет сквозь огонь и воду, – заявил сэр Майлс Масгрейв.
– Я тоже так думаю, – отвечал Мак-Олей, – особенно если ему удастся выскользнуть из рук Мак-Каллумора так же легко, как он выскользнул из наших…
– Неужели вы думаете, – сказал англичанин, – что маркиз не сочтет нужным в лице капитана Дальгетти уважать законы цивилизованной войны?
– Не более, чем я счел бы нужным уважать распоряжение ковенантеров, – отвечал Мак-Олей. – Но, однако, пойдем, мне пора вернуться к гостям.
Глава IX
В небольшой комнате, вдали от гостей, собравшихся в замке, лорд Ментейт и Аллан Мак-Олей почтительно ухаживали за Дунканом Кэмбелом, потчуя его всевозможными яствами. В своей беседе с Алланом Дункан предавался воспоминаниям о некоей облаве, предпринятой ими сообща против Сынов Тумана, с которыми рыцарь Арденвор, так же как и семейство Мак-Олей, был в смертельной, непримиримой вражде. Однако Дункан очень скоро постарался свести разговор на причины своего приезда в замок Дарнлинварах.
Ему крайне прискорбно видеть, говорил он, что друзья и соседи, которым следовало бы стоять плечом к плечу, готовы вступить в драку из-за дела, столь мало их касающегося.
– Не все ли равно вождям горных кланов, – продолжал он, – кто одержит верх – король или парламент? Не лучше ли предоставить им самим уладить свои разногласия, не вмешиваясь в их дела, а тем временем, воспользовавшись удобным случаем, укрепить свою собственную власть настолько, чтобы впоследствии на нее не могли посягнуть ни король, ни парламент?
Он напомнил Аллану Мак-Олею, что меры, предпринятые в предыдущее царствование якобы для примирения горных округов, в сущности, были направлены к уничтожению патриархальной власти вождей; при этом он упомянул о пресловутых поселениях так называемых файфских предпринимателей на острове Льюисе как о части заранее обдуманного плана, которым предусматривалось расселение чужестранцев среди кельтских племен, с тем чтобы постепенно уничтожить их древние обычаи, образ правления и лишить их наследства отцов. [75]75
В царствование Иакова VI была сделана довольно странная попытка цивилизовать самую северную окраину Гебридского архипелага. Сей монарх отдал остров Льюис, подобно какому-нибудь неизведанному и дикому краю, во владение нескольким дворянам из южных округов Шотландии (преимущественно из графства Файф), получивших название предпринимателей, которые должны были колонизировать остров и обосноваться там. Вначале это предприятие было довольно успешным, но коренные жители острова, главным образом кланы Мак-Леод и Мак-Кензи, восстали против приезжих авантюристов и умертвили большинство из них.
[Закрыть]
– А между тем, – продолжал Дункан, обращаясь к Аллану, – именно ради поддержания деспотической власти монарха, взлелеявшего подобные намерения, шотландские вожди собираются затеять ссору и обнажить меч против своих соседей, родичей и исконных союзников.
– Не ко мне, – сказал Аллан, – а к моему брату, старшему сыну моего отца и наследнику нашего дома, надлежит вам, рыцарь Арденвор, обращаться с такими словами. Правда, я брат Ангюса, но, как таковой, я только первый член нашего клана и своим добровольным и полным подчинением его воле должен подавать пример остальным.
– Причина войны, – вмешался лорд Ментейт, – несравненно более глубокая, нежели предполагает сэр Дункан Кэмбел. Дело не исчерпывается саксами и гэлами, горами и предгорьем, Верхней и Южной Шотландией. Вопрос о том, будем ли мы и дальше терпеть неограниченную власть, присвоенную горсточкой людей, ничем не лучше нас самих, вместо того чтобы вновь признать законную власть государя, против которого они восстали. А что касается, в частности, положения горных кланов, – продолжал он, – прошу извинения у сэра Дункана Кэмбела за откровенность, но мне совершенно ясно, что единственным последствием незаконного захвата власти будет непомерное распространение могущества одного клана за счет независимости прочих вождей в горных округах Шотландии.
– Не стану возражать вам, милорд, – сказал Дункан Кэмбел, – ибо мне известно ваше предубеждение, и я знаю, откуда оно исходит; однако позвольте сказать вам, что, будучи главой одной из соперничающих ветвей рода Грэмов, я, как и многие другие, знавал некоего графа Ментейта, который не потерпел бы ни руководства в политике, ни командования над собой со стороны графа Монтроза.
– Не надейтесь, сэр Дункан, разжечь мое тщеславие наперекор моим убеждениям, – надменно ответил лорд Ментейт. – Мои предки получили из рук короля свой титул и свое звание; и это никогда не помешает мне сражаться за короля под началом человека, достойного быть главнокомандующим более, чем я. Меньше всего допустил бы я, чтобы чувство мелкой зависти помешало мне отдать свою руку и свой меч в распоряжение самого храброго, самого честного, самого доблестного мужа среди нашего шотландского дворянства.
– Жаль, – проговорил Дункан Кэмбел, – что вы к этому похвальному слову не можете добавить «самого верного, самого постоянного». Но я не намерен вступать с вами в спор, милорд, – добавил он, движением руки как бы отмахиваясь от дальнейших пререканий, – ваш жребий брошен. Позвольте мне только выразить свое глубокое сожаление по поводу горестной участи, на которую природная опрометчивость Ангюса Мак-Олея и ваше влияние, милорд, обрекают моего молодого друга Аллана вместе со всем кланом его отца и многими другими храбрыми людьми.
– Жребий брошен для всех нас, сэр Дункан, – хмуро произнес Аллан, отвечая собственным мрачным мыслям. – Железная рука неумолимого рока выжгла у нас на челе печать нашей судьбы задолго до того, как мы научились выражать свои желания или могли бы шевельнуть пальцем в свою защиту. Будь это иначе, как мог бы ясновидящий узнавать будущее по смутным предчувствиям, которые преследуют его во сне и наяву? Провидеть можно только то, что должно совершиться неизбежно.
Дункан Кэмбел собрался ему ответить, и, вероятно, оба горца пустились бы в самые непроходимые дебри метафизики, если бы в это мгновение не отворилась дверь и в комнату не вошла Эннот Лайл с арфой в руках. Независимость вольной дочери гор была в ее походке и в ее взгляде, ибо, выросшая в постоянном общении с Ангюсом и его младшим братом, с лордом Ментейтом и другими юношами, посещающими замок Дарнлинварах, она не испытывала того смущения, которое молодая девушка, воспитанная среди одних женщин, испытывает – или считает нужным выказать – в мужском обществе.
Она была одета по-старинному, ибо новые моды редко проникали в северные горы и еще с большим трудом могли бы найти доступ в замок, населенный почти одними мужчинами, единственными занятиями которых была война и охота. Однако одежда Эннот не только была ей к лицу, но и довольно роскошна. Ее открытый спереди корсаж из голубого сукна с высоким воротником был украшен богатой вышивкой и серебряными пряжками, которые при желании можно было застегнуть. Широкие рукава доходили только до локтя и заканчивались золотой бахромой. Из-под этой верхней одежды, – если ее можно так назвать, – выглядывала голубая шелковая рубашка, также богато расшитая, но несколько более светлого оттенка, нежели корсаж. Юбка была из шелковой шотландки, в клетках которой преобладал голубой цвет, что значительно смягчало обычную пестроту шотландского тартана с его резким контрастом различных цветов. Вокруг шеи Эннот обвивалась старинная серебряная цепочка, и на ней висел ключ, которым она настраивала свой инструмент. Из-под воротника был выпущен узенький рюш, заколотый у горла довольно дорогой брошью, некогда подаренной девушке лордом Ментейтом. Густые светлые кудри почти закрывали ее смеющиеся глаза, в то время как она, улыбаясь и слегка краснея, объявила, что Мак-Олей приказал осведомиться, не желают ли гости послушать музыку. Сэр Кэмбел с удивлением и большим интересом смотрел на прелестное видение, так неожиданно прервавшее его спор с Алланом.
– Неужели, – шепотом спросил он Аллана, – это прелестное и изящное создание принадлежит к числу домашних музыкантов вашего брата?
– О нет! – поспешил ответить Аллан и добавил с легкой запинкой: – Она… она… наша близкая родственница… И мы относимся к ней, – продолжал он уже более уверенно, – как к приемной дочери нашей семьи.
Он поспешно встал и с той почтительной учтивостью, которую способен выказать любой горец, когда считает это нужным, уступил свое место Эннот и принялся угощать ее всем, что стояло на столе, с усердием, явно рассчитанным на то, чтобы показать Дункану Кэмбелу ее высокое положение. Но если таково было намерение Аллана, то оно оказалось излишним. Сэр Дункан не спускал глаз с Эннот, и взор его выражал несравненно более глубокий интерес, нежели обычное внимание к особе благородного происхождения. Эннот даже смутилась под пристальным взглядом старого рыцаря; она не без некоторого колебания настроила свой инструмент и, ободряемая взглядом лорда Ментейта и Аллана, исполнила следующую кельтскую балладу, которую наш друг мистер Секундус Макферсон, о чьей любезности уже упоминалось выше, пере вел на английский язык:
СИРОТА {264}
Над замком стих ноябрьский град.
Над мглою серых стен
Луч солнца заиграл, и в сад
Выходит леди Энн.
Под дубом сирота сидит.
Лохмотья лишь на ней,
И, не растаяв, град блестит
Меж спутанных кудрей.
«О госпожа, счастливы те,
Кого ласкала мать.
Но кто поможет сироте
Печаль ее унять?!»
«Дай боже никому не знать
Сиротского житья.
Но трижды горше потерять
И мужа и дитя.
Двенадцать лет назад я в ночь
Бежала от врагов
И потеряла крошку-дочь
У Фортских берегов».
«О госпожа, прошли как тень
Двенадцать лет тоски,
С тех пор как сеть в Бригитты день
Тащили рыбаки.
И был сетями извлечен
Ребенок чуть живой.
Смотри же, пред тобою он
С протянутой рукой».
Ее целует леди Энн:
«О дочь, ты вновь со мной!
Вовеки будь благословен
Бригитты день святой!»
И вот уж девочка в шелках,
Богат ее наряд…
И вместо града в волосах
Жемчужины блестят. [76]76
Перевод И. Миримского.
[Закрыть]
Во время исполнения баллады лорд Ментейт с удивлением заметил, что пение Эннот Лайл производит на сэра Дункана Кэмбела гораздо более сильное впечатление, нежели можно было бы ожидать от человека его возраста и такого сурового нрава. Он знал, что северные горцы несравненно более чувствительны к песням и сказкам, чем их соседи, жители предгорья. Но даже это обстоятельство, думал он, едва ли могло служить причиной того смущения, с каким старик отвел глаза от певицы, точно не желая позволить им любоваться столь чарующим зрелищем. Еще менее можно было ожидать, что в чертах лица, обычно выражавших гордость, трезвую рассудительность и привычку повелевать, отразится столь сильное волнение, вызванное, казалось бы, таким незначительным поводом. Лицо старого рыцаря все более омрачалось, седые косматые брови хмурились, на глаза навернулись слезы. Он сидел молча, застыв в неподвижной позе, в течение двух-трех минут после того, как замер последний звук песни. Потом он поднял голову и взглянул на Эннот Лайл, как бы намереваясь заговорить с ней; внезапно изменив свое намерение, он обернулся к Аллану, видимо желая о чем-то спросить его, – но в это время дверь отворилась, и на пороге появился хозяин дома.








