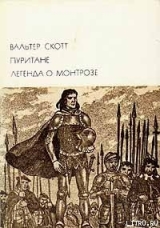
Текст книги "Пуритане. Легенда о Монтрозе"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 52 страниц)
В романе иногда звучит музыка – песни, которые поет Эннот Лайл, вскрывают в душе Дункана Кэмбела «родник, иссякший уже много лет тому назад», и успокаивают волнение Аллана. Можно было бы подумать, что это только «романтический орнамент», традиционное украшение нескольких трогательных сцен. Но музыке в первобытном обществе и тем более в северных странах приписывали магический характер, миф об Орфее, так же как бытовавшее еще в начале XIX века убеждение в том, что музыка исцеляет многие болезни, иллюстрирует ее роль в жизни древних. Включение в роман песен позволяет читателю глубже почувствовать характер страны и сюжетную ситуацию.
Вместе с «первобытной» психологией, примеры которой Скотт мог найти и в хорошо известных ему английских и шотландских балладах, с удивительной рельефностью возникают элементы быта и ничуть по поэтических, самых обыденных нравов. Смешные детали, полные юмора сценки словно неожиданной вспышкой магния освещают быт и мышление феодального захолустья горной Шотландии. Сочетание смешного и поучительного, низкого и возвышенного напоминает искусство Шекспира, с которым, несомненно, связано искусство Вальтера Скотта.
Особую роль в этом плане играет Дугалд Дальгетти, в самых трагических обстоятельствах цитирующий латинские тексты и поучающий всех и каждого военному искусству. Этот юмористический персонаж, без конца повторяющий одни и те же фразы и мысли, связан с литературной традицией XVIII века, сохранившейся и в романах Диккенса. Особенностью повторять одно и то же отличается и леди Белленден из «Пуритан». Капитан Дальгетти, болтун и доктринер, сочетающий латинскую премудрость с изобретательностью авантюриста и опытом профессионального воина, может показаться современному читателю не в меру надоедливым, каким он казался и тем, кто разговаривал с ним в романе, но читатель прошлого столетия с радостью встречал подобных чудаков, позволявших ему отдохнуть от страшных сцен и захватывающих приключений.
* * *
«Легенда о Монтрозе», изображая нравы и быт горной Шотландии, вскрывает также ее противоречия. Это не только борьба роялистов и республиканцев, но и распри между примкнувшими к Монтрозу вождями. Разорванная на клочья феодальных владений и кланов, фанатически ненавидящих друг друга, упорно сохраняющая закон кровной мести, страна не способна к национальному объединению и свое единство ощущает лишь при столкновении с жителями равнинной Шотландии, «сассенахами» (саксами). Такая страна может вести только войну набегов и грабежей.
Кто прав в войне между роялистами и сторонниками парламента? Скотт не сомневался в том, что, несмотря на «крайности» республиканских вождей, правы республиканцы. Роялист Монтроз политически, а следовательно, и нравственно не прав. Но по своим человеческим качествам он несравненно выше Аргайла, для которого нравственные законы как будто вовсе не существуют. Поэтому и разгром войск Аргайла под Инверлохи скорее радует, чем огорчает, автора, а за ним и читателя. Ни политическая позиция вождей, ни взаимная ненависть кланов, ни варварские нравы средневековья не вызывают у Скотта симпатии, но в преданности клану и традициям, в остром чувстве своеобразно понятого долга он видит высокие свойства духа, героическое начало, выражающееся иногда и в таких страшных формах. Наемный солдат – в общественном смысле явление отвратительное. «Нет более позорной жизни, чем жизнь наемника, который воюет только ради денег, не задумываясь о целях войны», – цитирует Скотт слова Гуго Гроция. Но и у наемника есть своеобразное чувство долга, и Дальгетти не поступится своей совестью даже ради спасения жизни, если он уже получил причитающуюся ему плату.
Аллан Кровавая Рука тоже в известном смысле явление героическое, но непрерывная месть врагам своего рода бесчеловечна и вредна. И в этой мести, как и в слепой преданности вождю и в готовности воевать за кого угодно, заключается несчастье страны, потому что все это мешает утверждению общественной нравственности на более разумных началах и осознанию больших, стоящих перед государством задач.
Так же как в «Пуританах», и в этом романе где-то на заднем плане, за трагедией 1645 года, ощущается мечта о социальной справедливости, которая все же придет когда-нибудь на эту залитую кровью землю. Добрые качества народа со свирепыми страстями дают Скотту основание верить в лучшее будущее.
Созданный Вальтером Скоттом жанр исторического романа сыграл большую роль в развитии европейской литературы. Роман из современной жизни, пришедший на смену историческому уже к середине XIX века, многое у него заимствовал, преодолевая то, что не соответствовало новому материалу и новым задачам эпохи.
Вальтер Скотт научил романистов тщательно изучать материал и исследовать современность как особый этап в развитии общества. Он приучил писателей рассматривать художественное творчество как познание, требующее глубоко разработанного метода. Он показал, как воплощать в ярко индивидуализированных героях тенденции и закономерности эпохи и, одевая их бытом и нравами, придавать им неотразимую жизненную правдивость.
Чтобы понять «дела давно минувших дней», Скотт должен был перевоплощаться в своих героев, жить воображением в тех же обстоятельствах, думать и чувствовать, как они, и вместе с тем оценивать людей и события с философско-исторической и нравственной точки зрения. И эту позицию по отношению к своему материалу, и эту «психологию творчества» заимствовали у него великие реалисты XIX века.
Конечно, писателю, изображавшему свою современность, труднее было оторваться от субъективного отношения к материалу, чтобы понять закономерности своей эпохи и ее движение к будущему. Но чтобы стать большим искусством, роман из современной жизни, так же как роман исторический, должен был отказаться от узкой фактографии и рассматривать свою эпоху как подлежащую решению общественно-политическую проблему.
Усваивая уроки Скотта, сопротивляясь ему, продолжая его традиции и вместе с тем создавая нечто совершенно новое, крупнейшие писатели XIX века могли назвать Вальтера Скотта так, как назвал его Стендаль в письме к Бальзаку: «нашим общим отцом».
Б. Реизов
ПУРИТАНЕ
Перевод А. Бобовича
Введение
В конце прошлого века в Шотландии был хорошо известен один весьма примечательный человек, по прозванию «Кладбищенский Старик». Роберт Патерсон – таково его настоящее имя – был, как говорят, уроженцем Клозбернского прихода в Дамфризшире и, вероятно, каменотесом – во всяком случае, он сызмальства был приучен владеть резцом. Неизвестно, что побудило его уйти из дому и пуститься странствовать по Шотландии, уподобляясь паломнику, – домашние ли неурядицы или глубокое и проникновенное ощущение того, что он считал своим долгом. Известно только, что не нужда толкнула его на эти скитания, ибо он решительно отказывался от денежной помощи и лишь позволял себе пользоваться гостеприимством, которое ему всюду охотно оказывали, а если случалось, что никто не приглашал его к себе в дом, у него всегда бывало достаточно денег для удовлетворения своих скромных потребностей. Его внешность и излюбленное – вернее, единственное – занятие подробно описываются в «предварительной» главе предлагаемого романа.
Лет тридцать назад, а то и побольше, автор встретился с этой необыкновенной личностью на кладбище в Даннотере, приехав сюда на день-другой к ныне покойному мистеру Уокеру, ученому и уважаемому приходскому священнику, чтобы осмотреть развалины Даннотерского замка, а заодно и памятники старины в ближайших окрестностях. Там же оказался за своим обычным, побуждавшим его к вечным скитаниям занятием и Кладбищенский Старик, ибо замок и приходское кладбище в Даннотере, хотя они и находятся во враждебном ковенантерам {1} округе Мернс, являются для камеронцев {2} своего рода святынею из-за мучений, которые здесь претерпели их предки во времена Иакова II. {3}
В 1685 году, когда Аргайл {4} угрожал высадкой в Шотландии, а Монмут {5} готовился вторгнуться в пределы Западной Англии, Тайный совет Шотландии, принимая в связи с этим крутые меры, велел арестовать в южных и западных провинциях более ста человек, многих вместе с женами и детьми, полагая, что вследствие своих религиозных воззрений они враждебны правительству. Узников, обращаясь с ними, точно со стадом волов, погнали на север, – впрочем, о волах проявляют заботу, между тем как до насущных потребностей этих людей никому не было дела. В конце концов их заперли в подземелье Даннотерского замка; окно их темницы было пробито в скале, нависшей на большой высоте над Северным морем. Они немало выстрадали в пути; их оскорбляли, над ними всячески измывались северные прелатисты; {6} их преследовали насмешками, издевательствами и шуточными песенками скрипачи и волынщики, сбегавшиеся со всех сторон на дорогу, чтобы потешиться вдоволь над теми, кто с такой нетерпимостью относился к их роду занятий. Даже в мрачной темнице их не оставляли в покое. Сторожа требовали с них плату за каждую оказанную ими услугу, даже за воду, и когда некоторые из узников противились столь наглому требованию, настаивая на своем праве получать ее безвозмездно, поскольку она необходима для поддержания жизни, их тюремщики выливали ее на пол, утверждая, что «если они обязаны приносить воду для ханжей-вигов, {7} то никто их не может заставить бесплатно давать им кувшины и кружки».
В этой тюрьме, которая и поныне называется «Темницею вигов», многие из заключенных погибли от болезней, обычных в подобных местах, а другие переломали себе руки и ноги или разбились насмерть, пытаясь бежать из своего страшного заточения. После революции над могилами этих несчастных их друзья воздвигли памятник с подобающей эпитафией.
Эту своеобразную усыпальницу вигов-мучеников глубоко чтят их потомки, как бы далеко от места их заключения и погребения они ни проживали. Мой друг, достопочтенный мистер Уокер, рассказывал мне, что лет сорок тому назад, путешествуя по Южной Шотландии, он имел несчастье заблудиться в лабиринте дорог и тропинок, пересекающих во всех направлениях обширную пустошь близ Дамфриза, именуемую Лохарские Мхи; выбраться оттуда человеку чужому без посторонней помощи почти невозможно. Между тем найти провожатого было делом нелегким, так как все, кто встречался ему по пути, усердно копали торф, а это – работа первостепенной важности, и ее нельзя прерывать. Мистеру Уокеру удалось добиться лишь нескольких малопонятных ему указаний на южном диалекте, который значительно отличается от мернского говора. Он начал уже тревожиться, не находя выхода из этого трудного положения, и обратился наконец к фермеру побогаче, занятому, как все, копанием торфа на зиму. Вначале старик, подобно другим, отказался проводить мистера Уокера, ссылаясь на неотложность своей работы, но, проникнувшись уважением к сану своего собеседника и увидев, что тот совершенно растерян, спросил:
– Вы, сударь, священник?
Мистер Уокер ответил утвердительно.
– Судя по вашей речи, вы с севера?
– Вы правы, друг мой, – отозвался священник.
– Разрешите спросить, не приходилось ли вам слышать о месте, прозываемом Даннотер?
– Мне полагалось бы кое-что знать о нем, друг мой, – сказал мистер Уокер, – я много лет был священником этого прихода.
– Рад это слышать, – оживился дамфризширец, – потому что один из моих близких родичей лежит там на кладбище, и на его могиле как будто есть памятник. Дорого я дал бы за то, чтобы узнать, цел ли еще этот памятник.
– Ваш родственник был, наверно, из тех, кто погиб в замке, в «Темнице вигов»; кроме них, на нашем кладбище покоится очень мало южан, и ни у кого из этих южан, насколько я знаю, нет намогильного памятника.
– Именно, именно, – сказал камеронец (старый фермер принадлежал к этой секте). Он отложил лопату, надел куртку и со всей искренностью предложил проводить священника, даже если его дневной уроки останется недоделанным. Мистер Уокер, по его словам, сторицею вознаградил его за этот урон, прочитав ему эпитафию, которую знал наизусть. Старик был в восторге, услышав имя своего деда или прадеда среди имен братьев-страдальцев, и, выведя мистера Уокера на сухую и безопасную дорогу, отказался от вознаграждения, лишь попросив дать ему копию с эпитафии.
Слушая этот рассказ и осматривая упомянутый памятник, я впервые увидел Кладбищенского Старика; занятый своим обычным трудом, он очищал от наросшего мха и подправлял орнаменты и эпитафии на могильных плитах. Его наружность и одежда были точно такими, как они описаны в предлагаемом романе. Мне захотелось поближе узнать эту необыкновенную личность, и я рассчитывал, что смогу это сделать, так как Кладбищенский Старик остановился в доме гостеприимного веротерпимого пастора. Но хотя мистер Уокер и пригласил его выпить с нами после обеда стопочку водки, к которой, как поговаривали, старик не испытывал особого отвращения, все же он не пожелал говорить со всею откровенностью о своем неизменном занятии. Он был в дурном настроении, и, по его словам, ему было в тягость поддерживать с нами беседу.
Он был глубоко возмущен, услышав в одной из церквей в Эбердине камертон-дудку или что-то в этом роде, с помощью которого регент управлял пением псалмов: для Кладбищенского Старика это было величайшим кощунством. Возможно, он к тому же стеснялся нашего общества; может быть, он также испытывал подозрение, что вопросы пастора из Северной Шотландии и молодого судебного стряпчего вызваны скорее пустым любопытством, чем действительной заинтересованностью в деле его жизни. Во всяком случае, пользуясь выражением Джона Беньяна, {8} Кладбищенский Старик прошел своей дорогой, и я никогда больше его не видел.
Примечательный облик и род занятий этого вечного странника напомнил мне своим рассказом о нем мой добрый друг, мистер Джозеф Трен, акцизный контролер в Дамфризе, которому я обязан множеством самых разнообразных сведений подобного рода. От него я узнал и об обстоятельствах смерти этого необыкновенного человека, а также кое-какие подробности, нашедшие себе место в романе. Он же сообщил мне о том, что род Кладбищенского Старика существует в третьем поколении и поныне и пользуется большим уважением благодаря талантам и нравственным достоинствам его представителей.
Когда эти страницы уже печатались, я получил нижеследующее сообщение мистера Трена, который, со всегдашней любезностью, в свободные от своих многотрудных обязанностей часы собрал из достоверных источников эти сведения:
Часто бывая в Гленкенсе, я коротко познакомился с Робертом Патерсоном, сыном Кладбищенского Старика, проживающим в небольшой деревне под названием Балмаклеллан. И хотя ему скоро семьдесят, он все еще сохраняет всю живость молодости; память у него поразительная и знаний гораздо больше, чем можно было бы ожидать в человеке его звания и образа жизни. Он же и рассказал мне о своем покойном отце и о его потомках вплоть до настоящего времени.
Роберт Патерсон, alias [2]2
Иначе (лат.).
[Закрыть]Кладбищенский Старик, был сыном Уолтера Патерсона и Маргарет Скотт, проживавших на ферме Хаггиша, в Ховикском приходе, в первой половине восемнадцатого столетия. Здесь в памятный 1715 год {9} и родился Роберт.
Как младшего сына в большой семье, его еще мальчиком отправили к старшему брату Фрэнсису, который арендовал у сэра Джона Джардина из Эпплгарса небольшой клочок земли на Корнкоклской пустоши, близ Лохмабена. Здесь он познакомился с Элизабет Грей, дочерью Роберта Грея, садовника сэра Джона Джардина, на которой впоследствии и женился. Жена его довольно долго была кухаркой у сэра Томаса Керкпатрика из Клозберна, который исхлопотал для ее мужа у герцога Куинсбери разрешение разрабатывать на льготных условиях каменоломню в Гейтлоубригге, в приходе Мортон. Тут он выстроил дом и имел участок земли, достаточный для содержания лошади и коровы. Мой осведомитель не мог назвать с полной уверенностью год поселения его отца в Гейтлоубригге, но он убежден, что это должно было произойти незадолго до 1746 года, так как во время памятных всем морозов 1740 года его мать, говорит он, еще служила у сэра Томаса Керкпатрика. Возвращаясь из Англии зимой 1745/46 года, {10} горцы по дороге в Глазго разграбили дом мистера Патерсона в Гейтлоубригге и, захватив его с собою как пленника, отпустили лишь в Гленбеке, и все только из-за того, что он сказал одному из этой бродячей армии, будто их отступление можно было легко предвидеть заранее, ибо десница всевышнего, несомненно, подъята не только на кровожадных и исполненных скверны Стюартов, но и на всех, кто пытается оказать поддержку гнусным ересям римской церкви. Из этого видно, что Кладбищенский Старик уже смолоду находился во власти того религиозного фанатизма, который впоследствии стал наиболее примечательною чертою его характера.
Религиозная секта, называемая «горные люди», или камеронцы, пользовалась в то время широкой известностью и уважением благодаря строгости нравов и благочестию ее членов, подражавших в этом основателю секты Ричарду Камерону, и Кладбищенский Старик сделался ревностным последователем ее учения. Он стал довольно часто ездить в Гэллоуэй на молитвенные собрания камеронцев и при случае привозил с собою надгробные плиты из своей гейтлоубриггской каменоломни с целью увековечить память почивших праведников. Кладбищенский Старик не принадлежал к числу тех ханжей, которые, лицемерно устремив один глаз к небесам, другим пристально следят за происходящим в подлунном мире. По мере того как его религиозное рвение возрастало, поездки в Гэллоуэй становились все более частыми, и мало-помалу он начал даже пренебрегать своими обязанностями отца семейства. Приблизительно с 1758 года он перестал возвращаться из Гэллоуэя к жене и пятерым детям в Гейтлоубригг, что вынудило ее послать старшего сына Уолтера, которому тогда было только двенадцать лет, в Гэллоуэй на розыски отца. Пройдя почти всю эту обширную область, от Ника в Бенкори до Фелла в Борульоне, мальчик нашел наконец отца на старом кладбище в Керккристе, расположенном на западном берегу Ди, напротив города Керкедбрайта, где он восстанавливал памятники на могилах камеронцев. Маленький путешественник всеми средствами, которые только мог измыслить, старался побудить отца возвратиться к семье, но все было тщетно. Миссис Патерсон посылала в Гэллоуэй и своих дочерей, чтобы они разыскали отца и убедили его вернуться домой, но и эта попытка не имела успеха. В конце концов летом 1768 года она переселилась в горную деревушку Балмаклеллан, близ Гленкенса, и, открыв небольшую школу, скромно, но безбедно жила там на доходы с нее со своей большою семьей.
На ферме Калдон, близ так называемого Дома в горах, существует небольшой памятный камень; он особо почитается камеронцами, как первый памятник, воздвигнутый Кладбищенским Стариком тем, кто пал в этих местах, отстаивая свои религиозные верования во время гражданской войны в царствование Карла II. [3]3
Этот дом был взят штурмом капитаном Орчардом, или Уркхартом, который был убит пулею во время атаки.
[Закрыть] {11}
После Калдонской фермы Кладбищенский Старик с течением времени распространил свою деятельность чуть ли не на всю равнинную часть Шотландии. Почти на всех кладбищах в Эршире, Гэллоуэе или Дамфризшире и теперь еще можно увидеть работу его резца. Ее легко отличить от работ любого другого мастера по примитивной бесхитростности эмблем смерти и наивной простоте надписей, высеченных им на грубо вытесанных камнях. Реставрация и установка надгробных камней, безо всякого вознаграждения от кого бы то ни было, были единственным занятием этой примечательной личности на протяжении сорока лет. Двери каждого камеронского дома были открыты для него в любой час, и его принимали с таким радушием, словно он был близким родственником семьи; впрочем, он не всегда пользовался этим гостеприимством, что видно по следующему перечню скромных расходов, обнаруженному в его записной книжке среди прочих бумаг покойного (кое-какие из них находятся у меня):

[4]4
За три кружки с Сэнди, продавцом мела. – Хорошо известный шутник, здравствующий и поныне, называемый в народе Старый Куль с Мелом: он торгует мелом, которым фермеры метят овец.
[Закрыть]
Этот счет свидетельствует о том, что наш странник в старости очень нуждался; но это происходило скорее по его собственной воле, чем в силу стечения обстоятельств, так как в упоминаемое здесь время все его дети жили в достатке и были бы рады приютить у себя отца; однако никакие уговоры и мольбы не могли склонить его отказаться от бродячего образа жизни. Он путешествовал от кладбища к кладбищу верхом на белом стареньком пони до последнего дня своей жизни и умер, как вы написали в романе, 14 февраля 1801 года на восемьдесят шестом году жизни. Извещение о случившемся было послано его сыновьям в Балмаклеллан тотчас по обнаружении его трупа, но из-за глубокого снега, выпавшего в тот год, письмо с изложением подробностей его смерти задержалось в пути, и этот вечный странник был предан земле, прежде чем кто-нибудь из его близких смог прибыть в Бенкхилл.
Этот счет был заверен сыном покойного.
Вот точная копия счета, в котором перечисляются издержки на его погребение (оригинал этого документа находится у меня):

Мой друг был болен и не мог поехать в Бенкхилл на похороны отца, о чем я глубоко сожалею, так как ему неизвестно, на каком кладбище тот погребен.
Я хотел поставить на его могиле небольшой памятник и тщательно, где только мог, наводил справки о месте его погребения, но все мои розыски не привели ни к чему, так как смерть Кладбищенского Старика не занесена в книги ни одного из окрестных приходов. С горечью думаю я о том, что, по всей вероятности, этот удивительный человек, отдавший столько лет своей долгой жизни, чтобы молотком и резцом увековечить память многих гораздо менее достойных, чем он, останется без простого надгробного камня, указывающего место упокоения его бренных останков.
У Кладбищенского Старика было три сына – Роберт, Уолтер и Джон; первый, как я уже говорил, живет в деревне Балмаклеллан в полном достатке и пользуется большим уважением в своем околотке. Уолтер, скончавшийся несколько лет назад в той же деревне, оставил после себя вполне обеспеченную семью. Джон в 1776 году уехал в Америку; испытав на своем веку немало капризов фортуны, он обосновался в конце концов в Балтиморе.
Сам старый Нол, {12} как говорят, был не прочь пошутить (смотри мемуары капитана Ходжсона). Кладбищенский Старик в этом отношении кое в чем походил на протектора. {13} Подобно господину Молчанию, {14} он был весел раза два за всю жизнь; впрочем, шутки его были мрачными, словно похороны, и порой имели для него неприятные последствия, как это явствует из приводимого ниже рассказа.
«Однажды Кладбищенский Старик занимался на кладбище в Гертоне обычным для него делом – восстанавливал надгробия на могилах страдальцев; невдалеке от него приходский могильщик выполнял родственную задачу, то есть, попросту говоря, рыл могилу. Несколько озорных мальчишек шумно играли близ них, беспокоя стариков своими забавами и мешая им в их сосредоточенной и серьезной работе. Особенно назойливыми в этой ватаге были два-три сорванца, внуки хорошо известной в округе личности, носившей имя Купера Климента. Этот мастер пользовался в то время в Гертоне и соседних приходах своего рода монополией на изготовление и продажу деревянных ковшей, чашек, мисок, кубков, ложек, солонок, досок для хлеба и тому подобных предметов домашнего обихода. Нужно отметить, что посуда, изготовляемая Купером, несмотря на великолепное качество, вначале придавала красноватый оттенок любой наливаемой в нее жидкости. Впрочем, это нередко бывает с новой деревянной посудой.
Внукам этого деревянных дел мастера пришло в голову спросить могильщика, куда он девает обломки старых гробов, которые выкидывает из земли, роя могилы. „Неужели вам неизвестно, – сказал на это Кладбищенский Старик, – что он продает их вашему деду, который превращает их в ложки, доски для хлеба, кувшины, чашки, кубки и прочее?“ Это разъяснение страшно смутило мальчишек, и они стали с отвращением вспоминать, сколько еды им довелось съесть на тарелках, которые, по словам Кладбищенского Старика, годились лишь для пиршества ведьм и вампиров. Они рассказали об этом у себя дома, и в тот день пришлось выбросить немало обедов – такое отвращение вызвала разнесенная ими новость; ведь красноватый оттенок, который даже в дни величайшей славы Купера Климента казался несколько подозрительным, теперь стали объяснять происхождением употребляемого им материала. Товары Купера вызывали ужас, что было весьма на руку его соперникам – гончарам. Этот мастер резной ложки и миски видел, что дело его хиреет, и наконец узнал о причине беды, когда его прежние покупатели стали в ярости требовать, чтобы он принял обратно товар, сделанный из столь мерзкого материала, и возвратил уплаченные за него деньги. Попав в тяжелое положение, разорившийся мастер привлек Кладбищенского Старика к суду, на котором без труда доказал, что используемое им дерево – клепки от винных бочек, которые он скупал у контрабандистов, а последних в то время в округе было великое множество. Это обстоятельство объяснило красноватый оттенок, придаваемый жидкостям сделанной им посудой. Кладбищенский Старик заявил, что, говоря о дереве от гробов, он не имел другого намерения, как отделаться от мешавших ему детей. Но легче отнять доброе имя, чем его возвратить. Дело Купера Климента все больше приходило в упадок, и он окончил свои дни в нищете».








