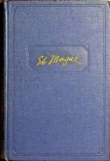Текст книги "Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Вячеслав Иванов. Эрос. Изд. «Оры». СПб., 1907.
[Закрыть]
На маленькую книжку Вячеслава Иванова надо смотреть как на единую лирическую поэму. Отдельные стихотворения, входящие в «Эрос», тесно связаны между собою и, в своей строгой последовательности, образуют цельную, стройную песнь. В одном из первых стихотворений поэт воспоминает:
Чаровал я, волхвовал я,
Бога Вакха вызывал я…
«Эрос» – это поэма о том, как бог Дионис явился, под неожиданной личиной, своему усердному служителю. Это явление и мучительно-сладостные переживания, связанные с близостью бога, и составляют предмет поэмы.
От первых стихотворений, где еще только брезжит предчувствие, до последних, где звучит светлая примиренность с Роком, дающим и отымающим, все написано если не с равной силой творческого вдохновения, то с неослабевающей напряженностью страсти. Этой страстностью, этим живым трепетом, прежде всего и дорога новая поэма Вяч. Иванова, в ряду его других, более холодных созданий, хотя и в ней расточительной рукой щедрого художника рассыпаны все сокровища его мастерства. В 34 стихотворениях, образующих «Эрос», Вяч. Иванов вновь предстает перед нами поэтом, не знающим запрета в своем искусстве, властно, как маг, повелевающим всеми тайнами русского стиха и русского слова. Во многих местах книги Вяч. Иванов идет по совершенно новым путям, указывает и открывает новые возможности, намекает на такие задачи поэзии, которые до него не только никем не были разрешены, но и не ставились.
Прежде, чем критиковать эту книгу, надо по ней учиться. Вяч Иванов принадлежит к числу художников, достигших всех вершин искусства, на которых водружали свои стяги исследователи и пионеры до него. Он вправе теперь говорить нам: мне одному ведом смысл того, что я делаю; если иное смущает вас, берегитесь осуждать, но сначала постарайтесь понять меня. Поэзия Вяч. Иванова – новый этап в истории русской литературы, открывающий пути в далекое будущее…
IV. Урна [99]99Андрей Белый. Урна. К-во «Гриф», М., 1909.
[Закрыть]
«Урна» – книга стихов чисто лирических. Почти во всех стихотворениях, собранных в ней, автор говорит от первого лица, не объективируя своих переживаний, не прикрываясь никакой маской. Это – непосредственные признания поэта, его исповеди. [100]100
В этом отношении «Урна» резко отличается от другой книги А. Белого, «Пепел», вышедшей на несколько месяцев раньше, по обнимающей стихи того же периода (1906–1909 гг.). В «Пепле» собраны именно те стихотворения, в которых поэт объективирует свои чувства, ищет для выражения своего я приемов эпоса. Господствующий пафос «Пепла» – любовь к родине, раздумья над ее судьбой и над путями, по каким идет русский народ, стремление вскрыть глубины народной души.
[Закрыть]
В предисловии А. Белый сам выясняет то настроение, которым проникнута его новая книга. По его толкованию, он в своих юношеских созданиях «до срока» (т. е. не будучи к тому достойным образом подготовлен) попытался «постигнуть мир в золоте и лазури» и горько поплатился за свое дерзновение: он был духовно испепелен той страшной тайной, к которой осмелился приблизиться. «В „Урне“, – пишет А. Белый, – я собираю свой собственный пепел. Мертвое я заключаю в Урну, и другое, живое я пробуждается во мне к истинному». Может быть, поэт, в своем объяснении, несколько идеализирует смысл пережитого им, но он прав в том, что стихи «Урны» это – пепел испепеленной чем-то страшным души. Поэзия «Урны» – поэзия гибели, последнего отчаяния, смерти.
Лейтмотивы большинства стихотворений – «гробовая глубина» и «безмерная немая грусть». Говоря о первой книге стихов Андрея Белого, о его «Золоте в лазури», мы сравнивали его с бесстрашным удальцом, бросающимся на приступ вековечных твердынь, за которыми таятся загадки мира и жизни; мы называли его былинкой в вихре своего вдохновения… От этой юношеской отваги уже мало что осталось в новой книге: перед нами смельчак, узнавший горечь и тяжесть поражений, юноша, которого жизнь встретила испытаниями, художник, убедившийся, что твердыни искусства не сдаются при одном ликующем крике: «С нами бог!» И в стихах «Урны» перед нами уже не те «семь лебедей Лоэнгрина», на которых пять лет тому назад думал унестись в «золото» лазурного неба начинающий поэт; перед нами – поэт, душа которого заполнена мыслями о бессилии, ненужности и смерти.
Мне жить?
Мне быть?
Но быть зачем?
Рази же, смерть!..
Новым настроениям соответствует и совершенно новая форма стихов Андрея Белого. В «Урне» он отказывается от того интуитивного метода творчества, который господствовал в «Золоте в лазури» и в большей части «Пепла». Потерпев неудачу в попытке овладеть тайной искусства силой одного вдохновения, Андрей Белый обращается здесь к творчеству сознательному, упорным трудом ищущему соответствующих приемов изобразительности. Уже как зрелый художник, Андрей Белый, на этот раз, ставит перед собой определенную задачу и зовет «холодный» разум на помощь пламени вдохновения, чтобы найти ее решение. [101]101
В этом отношении характерно, что за «Урной» должен был последовать «Символизм» (к-во «Мусагет») – обширное и очень детальное исследование как о задачах искусства вообще, так о свойствах и возможностях русского стиха в частности.
[Закрыть]
На стихах «Урны» прежде всего чувствуется влияние Пушкина, Баратынского, Тютчева и других наших классиков, отчасти Верхарна и других французов, которых, по-видимому, последнее время изучал А. Белый. Но это влияние, так сказать, растворено в самобытных приемах творчества. В «Урне» А. Белый опять выступает как новатор стиха и поэтического стиля, но уже как новатор сознательный. Он пользуется своими настроениями безнадежности и тоски, чтобы создать для них наиболее подходящую к ним поэтическую форму. И в этой новизне формы едва ли не самое важное значение новой книги Андрея Белого, которая, по своему содержанию, знаменует лишь переходный этап его творчества.
Тем стилем, тем методом творчества, которым написана «Урна», до Андрея Белого еще никто не пользовался. Анализируя этот стиль, мы находим, что он основан на трех особенностях: на отрывочности речи, на постоянных повторениях одних и тех же слов и на широком употреблении ассонансов. Речь А. Белого состоит из очень коротких предложений, в два-три слова, среди которых зачастую нет сказуемого. Самые слова выбраны тоже небольшие, короткие, двусложные или даже односложные. Все это обращает речь как бы в ряд восклицаний:
С тобой Она. Она как тень, Как тень твоя.
Твоя, твоя… Приди. Да, да! иду я в ночь…
Молчу… немой молчу. Немой стою… Да, я склонюсь…
Упьюсь тобой, одной Тобой… Тогда… Да, знаю я…
В этой отрывочной речи постоянно, упорно повторяются одни и те же слова и выражения:
Засни, – засни и ты! И ты!.,
Но холод вешних – струй
Нездешних – струй, —
Летейских струй,
Но холод струй…
Сухой, сухой, сухой мороз…
Но темный, темный, темный ток окрест…
Это повторение слов заменяется иногда соединением слов, сходных по значению (большею частью эпитетов):
…горишь
Ты жарким, ярким, дымным пылом…
…нежный, снежный, краткий,
Сквозной водоворот…
…провал пространств
Иных, пустых, ночных…
Или же соединение слов, сродных по корню, напр., глаголов, различающихся лишь приставками:
Изгложет, гложет ствол тяжелый ветер…
Как взропщут, ропщут рощи…
Прогонит, гонит вновь…
Пролейся, лейся, дождь…
Этот отрывистый, составленный из повторений, язык весь пронизан ассонансами, аллитерациями, внутренними рифмами, так что постоянно повторяются, возвращаются не только те же образы и слова, но и те же звуки.
Ни слова я… И снова я один…
Легла суровая, свинцовая – легла…
И тенью лижет ближе,
Потоком (током лет)…
Но мерно моет мрак…
В лазури, бури свист…
Сметает смехом смерть…
Было бы неосторожно обвинять эту технику стиха в искусственности. Вряд ли возможно установить точно, где кончается искусство и начинается искусственность. Римские поэты сходными приемами умели достигать высшей изобразительности речи. Также несправедливо было бы упрекать А. Белого и за то, что ассонансы, которыми он пользуется, нередко примитивны и что в нагромождении как их, так и повторений слов он иногда доходит до явного излишества. В малоисследованных областях трудно различать пределы. Заметим только вскользь, что некоторые повторения А. Белого граничат с комическим, напр.:
Подмоет, смоет, моет тень,
Промоет до зари…
Можно, однако, указать на ряд других, совершенно несомненных недостатков в новых стихах А. Белого. Их утонченность – односторонняя. Проявляя величайшую заботливость о звуковой стороне стиха, А. Белый порой забывает другие элементы поэзии, пожалуй, главнейшие. Так, оставляет многого желать язык стихов. Далее, словарь А. Белого слишком пестр, невыдержан. Рядом со смелыми (и не всегда удачными) неологизмами в нем нашли себе место совершенно излишние славянизмы: «древеса», «очеса», «словеса», «зрю», «лицезрю», «емлю», «зане» и т. п. Весьма оспорима форма настоящего времени, производимая А. Белым от глаголов совершенного вида: «ударит», «прыснет», «взропщут», «проскачет», «просечет»; для нас эти формы сохраняют смысл будущего времени. Сомнительными кажутся нам выражения: «метет душа» (в смысле – «взметает»), «край» (вместо – «края»), «окуревается», «века летучилась печаль», «твердь изрезая» (т. е. «изрезывая»), «те земли яснятся», «копие… на сердце оборви мое» и т. п. С другой стороны, далеко не все образы в стихах «Урны» отчетливы и действительно «изобразительны». Встречается в книге немало выражений условных, риторических восклицаний и натянутых метафор. Стразой, а не настоящим бриллиантом кажется нам эпитет «немой», приставляемый А. Белым к целому ряду существительных: у ночи «немая власть», бездна лет «немая», нетопыри «немые», тени «немые», укор «немой», прибой «немой», «стою немой», «молчу немой»… Риторикой считаем мы, напр., выражение: «Хотя в слезах клокочет грудь – как громный вал в кипящей пене». Неудачным кажется нам образ: «вскипят кусты» (т. е. взволнуются), который несколько раз повторяется в книге; не более удачным, – когда говорится о тех же кустах, что они «хаосом листьев изревутся». Не без труда проникли мы в смысл двустишия:
В окне… там дев сквозных пурга,
Серебряных, их в воздух бросит.
Вообще «дурная» неясность, неясность, происходящая от неловкости выражений, встречается в книге не так редко, как нам того хотелось бы. В одном стихотворении А. Белый грозит своим врагам:
Вас ток моих темнот
Проколет…
Лучше было бы, не для врагов А. Белого, но для него самого, если бы в его стихах было меньше этого «тока темнот».
Несмотря на эти оговорки, попытка Андрея Белого, сделанная им в его «Урне», остается одной из интереснейших в истории русской поэзии. «Урна» – редкий пример книги стихов, задуманной как целостное произведение, в которой форма заранее, сознательно, поставлена в определенную зависимость от содержания. Андрей Белый не во всех отношениях сумел осуществить свою задачу, но важно уже то, что он себе ее задал и другим указал на необходимость такого единства «книги стихов», основанного на едином замысле, вместе идейном и музыкальном. [102]102
«Урна» еще раз показала нам, какого сильного и добросовестного художника имеет русская литература в Андрее Белом. За свою недолгую литературную жизнь он вступал на множество самых разнообразных путей. Он пытался, по его выражению, «до срока» «постигнуть мир в золоте и лазури»; в своих четырех «Симфониях» он создал как бы новый род поэтического произведения, обладающего музыкальностью и строгостью стихотворного создания и вместительностью и непринужденностью романа; в тех же «Симфониях» он постарался въявь показать нам всю «трансцендентальную субъективность» внешнего мира, сметать различные «планы» вселенной, пронизать всю мощную повседневность лучами иного, неземного света; в своем романе («Серебряный голубь») он неожиданно обнаружил непосредственное чувство и понимание нашей действительности, дал ряд ярких картин современной России; в критических статьях он набросал ряд импрессионистических живых портретов некоторых своих современников и с исключительной оригинальностью мысли поставил несколько вопросов, затронувших самые глубины искусства; в теоретических исследованиях о ритме он выступил одним из первых пионеров истинно научного изучения стиха и поэзии… Поэт, мыслитель, критик, теоретик искусства, иногда бойкий фельетонист, Андрей Белый – одна из замечательнейших фигур современной литературы. В своем творчестве и в своих суждениях отправляющийся от определенного, тяжелой работой мысли добытого (или, точнее, добываемого) миросозерцания, Андрей Белый может не бояться, что для него, как напр., для К. Бальмонта, оскудеет источник вдохновения; для него он неисчерпаем.
Валерий Брюсов
[Закрыть]
1909
V. Cor Ardens [103]103Вячеслав Иванов. Cor Ardens. Speculum Speculorum. Эрос. Золотые завесы. К-во «Скорпион». М., 1911. Ц. 2 р. 40 к.
[Закрыть]
He меньше, как лет пять, читатели Вячеслава Иванова ожидали появления сборника «Cor Ardens» [104]104
Пламенеющее сердце (лат.)
[Закрыть], который постоянно объявлялся в каталогах книгоиздательства с пометой «печатается». Вышедшая, наконец, книга не разочаровывает долгих ожиданий. В ней, впервые, Вячеслав Иванов встает перед нами, как поэт, во весь рост. Мы видим мастера, который в полном обладании всеми современными средствами поэзии, сознательно, уверенно, твердым шагом, идет по избранному пути.
Если «Кормчие звезды» были крепким фундаментом, рассчитанным на величественное здание, если «Прозрачность» была перистилем, а «Эрос» – великолепной аркой, поставленной перед будущим храмом, то «Cor Ardens» – являет нам уже часть этого храма, которому, конечно, суждено пережить наш скромный суд над ним и вызвать, в будущем, еще много суждений, толкований и объяснений. Что новая книга Вяч. Иванова не кажется нам законченным зданием, отчасти объясняется тем, что она – лишь первая половина тома (включающего сборники: «Cor Ardens», «Speculum Speculorum» [105]105
Зеркало зеркал (лат.)
[Закрыть]и «Эрос»), за которой должна последовать вторая («Rosarium»). Но частью объясняется это и грандиозностью первоначального плана, осуществление которого требует подвига целой жизни.
В книге, лежащей перед нами, развиты, собственно, только два элемента поэзии Вяч. Иванова: дифирамбический восторг перед мощью Природы и Жизненного начала в человеке, и мистическое умиление перед таинственным значением Жертвы, приносимой ли богом ради мира или единым из живущих в мире ради бога.
Дифирамбы собраны в первых отделах книги, где отожествляется Солнце, движущее жизнь нашего мира, и Сердце, в котором сосредоточена жизнь человека. Солнце, его земной прообраз – огонь и сердце становятся для Вяч. Иванова символами всякой мощи, всякого дерзания, мятежа. Гимны Солнцу, которое «стремительно в величье бега», чередуясь с песнями во славу Прометея, зажегшего «факел своевольный», переходят в хвалу Сердцу, которое «в неволе темной» творит тот же «светлый подвиг». Естественно присоединяются к этим дифирамбам стихи, посвященные «године гнева», – грозным событиям недавно пережитой нами революции, к которой Вяч. Иванов отнесся с величайшей страстностью.
Мистические гимны объединены во второй половине книги, и эпиграфом ко всем ним могли бы служить стихи из послания к пишущему эти строки (Mi fur le serpi amiche): [106]106
Были змеи друзьями моими (ит.)
[Закрыть]
И я был раб в узлах змеи, —
И в корчах звал клеймо укуса
Но огнь последнего искуса
Заклял, и солнцем Эммауса
Озолотились дни мои…
Этот свет «солнца Эммауса» стремится Вяч. Иванов увидеть и в земном пророчестве о наступлении, в наши дни, новой «эры Офиеля» («Carmen Saeculare»), и в античном предании о святилище озера Неми, жрецы которого приобретали право служить божеству той ценой, что каждый мог убить их и занять их место, и в мифе о Дионисе-Загрее, в котором он видит прообраз Христа – Жертвы («Сон Мелампа»), и в воспоминаниях о «скалы движущем» Орфее («Лицо»), и над явлениями нашей повседневной жизни, в своих раздумьях о Москве, которая, на закате, символически «горит и не сгорает», о колокольном звоне в Духов день, который кажется ему схождением духа святого на медные главы колоколов, о кладбище, где гроба «поют о колыбели»… Христианская мистика проникает все восприятия Вяч. Иванова, и, нигде не выставляя ее на показ, он действительно создает религиозную поэзию, в лучшем смысле этого слова…
Что касается формы, то, конечно, в новой книге Вяч. Иванов остается тем же мастером стиха, каким он показал себя уже в своем первом сборнике. Но все же стих в «Cor Ardens» значительно отличается от стиха «Кормчих звезд». С одной стороны, этот стих окреп, достиг полной возмужалости, совершенной уверенности в себе; поэт знает, что он может выразить своим стихом все, что хочет, что для каждой поэтической идеи он без труда найдет соответствующие слова, нужный ритм. Но в то же время в «Cor Ardens» чувствуется уже некоторая излишняя техническая бойкость и местами встречаются готовые трафареты, применяемые, так сказать, механически. Вяч. Иванов уже пишет иногда «под Вячеслава Иванова». Такими трафаретами кажутся нам, напр., предикативные выражения, на которые Вяч. Иванов излишне щедр: «вверь, нетронут, страшный дар», «глядит, осветлена», «кочует, чутка» и т. под.; также такие обороты, как: «обуян виденьем», «не вотще», «мнится» (чем-либо); такие выражения, как «неисчерпный», «неистомный», «ярый» (последнее слово встречается особенно часто).
Однако в книге все-таки есть известное приближение к простоте речи. Не отрешаясь от своего намеренно величавого языка, цель которого – обособить поэтическую речь от речи повседневной, самой формой указать на значительность, на необиходность передаваемых идей, Вяч. Иванов нашел возможность отказаться от тех синтаксических темнот, которые для многих были неодолимым препятствием на пути к его поэзии. Синтаксис Вяч. Иванова в «Cor Ardens» гораздо более ясен и близок к общеупотребительному, чем в его ранних стихотворениях. Разве только в «Carmen Saeculare» [107]107
Вековая песнь (лат.)
[Закрыть](впрочем, помеченной еще 1904 годом) встречаются такие затруднительные расстановки слов, как:
Коль он не выя весь, дух свергнет крест Атланта;
Из глины слепленный с железом человек,
Коль он не весь скудель, скует ил адаманта —
Из стали и железа Век.
Излишне сжат язык, может быть, также в сонетах «Золотых завес», где встречаются такие эллипсы:
И след его по сумрачному лесу
Тропою был, куда на тайный свет
Меня стремил священный мой обет…
Упростился в то же время и словарь Вяч. Иванова. По-прежнему он произвольно смешивает славянизмы с мифологическими терминами, без надобности говорит «премены» вместо «перемены» и «Адрастея» вместо «смерть», но эти стихии уже пришли к некоторому единению, сочетались в некоторое гармоническое целое. Впрочем, такое впечатление основано, до некоторой степени, и на том, что мы, читатели, ближе ознакомились с языком Вяч. Иванова, освоились с кругом тех образов и идей, которыми живет его поэзия.
Из области чисто технической Вяч. Иванов нового дает в своей новой книге немного. Но на проложенных им ранее путях он делает завоевания новые, и не малые. Неравностопный стих (отчасти соответствующий немецкому knittelvers [108]108
Дольник (нем.)
[Закрыть]и стиху Гейне) представлен в «Cor Ardens» блистательными примерами, может быть, лучшими на русском языке, несмотря на очень удачные попытки в этом направлении А. Блока. «Песни из лабиринта», напр., могут быть названы образцом коротких строк, из которых каждая, согласно с своим содержанием, сама создает свой размер. В цикле сонетов «Золотые завесы» есть несколько в высшей степени примечательных по оригинальности рифм и по законченности своего построения. Многие стихи, по звуковой своей изобразительности, достойны соперничать с лучшими образцами такого рода у Вергилия, как, напр., стих:
Чу, копи в бровях ржут, и лавр шумит, густея…
Но надо признаться, что по временам, в погонях за аллитерациями, Вяч. Иванов заходит слишком далеко, и стихи —
Пьяный пламень поле пашет,
Жадный жатву жизни жнет, —
напоминают уже не Вергилия, а стихи Бальмонта, его
Чуждый чарам черный челн…
Во всех стихах Вяч. Иванова есть что-то от античной поэзии. В расположении слов и в построении строфы часто слышатся отзвуки строгой латинской лиры. «Покров», напр, (говорим исключительно о его ритмике), наводит нам на память Катулла, «Carmen Saeculare» – Горация, «Огненосцы» – хор Эсхиловой трагедии, «Сон Мелампа» намеренно подражает античной идиллии. Это веяние античности придает поэзии Вяч. Иванова редкую в наше время силу, и от его стихов получается впечатление созданий acre perennius. [109]109
Вековечнее меди (лат.)
[Закрыть]
1911
Сергей Соловьев
I. Цветы и ладан [110]110Сергей Соловьев. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М. 1907. Ц. 2 р. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Первые стихи С. Соловьева, появившиеся в печати в начале 90-х годов, заставили признать в нем одну из лучших надежд нашей молодой поэзии. Мастерство и обдуманность стиха и серьезное отношение к задачам поэта – вот особенности, выделяющие С. Соловьева из рядов его сверстников. В предисловии к своей первой книге, в списке имен своих учителей (в котором мне и Вяч. Иванову он оказал опасную честь, назвав нас рядом с Пушкиным, Кольцовым и Баратынским), С. Соловьев упоминает Горация и Ронсара… Многие ли из современных поэтов могут похвалиться даже не тем, что настолько вникли в творчество этих двух титанов прошлого, чтобы учиться у них, но хотя бы тем, что читали их! Но в книге С. Соловьева чувствуется его близкое знакомство и со многими другими, не упомянутыми им вождями поэзии – прежде всего с Гомером, Эсхилом и Овидием, а затем с французскими парнасцами, научившими его строгости и полноте стиха. И почти на каждой странице «Цветов и ладана» встречаем мы результаты изучения и следы упорной работы молодого поэта, старающегося то перенять пленивший его размер, то пересадить в нашу поэзию приемы иного времени, то обогатить стихотворную речь новым созвучием.
Однако до сих пор творчество С. Соловьева еще не вышло за пределы перепевов и подражаний, и он очень прав, называя свой сборник «ученическим опытом». В лучшем случае С. Соловьев дает новые комбинации уже знакомых элементов, но нет в его книге личных, единственных переживаний, того «нового трепета», который составляет высшее оправдание новопришедшего поэта. «Цветы и ладан» – книга, быть может, поэта, но еще не книга поэзии, а только книга стихов, хотя порой прекрасно сделанных и часто завлекательно интересных для любителей стихотворной техники, «Цветы и ладан» – книга попыток, но автор не пытается в ней выразить свою душу, а только пробует разные способы выражения, не мечет, хотя бы и слабой рукой, первые копья боя, но старательно кует себе оружие для будущих поединков. И мы, оставляя в стороне идеи и чувства книги, должны указать молодому витязю, что орудие его не всегда надежно и не во всех частях безупречно.
Чеканя отдельные стихи и отдельные выражения, С. Соловьев нередко теряет из виду целое, забывая, что из слов создаются предложения и из стихов – стихотворения. Ради сочной рифмы, ради интересного образа он охотно вставляет в строфу ненужный стих, нарушает естественное расположение слов, прибавляет лишний эпитет. Так, в одном стихотворении у него св. Цецилия играет на органе, хотя во времена св. Цецилии органов еще не существовало, да вдобавок при этом «струны взывают», хотя в органе нет струн. Белица у него, сообщая, что она пойдет погулять и посбирать цветов и ягод, внезапно прерывает свою речь совершенно вставочным замечанием, «вся истомилась я за год», только затем, чтобы дать возможность поэту срифмовать «ягод» и «за год». В стихотворении «Свете тихий» приходится сообщать читателям довольно известные вещи, вроде того, что могила – «приют от бедствий», а рыцарь – «монах, что закован в железо», чтобы срифмовать красиво – «в детстве» и «трапеза». Ахилл, негодуя на Агамемнона, находит, словно какой юрист, что его гнев «беззаконен», лишь потому, что это – хорошее созвучие к слову «мирмидонян», и т. д.
С другой стороны, в этой погоне за красивыми рифмами и хитро построенными строфами С. Соловьев успевает следить только за концами стихов да за чередованием ударений, а что за слова стоят в начале строк, ему, порой, бывает все равно. Fiat metrum, pereat mundus! [111]111
Да будет размер, хотя бы погиб мир! (лат.)
[Закрыть]Вот почему его описания нередко сбиваются на такие избитые шаблоны, а его эпитеты производят впечатление такой надуманности и книжности, что и «ученическим опытам» этого простить нельзя. Вот, например, в каких схоластических, совершенно мертвых выражениях С. Соловьев описывает утро: «Аврора на мысах – рассыпала искры. Туман поднялся. – В сиянии высох – зеленый серебрящийся луг, и роса – исчезла с растений». Горы у него характеризуются как «орошенные студеной росой»; львица определяется как «подруга владыки обильных лесами дубрав»; деревья пронзают воздух сребристыми прутьями; про дев говорится, что они «крыты шкурой»; хотя крыты бывают только дома – железом, деревом, соломой, Лада «нежит цветущий, белый сад юных бедр»; нимфа Ио, рассказывая о себе вычурным языком, выражается так: «несчастный повод гнева матери богов, я бегу» и т. д. Очевидно, сам сознавая «условность» своих описаний и эпитетов, С. Соловьев старается оправдать их тем, что выдерживает свои стихотворения в определенном стиле – то античной оды, то пасторали XVII века, но от этого они, конечно, не становятся более живыми.
К целому ряду недоразумений подает повод у С. Соловьева насильственное расположение слов. Мы хорошо понимаем, что требования выразительности и требования ритма заставляют в стихах иначе размещать слова, нежели в прозе (прекрасные образцы особой «поэтической» расстановки слов дали «учители» С. Соловьева – Овидий и Гораций); однако совершенно недопустимым надо признать, когда у С. Соловьева расстановка слов ведет к двусмысленности или вызывает прямо комическое впечатление. Что значит, например: «в блеске выи розы давали место – белым лилеям», – идет ли речь о «выях розы» или о «розах выи»? Что значит: «сотни уст раскрываются на солнце» – говорится ли здесь об «устах солнца», или «на солнце» значит «под солнцем»? Можно ли говорить «землю, взрытую навозом», или «упала… на кровьюПирама дымящийся, теплый, язвительный меч»? Есть у С. Соловьева и просто неправильные выражения: «скрыться в лугу»; «червленный отсолнца»; «быть добровольным в крови»; «страх исчез с сердца» и т. д.
Часто в стихах С. Соловьева чувствуется недостаток музыкальности. Та напевность, которая есть не только у К. Бальмонта, но и у B. Гофмана, совершенно не досталась в дар C. Соловьеву. В лучшем случае его стих звучен, но чар слов, особой магии слов в нем нет нигде. В связи с этим стоит прямое пренебрежение С. Соловьева к различным звуковым украшениям речи: аллитерациям, внутренним рифмам и т. под. Это пренебрежение несколько неожиданно, при той тщательной отделке, какую вообще придает своим стихам С. Соловьев и при его преклонении пред латинскими поэтами, великими мастерами в этой области. Прямыми метрическими ошибками у С. Соловьева надо признать «И еще» в начале ямба или «Твои руки» в начале анапеста.
Рифмы С. Соловьева большею частью очень интересны, и не мало созвучий он первый ввел в обиход русской поэзии. Мы должны, однако, осудить те его рифмы, где одному «а» соответствует два, как «органа – осиянна», «невинной – сердцевиной», те, где конечное «а» рифмуется с конечным «я», как «поднялся – роса», «лилося – колеса», «сопрягся – Аякса», и те, где мягкое окончание рифмуется с твердым, как «примирись – Парис», «зажглись – Симоис», «глаз – зажглась» и т. под. Трудно также одобрить рифмы вроде «выпав» – «осыпав».
1907 [112]112
Появление этой рецензии (в «Весах») вызвало пространный ответ С. Соловьева (в его новой книге «Crurifragium») автору этих строк. Молодой поэт шаг за шагом старался оправдать все те выражения, которые много были отмечены как неудачные, настаивая, напр., что можно сказать «червленный от солнца», если говорят «красный от солнца», «доброволен в крови», если можно быть «добровольным в смерти», и т. д. Признаюсь, его доводы меня не убедили, и я готов отказаться только от одного упрека – неуместности органа, на котором играет св. Цецилия, ввиду того, что старинные художники (Карло Дольче и др.) не раз изображали св. Цецилию именно за органом… Другое дело общие рассуждения С. Соловьева, возможно ли критиковать формупоэтического произведения, независимо от его содержания. С. Соловьев безусловно прав, находя это невозможным. Но в том-то и дело, что в «Цветах и ладане» я нашел не поэзию, но стихи, и потому критиковал именно только стихи. (Прим. В. Брюсова.).
[Закрыть]