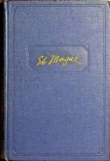Текст книги "Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Не меньше изысканности у Тютчева и в самом строении стиха. Он с величайшей заботливостью применял в своей поэзии все те вторичные средства изобразительности, которые были хорошо знакомы поэтам античным, но которыми пренебрегают многие из выдающихся современных поэтов. Так, он охотно употреблял внутренние рифмы и ассонансы, например: «В какой-то неге онеменья»,«И ветры свистела и пеливалы», «Кто скрылся, зарылсяв цветах?», «И без воюи без бою»,«Под вами немые,глухие гроба», «Неодолим, неудержим», «Неистощимые, неисчислимые» и т. п. Понимал Тютчев и то значение, какое имеют в стихах аллитерации. Вот несколько более ярких примеров: «Как пляшут пылинки в полдневных лучах», «Ветрило весело звучало», «Объятый негой ночи», «Сладкий сумрак полусонья», «Тихий, томный, благовонный», «Земля зеленела»… Эта заботливость приводила Тютчева иногда к настоящим звукоподражаниям, как, например, в стихах: «Кругом, как кимвалы, звучали скалы»,«Хлещет, свищет и ревет», «Блеск и движение, грохот и гром…»
Все это делает Тютчева одним из величайших мастеров русского стиха, «учителем поэзии для поэтов», как выразился А. Горнфельд. В поэзии Тютчева русский стих достиг той утонченности, той «эфирной высоты» (слова Фета), которая до него не была известна. Рядом с Пушкиным, создателем у нас истинно классической поэзии, Тютчев стоит как великий мастер и родоначальник поэзии намеков. У Тютчева не было настоящих преемников, можно назвать лишь одного Фета, который, впрочем, развился без его непосредственного влияния. Только в конце XIX века нашлись у Тютчева истинные последователи, которые восприняли его заветы и попытались приблизиться к совершенству им созданных образцов.
А.А. Фет. Искусство или жизнь [65]65
Публичная лекция, прочитанная по поводу десятилетия со дня смерти А. Фета (1892–1902) и тогда же впервые напечатанная. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Стану буйства я жизни живым отголоском.
А. Фет
1
В 1842 году, среди бледных и подражательных стихотворений, нисколько не предвещавших будущего творца «Вечерних огней», Фет писал:
Стихом моим, незвучным и упорным,
Напрасно я высказывать хочу
Порыв души…
Вся позднейшая творческая деятельность Фета и была мучительной борьбой с незвучным и упорным стихом, бессильным передать порыв души. Фет не удовлетворялся жизнью в мире «таинственно волшебных дум». Наслаждение мечтой было для него неразрывно слито с жаждой ее воплощения.
По-видимому, он достиг многого. Самые смелые славословия искусству и его мощи принадлежат в русской литературе Фету. То с упорством, с упрямством, то с величавой гордостью повторял он, что создания искусства на вечность, что они – aere perennius [66]66
Вековечнее меди (лат.)
[Закрыть].
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слона звук
Хватает на летуи закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах.
Шепнуть о том, о чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец,
Вот чем поэт лишь, избранный, владеет,
Вот в чем его и признак и венец.
Как богат я в безумных стихах!..
Звуки есть, дорогие есть краски!..
Но тотчас, после этих самохвалений, голос Фета словно срывался:
Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний!
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?
…сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой.
Не нами Бессилье изведано слов к выраженью желаний,
Безмолвные муки сказалися людям веками.
Кому венец, богине красоты
Иль в зеркале ее изображенью?..
Не я, мой друг, а божий мир богат…
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.
Это противоречие осталось до сих пор неодолимым для критиков Фета.
Б. В. Никольский, редактор последнего издания его стихов, говорит в своем предисловии: «Доверяясь минутным преувеличениямсвоего восторга, Фет нередко бывал готов позабыть великое значение человеческого духа, его равноправность миру, бывал готов унижать свое вдохновение пред пышною полнотой земного бытия… Но проходила минута артистического восхищения,поэт углублялся в себя, и вдохновение торжественно вступало в свои права».
Ссылка на минуту,т. е. на случайность, – прием, недостойный критики; им она сама признает свое бессилие. Критика должна объяснить из основ миросозерцания Фета, как возникло это противоречие. Каким путем, после уверенного восклицания «Звуки есть, дорогие есть краски», он доходил до жалобы на бессилие слов? Как искусство, которое способно «усилить бой бестрепетных сердец», становилось для него лишь «изображением в зеркале»? Критика должна уяснить, что же ставил он выше… мир, где все в непрестанном колебании, где розы отцветают и мгновения исчезают, или искусство, где мимолетные грезы – «старыми в душу глядятся друзьями», где засохший листок – «золотом вечным горит в песнопеньи»; как решался для него самого вопрос:
Кому венец, богине красоты
Иль в зеркало со изображенью?
2
Мысль Фета, воспитанная критической философией, различала мир явлений и мир сущностей. О первом говорил он, что это «только сон, только сон мимолетный», что это «лед мгновенный», под которым «бездонный океан» смерти. Второй олицетворял он в образе «солнца мира». Ту человеческую жизнь, которая всецело погружена в «мимолетный сон» и не ищет иного, клеймил он названием «рынка», «базара».
Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям.
Но если жизнь – базаркрикливый бога,
То только смерть его бессмертный храм.
На рынок!там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца.
Но Фет не считал нас замкнутыми безнадежно в мире явлений, в этой «голубой тюрьме», как сказал он однажды. Он верил, что для нас есть выходы на волю, есть просветы, сквозь которые мы можем заглянуть «в то сокровенное горнило, где первообразы кипят». Такие просветы находил он в экстазе, в сверхчувственной интуиции, во вдохновении. Он сам говорит о мгновениях, когда «как-то странно прозревает».
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я извремени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!
За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отрадно и светло.
Не говори о счастье, о свободе
Там, где царит железная судьба.
Сюда! Сюда! не рабство здесь природе,
Она сама здесь верная раба!
Могут быть разные формы экстаза и интуиции. Они различаются по причинам, вызывающим их в человеке. Есть экстаз религиозный, экстаз героя, художника («В Элизии цари, герои и поэты»). Но между всеми этими формами – сходство по существу. Экстаз, интуиция, вдохновение дают «странное прозрение», увлекают за рубеж «вседневного удела», освобождают от последних оков, от которых не властен освободить никакой другой владыка: от «рабства природе», от «железной судьбы», от условий нашего обычного познания и бытия. С этих «незапятнанных высот», из этой «свежеющей мглы» (как пытался Фет определить области вдохновения) даже разделение добра и зла отпадает, «как прах могильный». Здесь та абсолютная свобода, которую имел в виду Фет, когда говорил «псевдопоэту» (т. е. Н. А. Некрасову):
Ты слова гордого – свобода
Ни разу сердцем не постиг! —
и когда о себе и о художниках, подобных себе, восклицал:
Кляните нас… нам дорога свобода!
В обычной жизни такие «мгновения прозрения» чаще всего даются любовью. Любовь по самой своей сущности мистична. Любовь всем, даже чуждым героического, религиозного, художнического одушевления, позволяет хоть раз вздохнуть истинно свободным воздухом, «свежеющей мглой» экстаза, заставляет увидеть бездны у своих ног. Вот почему поэзия Фета с особой радостью славила любовь… «И прославлять мы будем век любовь», – говорил он сам. Фет был уверен, что сами небожители, если бы они вздумали раскрыть все тайны, известные на небесах, т. е. все о сущности мира —
Больше страстного признанья
Не поведали б земле.
В мире явлений, в «голубой тюрьме», все совершается по определенным правилам. Даже звезды движутся по установленным путям – «рабы, как я, мне прирожденных числ». В «мгновения прозрения» весь мир открывается иным, без этой рассудочной правильности, и постигается по иным законам, которые для мысли кажутся беззаконием. Противополагая эти мгновения «вседневному уделу», где господствует «ум» и трезвая логика, Фет любил называть их «безумием» или «опьянением», а самого себя, как поэта, «безумцем» или «опьяненным». Он говорил о том, как он «богат в безумных стихах», говорил о «безумной прихоти певца» и, наконец, давал себе оправдание:
Моего тот безумстважелал, кто смежал
Этой розы завой, и блестки, и росы.
Можно ли трезвойто высказать силой ума,
Что опьяненномумуза прошепчет сама?
На этой противоположности двух миров – одного, где царит ум и трезвость, и другого, где властвует безумие и опьянение, – основывал Фет торжество искусства. Изучение мира явлений составляет науку. Но весь умопостигаемый мир «только сон, только сон мимолетный». Что же такое после этого вся наука? Не более как изучение снов. Напротив, задача искусства – запечатлеть «мгновения прозрения», т. е. подлинного познания вещей. Объекты науки – явления или условия явлений. Объекты искусства – сущности. Искусство только там, где художник «дерзает на запретный путь», пытается зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной».
Искусство только там, где безумие, где просвет к «солнцу мира». Выводы науки меняются или могутизмениться. («И клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковою».)Создания искусства вечны.
Здесь вершина, здесь последний предел, которого достигал Фет в своем славословии искусства.
3
Но тотчас за этим горным гребнем начинался для него стремительный спуск в другую сторону, обрыв, бездна.
Где у искусства средства, чтобы выполнить свое назначение? Есть ли у художника возможность зафиксировать ослепительное явление «солнца мира», если ему и явит его вдохновение? Что в распоряжении художника?
Слова, краски, мрамор, звуки – косный и чуждый материал! Как во временном воплотить вечное, в явлении выразить сущность, словом передать несказанное? И рядом с тютчевским определением, имеющим всю глубину и всеобъемлемость формулы: «мысль изреченная есть ложь», должно быть поставлено равносильное, но исполненное жизни, восклицание Фета:
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
Фет в одном стихотворении уподоблял создания искусства туманностям, чуть видным среди звезд:
Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть!
В другом месте он сравнивал воплощенную мечту с заревом пожара:
Когда читала ты мучительные строки,
спрашивал он,
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло…
Там человек сгорел!
Пред астрономом – только легкие облачки и спирали слабого света. А в действительности это – целые миры, тысячи солнц и планет, миллионы лет всех форм бытия, борьбы, исканий, осуществлений! Перед читателем только красивое зрелище: зарево на ночном небе, только певучие стихи, смелые образы, неожиданные рифмы. Как легко пробежать глазами стихотворение и почтить его «едким осужденьем» или «небрежной похвалой». Но за этими двенадцатью строчками целый ужас – «Там человек сгорел!» Кто же поймет его, если даже для самого художника, когда он отдаляется от своих созданий, они – «только неясно дошедшая весть»!
Поэт, стремясь в словах, которые ежедневно влекутся по «торжищам» и «рынкам», воплотить «живую тайну вдохновенья», подобен младенцу, который думает, что может рукой поймать в волнах ручья отражающуюся в нем луну:
Луна плывет и светится высоко,
Она не здесь, а там!
И вот, не под влиянием «минутного артистического восхищения», а с горьким сознанием Фет унижал свое вдохновение пред полнотою бытия. В искусстве, которое казалось единственно подлинным, единственно стойким в мятущемся потоке явлений, он увидел тот же яд лжи, искажающий, обезображивающий прозрение художника. В безднах ища опоры, «чтоб руку к ней простреть», он ухватился за искусство. Но оно подалось, оно не выдержало его тяжести. И вновь он остался один,
И немощен, и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.
Тогда в этом обширном мире, в этом «мировом дуновении грез», не осталось для него ничего, что имело бы самодовлеющее значение, кроме собственного я. В центре мира оказалась не мертвая статуя, не «искусство для искусства», а живой человек. Так, куда бы мы пи шли по земле, мы всегда увидим самих себя в самой середине горизонта, и все радиусы небесного свода сойдутся в нашем сердце. Фет отказался от своего первоначального поклонения искусству не потому, чтобы забыл «о великом назначении человеческого духа», а потому, что поставил его слишком высоко. «Буду буйствая жизни живымотголоском» – вот как примирил он притязания жизни и искусства.
Человек, для человека, есть последняя «мера вещей». В человеке – все, и вся жизнь, и вся красота, и весь смысл искусства. Какие бы великие притязания ни высказывала поэзия, она не могла бы сделать большего, как выразить человеческую душу. Понимая это, Фет слагал восторженные гимны личности:
Два мира властвуют от века,
Два равноправныхбытия…
Один объемлет человека,
Другой – душа и мысль моя.
…я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь, сильней и ярче всей вселенной.
И, обращаясь к смерти, поэт говорил ей:
Покуда я дышу, – ты мысль моя, не боле…
Мы – силы равные, и торжествую я!
Умудренный опытом лет, он не находил другого назначения поэзии, как служение жизни, но только в те мгновения, когда, просветленная, она становится окном в вечность, окном, сквозь которое струится свет «солнца мира».
Сегодня день твой просветленья,
И на вершине красоты
Живую тайну вдохновенья
Всем существом вещаешь ты! —
писал он кому-то, – не все ли равно, кому? «Я луч твой, летящий далеко», мог бы он сказать красоте, вслед за одним из своих героев. «Юности ласкающей и вечной» хотел Фет молиться в своих стихах. Но, стремясь и сам к тому, чтобы был ему внятен «весь трепет жизни молодой»до последнего дня, покуда «хоть и с трудом» будет он «дышать на груди земной», – под «юностью» разумел он не что другое, как истинную жизнь, дни и мгновения «просветленья». Люди едва замечают эти мгновения, чуждаются, даже страшатся их, но душа поэта —
Их вечно празднующий храм.
4
На поставленный себе вопрос:
Кому венец, богине красоты
Иль в зеркале ее изображенью?
Фет мог бы дать нам окончательный ответ: Богине! Человеку! Жизни! Но не той жизни, которая шумит на рынках и крикливых базарах. Не тому человеку, которому ценнее грошовый рассудок, чем безумная прихоть певца. Этому «стоокому слепцу» Фет всегда указывал на искусство, как на сокровищницу недосягаемых для него идеалов. Но в то же время искусство – только скудельный сосуд для драгоценнейшей влаги. Истинный смысл поэзии Фета – призыв к настоящей жизни, к великому опьянению мгновением, которое вдруг, за красками и звуками, открывает просвет к «солнцу мира» – из времени в вечность.
В предисловии к III выпуску «Вечерних огней» Фет говорит, что «жизненные тяготы» заставляли его «но временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии». – «Однако, – продолжает Фет, – мы очень хорошо понимали, что, во-первых, нельзя постоянно жить в такой возбудительной атмосфере, а во-вторых, что навязчиво призывать в нее всех и каждого и неблагоразумно, и смешно».
Не изменила ли здесь смелость мысли Фету, как и всегда, когда он пытался быть только мыслителем, а не поэтом? Мы напротив, полагаем, что вся цель земного развития человечества в том и должна состоять, чтобы всеи постоянно могли жить «в такой возбудительной атмосфере», чтобы она стала для человечества привычным воздухом.
1903
Владимир Соловьев. Смысл его поэзии [67]67
Написанная по поводу 3-го изд. «Стихотворений» Вл. Соловьева (1900 г.), статья была напечатана непосредственно после его смерти. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
1
Стихи – всегда исповедь. Поэт творит прежде всего затем, чтобы самому себе уяснить свои думы и волнения. Так первобытный человек, когда еще живо было творчество языка, создавал слово,чтобы осмыслить новый предмет. Потому-то истинная поэзия не может не быть искренней. В немногих, избранных словах стиха (иногда бессознательно для поэта) затаены самые откровенные признания, раскрыты тайники души. Если берутся угадывать характер по почерку, то насколько же полнее, хотя бы чисто рассудочным путем, можно уразуметь душевный строй того, кто написал стихи, нашел в себе их содержание, предпочел эти образы и выражения другим, – насколько полнее, даже если б он хотел лицемерить перед читателями! Но поэты всегда сами готовы, нарушая горький запрет великого собрата, выставлять в стихах «гной душевных ран», «на диво черни простодушной». В своей поэзии Вл. Соловьев является таким, каким был для самого себя.
Есть два рода поэзии. Одна довольствуется изображением того, что можно постигнуть умом, выражением чувств, доступных ясному сознанию. Ее сила в передаче зримого, внешнего, в яркости описаний и точности определений. Поэт как бы ставит картину или событие перед внутренними очами читателя и, заставляя его видеть то же, что видит сам, через посредство этого образа передает свое настроение. Такие художники властвуют над своим созданием (что, конечно, нисколько не исключает вдохновенности). Им в удел досталась эпопея и драма, вообще большие поэтические произведения, требующие долгого напряжения творческих сил. Таким, в своих наиболее известных созданиях, был Пушкин, который обладал способностью писать поэму по заранее составленному плану, главу за главой выполняя программу. Таковы были А. Майков, граф А. Толстой.
Поэзия другого рода беспрестанно порывается от зримого и внешнего к сверхчувственному. Ее влекут темные, загадочные глубины человеческого духа, те смутные ощущения, которые переживаются где-то за пределами сознания. Область ее – чистая лирика. Поэт как бы чувствует себя ниже своего создания, как бы должен отдаться во властьнаития. Конечно, это не значит, чтобы такие произведения были бессвязны; при кажущейся беспорядочности они сохраняют духовную цельность; неуловимость настроения не мешает глубокой обдуманности отдельных выражений. Но часто этой поэзии недостает слов: ибо то, что она жаждет выразить, несказанно. В то время, как один поэт с гордостью восклицает: «давай мне мысль, какую хочешь; ее с конца я заострю» и т. д. – у другого вырываются жалобы, что «мысль изреченная есть ложь» или страстные пожелания – «о если б без слова сказаться душой было можно!» Эта поэзия освящена у нас именами Тютчева и Фета. Ей же принадлежит имя Вл. Соловьева.
В одном стихотворении, посвященном памяти Фета, Вл. Соловьев говорит о нем:
Не скрыл он в землю дар безумных песен.
В послании к К. Случевскому в более общем значении он опять поминает
Безумьевечное поэта.
Еще в одном стихотворении тот же эпитет повторен в третий раз: «Безумныепесни и сказки». Не случайно взято это слово. Вряд ли его можно применить даже к величайшим созданиям поэтов первой школы, напр., к описанию Полтавского боя у Пушкина или к его рассказу о нравах горцев. Разве это – безумные песни? Говоря о вечном безумии поэта,Вл. Соловьев тем самым признал, какой поэзии служат его стихи. И если он сам жадно любил классическую красоту пушкинских творений и поклонялся ей, то для его поэзии она оставалась недоступной. Ему дан был тоже лишь «дар безумных песен».
Вл. Соловьев в стихотворстве был учеником Фета. Его ранние стихи до такой степени перенимают внешние приемы учителя, что их можно было бы почти нечувствительно присоединить к сочинениям Фета, как к собраниям стихов Овидия присоединяют стихи его безымянных подражателей, Poetae Ovidiani. Таковы, напр., стихи «Пусть осень ранняя смеется надо мной», «Нет вопросов давно и не нужно речей» и т. под. Но самобытная, сильная личность Вл. Соловьева не могла не сказаться скоро и в его поэзии. В то время как в поэзии Фета начало художественное преобладало, Вл. Соловьев сознательно предоставил в своих стихах первое место – мысли.
Вл. Соловьев не принадлежал к числу тех «философов», сурово осуждаемых им самим, которые принимают свои рассуждения и системы за дело себе довлеющее, которым умозрение нужно лишь для чтения лекций или писания книг. Философия для него сливалась с жизнью, и вопросы, которые он разбирал, мучили его не только на страницах его сочинений. Вл. Соловьев был нашим первым поэтом-философом, который посмел в стихах говорить о труднейших вопросах, тревожащих мысль человека. Он отверг обычные темы поэзии, все эти описания природы ради одного описания, все эти жалобы в стихах на свое горе и наивные признания в своем веселии, – и мог не бояться, что через то его поэзия оскудеет.
Миросозерцание Вл. Соловьева, конечно, нельзя пересказать в двух словах. Но особенно резко и определенно выделяется он среди современных мыслителей своим отношением к христианству. Как философ, он был апологетом христианства, равно нападая и на грубость так называемого положительного знания (позитивизма), и на бесплодность только рассудочной метафизики. Притом христианство влекло его к себе не как круг настроений, а как источник откровения. И вся его философия, в сущности, есть только попытка рационалистически оправдать то христианское верование, что каждой личности дарована полнота бытия, что смертью не кончается наше существование.
С большой силой доказывает Вл. Соловьев, что иначе жизнь лишалась бы всякого смысла. Какой смысл могла бы иметь она, если б прав был Эдгар По и люди, на сцене бытия, разыгрывали бы перед зрителями серафимами позорную комедию, коей название «Червь победитель»? если б сила, красота, мудрость – все должно было прийти к уничтожению? если б благоденствие грядущих поколений должно было кончиться смертью?
Если желанья бегут, словно тени,
Если обеты – пустые слова, —
Стоит ли жить в этой тьме заблуждении? —
спрашивал Вл. Соловьев, и искал такого смысла жизни, для которого была бы «нужна» Вечность. Должно принять «жизнь вечную», потому что иначе жизнь лишится всякого смысла, – таков ход рассуждений Вл. Соловьева. В этом искании «оправдания жизни», более чем в «оправдании добра», – жизненное дыхание всей его философии.
Поэзия, вытекающая из такого миросозерцания, конечно, христианская поэзия. Она не повторяет знакомых текстов и не пересказывает стихами евангельских притч. Но начала христианские лежат в ней на дне и освещают ее изнутри, как свеча, заключенная в прозрачном сосуде.
В одном из ранних стихотворений, «Три подвига», Вл. Соловьев точно очертил круг своей поэзии. В этом стихотворении он олицетворил три задачи человечества в трех классических образах: Пигмалиона, творящего красоту, Галатею; Персея, побеждающего зло, Дракона; и Орфея, торжествующего над смертью, выводящего Эвридику из Аида. Только то, что так или иначе имеет отношение к этим подвигам, и находило доступ в поэзию Вл. Соловьева.
2
Поэзия Вл. Соловьева вскрывает перед нами миросозерцание, основанное на глубоком, безнадежном дуализме. Говоря терминами самого Вл. Соловьева, есть два мира: мир Времени и мир Вечности. Первый есть мир Зла, второй – мир Добра. Найти выход из мира Времени в мир Вечности – такова задача, стоящая перед каждым человеком. Победить Время, чтобы все стало Вечностью, – такова последняя цель космического процесса.
Что же такое мир Времени?
Ни в каком случае это не материя (вещество, тело). И дух и тело, оба они равно принадлежат и миру Времени и миру Вечности. И в духе, как и в теле, порой преобладает начало Зла, порой – начало Добра. Когда Добро первенствует, возникает Красота, все равно – красота природы, человеческого лика, подвига…
Красота природы есть проявление первой победы Добра над Злом. В красоте природы мы видим, воплощенным во временном, отблеск Вечности. Вот почему славить эту красоту вовсе не значит служить миру Времени, но, напротив, Вечному. И Вл. Соловьев не стыдится назвать землю владычицей,потому что в проявлениях ее жизни угадывает он «трепет жизни мировой»:
Земля-владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой…
К этому кругу чувств и воззрений относятся все стихи Вл. Соловьева о «прелестях земли», его изображения то буйной, то успокоенной, то закутанной в пушистую шубу – Саймы, картины моря, осени и т. под. В стихотворении, в котором он открыто высказал свое profession de foi [68]68
Исповедание веры (франц.)
[Закрыть](«Das Ewig-Weibliche»), Вл. Соловьев даже прямо назвал Красоту «первой силой». Афродита, рожденная из пены, была первой угрозой миру Зла, она на время укротила его злобу своей красотой (намек на значение Эллады в эволюции человечества), хотя и не могла одолеть его вполне.
Однако в косной природе, как и в духе, Зло постоянно борется с Добром, и временное стремится подчинить себе вечное. Вот почему здешней жизни Вл. Соловьев дает определения почти всегда отрицательные. Это – «злая жизнь», «злое пламя земного огня», «мир лжи», «царство обманов». Но с тем большей охотой его поэзия останавливается на всех проявлениях жизни природы, которые можно принять как символы конечной победы светлого начала. В весне, неизменно сменяющей зиму, во дне, разгоняющем ночные тени, в лазури, вновь выглядывающей из-за туч, закрывших было ее, его поэзия видит двойной смысл, иносказание. Утренняя звезда, «звезда Афродиты», становится символом плотских страстей, бледнеющих, гаснущих перед Солнцем Любви; красные отсветы восхода – кровью, заливающей поле сражения:
Посмотри: побледнел серп луны,
Побледнела звезда Афродиты,
Новый отблеск на гребне волны…
Солнца вместе со мной подожди ты!
Посмотри, как потоками кровь
Заливает всю темную силу.
Старый бой разгорается вновь…
Солнце, солнце опять победило.
Подобная же борьба совершается и в человеческом духе. Мир Времени стремится завладеть человеком всецело, заключить его в своих стенах без окон и без выхода, отнять у него, миг за мигом, все пережитое и завершить все томления последним безнадежным концом: смертью, за которой нет ничего: Борьба с миром Времени состоит в постоянном порывании к миру Вечности, в искании в стенах жизни просветов к Вечному, в победе над бренностью земного и в конечном торжестве над смертью.
Поэзия Вл. Соловьева готова славить все этапы этой борьбы.
Что такое для нее человек? В одном стихотворении Вл. Соловьев называет его:
Бескрылый дух, землею полоненный,
Себя забывший и забытый бог…
В другом стихотворении он называет человека «невольником суетного мира»; еще в одном говорит, что человеческий дух «заключен в темницу жизни тленной». Но, сохраняя память о своем божественном происхождении, человеческий дух томится на земле в цепях. Это томление Вл. Соловьев называет «разрывом тягостным» —
Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг…
Тяжкому разрыву нет конца ужели?
Душа все время порывается из оков к своей вечной отчизне, как «волна, отделенная от моря», «тоскуя по безбрежном, бездонном синем море». Говоря о жизни, Вл. Соловьев восклицал: «Какой тяжелый сон!» И, может быть, не случайно последним написанным им стихом были два слова:
Тяжкие дни!
Простейшая форма борьбы духа с миром Времени есть память. Сохраняя неизменными в памяти промелькнувшие мгновения, мы побеждаем Время, которое тщится их отнять у нас. Вот почему так охотно просит Вл. Соловьев: «Мчи меня, память, крылом не стареющим». В одном из своих самых последних стихотворений (и вместе с тем в одном из своих гармоничнейших созданий) он признается, как сладко ему сознавать вечную близость к былому:
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смертью занавешенным, тихим берегам…
Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подошли и сняли вдруг покрывало с глаз.
Видят что-то вечное, что-то неразлучное,
И года минувшие, как единый час…
А в другом, посвященном К. Случевскому, он славит высшую форму воспоминания, – бессмертие прошлого в созданиях искусства:
Пускай Пергам давно во прахе,
Пусть мирно дремлет тихий Дон…
Все тот же ропот Андромахи.
И над Путивлем тот же стон.
Память, однако, еще не выводит нас из мира Времени. Выше, чем минуты воспоминаний, стоят минуты прозрений и экстаза, когда человек как бы выходит из условий своего мира… У Вл. Соловьева была уверенность, что стены той темницы, в которой заключен человек, не неодолимы, что цепи, наложенные на него, нероковые, что еще здесь, в этой жизни, в силах он, хотя бы на отдельные мгновенья, получать свободу.
Один лишь сон, – и снова окрыленный
Ты мчишься ввысь от суетных тревог, —
писал он, и верил, что действительно способен дух отрешиться, как от «сна», от этой жизни, и умчаться «ввысь», в иной мир…
Стихи Вл. Соловьева сохранили нам признания о мгновениях таких переживаний, вне пределов жизни земной, которые Вл. Соловьев-философ называл мгновениями жизни за-душевной. Такова мистическая встреча «в безбрежности лазурной»:
Зачем слова? В безбрежности лазурной
Эфирных волн созвучные струи
Несут к тебе желаний пламень бурный
И тайный вздох немеющей любви…
Недалека воздушная дорога,
Один лишь миг, и я перед тобой.
И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя.
Образ «незримого свиданья» заканчивается в другом стихотворении:
Пусть и ты не веришь этой встрече,
Все равно – не спорю я с тобой…
О, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой,
Перед тайною нездешней нашей встречи,
Перед вечною, недвижною судьбой.
Но кого может повстречать душа в этой «безбрежности лазурной», вне условий нашего бытия? Только ли тех, кто также волей нарушил условия Времени, или и тех, кто насильственно был из этих условий выведен? Вл. Соловьев верил в последнее. Он верил в возможность общения тех, кто «заключен в темнице мира тленной», и тех, кто уже вступил «в обитель примиренья». Между ними он не видел, как Пушкин, «недоступной черты». Вл. Соловьев, посвятивший свой главный труд «отцу и деду с чувством вечной связи», посвящавший в последние годы жизни свои стихи А. Фету (тогда как по обычаю уже следовало посвящать «памяти А. Фета»), – в своих стихах прямо говорит нам, какими близкими чувствовал он себе тех, «кого уж нет»:
Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой…
Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает
И сладкая тоска…
Умершие вышли из мира Времени, но «ключи бытия у меня», говорит Вечность… Отсюда уже один только шаг к последнему этапу в борьбе духа с Временем: к победе над Смертью.
3
В ощущении вечной связи с прошлым, в мгновениях «за-душевной» жизни, открывающих окна в Вечность в стенах «темницы жизни тленной», в сознании неразрывности мира живых и мира мертвых – проявляется в человеке начало Вечности. Однако человек на земле все же «себя забывшийи забытыйбог». Что же в этом «стремлении смутном» мировой жизни напоминаетему о его божественном происхождении? Какая сила его поддерживает в борьбе со Злом, с Временем?
Эту силу Вл. Соловьев называл Любовью:
Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви.
Любовь есть божественное начало в человеке; ее воплощение на земле мы называем Женственностью; ее внеземной идеал – Вечной Женственностью. Из этих понятий возникает новый круг стихотворений Вл. Соловьева, посвященных любви.