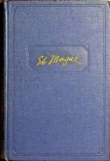Текст книги "Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Всякое новое техническое ухищрение в искусстве, все равно в театральном или другом, только возбуждает любопытство и заставляет быть особенно подозрительным. Говорят, один современный художник написал ряд новых картин, в которых необыкновенно переданы эффекты лунного света. Когда мы их увидим, нашей первой мыслью будет: как он сделал это? а затем мы придирчиво будем выискивать все несоответствия с действительностью. Только удовлетворив свое любопытство, мы будем смотреть на картину, как на художественное произведение. Когда на сцене падает лавина из ваты, зрители спрашивают друг друга: а как это делается? Если бы Рубек и Ирена просто ушли за кулисы, зрители скорей поверили бы в их гибель, чем теперь, когда перед их глазами катятся по доскам набитые соломой чучела и охапки ваты. «Он исчез, когда запел петух», говорят в Гамлете о явившемся духе. Это для зрителя достаточно, чтобы представить себе крик петуха. Но Художественный театр в «Дяде Ване» заставляет стучать сверчка. Никто из зрителей не воображает, что это настоящий сверчок, и чем похожее этот стук, тем менее иллюзии. Впоследствии зрители привыкнут к тем ухищрениям, которые теперь считаются новинкой, и не будут замечать их. Но произойдет это не оттого, что зрители серьезно станут принимать вату за снег, и веревочку, которой дергают занавеску, за ветер, – а потому, что для зрителей эти ухищрения отойдут к обычным сценическим условностям. Так не лучше ли оставить бесцельную и бесплодную борьбу с непобедимыми, вечно восстающими в новой силе сценическими условностями, и, не пытаясь убить их, постараться их покорить, приручить, взнуздать, оседлать.
Есть два рода условностей. Одни из них происходят от неумения создать подлинно то, чего хочешь. Плохой поэт говорит о красавице: «она свежа, как роза». Может быть, поэт действительно постигал всю весеннюю свежесть души этой женщины, но выразить своего чувства он не сумел, вместо подлинного выражения поставил трафарет, условность. Так на сценах желают говорить, как в жизни, но не умеют, искусственно подчеркивают слова, слишком договаривают их до конца и т. д. Но есть условность иного рода – сознательная. Условно, что мраморные и бронзовые статуи бескрасочны. Их можно раскрашивать, это и делали, но этого не нужно, потому что скульптуре важны не краски, а формы. Условна гравюра, на которой листья черные, а небо в полосках, но можно испытывать чистое, эстетическое наслаждение от гравюры. Везде где искусство, там и условность. Бороться против этого столь же нелепо, как требовать, чтобы наука обходилась без логики, объясняла явления мира вне причинной связи.
Театру пора перестать подделывать действительность. Изображенное на картине облако плоско, не движется, не меняет своей формы и светлости, – но в нем есть что-то, дающее нам такое же ощущение, как и действительное облако на небе. Сцена должна делать все, что поможет зрителю легчайшим образом восстановить в воображении обстановку, требуемую фабулой пьесы. Если непременно нужно сражение, нелепо выпускать на сцену десятка два статистов или даже десять сотен их с бутафорскими мечами: может быть, зрителю окажет лучшую услугу музыкальная картина в оркестре. Если хотят изобразить ветер, не надо свистать за кулисами в свистелку и дергать занавеску веревочкой: изобразить бурю должны сами актеры, ведя себя так, как всегда поступают люди в сильный ветер. Нет надобности уничтожать обстановку, но она должна быть сознательно условной. Она должна быть, так сказать, стилизована. Должны быть выработаны типы обстановок, понятные всем, как понятен всякий принятый язык, как понятны белые статуи, плоские картины, черные гравюры. Простота обстановки не будет тождественна с банальностью и однообразием. Изменится принцип, а затем в каждом отдельном случае фантазии гг. декораторов и машинистов останется еще значительный простор.
До известной степени должны усовершенствовать прием своего искусства и драматические авторы. Они полновластные художники, только пока их читают; на сцене их пьесы лишь формы, куда вливают свое содержание артисты. Драматические авторы должны отказаться от излишнего, ненужного, а главное, все равно недостижимого копирования жизни. Все внешнее должно быть в них сведено до minimum'a, потому что оно почти не подлежит ведению драмы. О внешнем драма может дать понятие только посредственно, через душу действующих лиц. Скульптор не может ваять души и чувств, духовное он должен воплотить в телесное. Драматург, напротив, должен дать возможность актеру все телесное выразить в духовном. Кое-что в этом направлении, на пути к созданию новой драмы, уже сделано. Наиболее замечательные попытки такого рода – пьесы Метерлинка и последние драмы Ибсена. Замечательно, что именно при исполнении их современный театр особенно ярко обнаружил свое бессилие.
В античном театре была лишь одна постоянная декорация – дворец. При самых незначительных изменениях она изображала внутренность дома, площадь, берег моря. Актеры надевали маски и котурны, что сразу заставляло их отказаться от желания подделаться под обыкновенную жизнь людей. Хор, певший священные гимны у алтаря, вмешивался в ход действия. Все было до конца условно и до конца жизненно: зрители следили за действием, а не за обстановкой, «ибо трагедия, как говорит Аристотель, есть подражание не людям, а действию». В наше время такая же простота обстановки сохранилась на народных сценах. Мне случилось видеть исполнение фабричными пьесы «Царь Максимилиан». Вся обстановка состояла из двух стульев, из бумажной короны царя и бумажных же цепей его непокорного сына Адольфа. Смотря на это представление, я понял, какими могучими собственными средствами обладает театр и как напрасно ищет он помощи у живописцев и машинистов.
Творческие чувства составляют единственную реальность, единственную действительность на земле. Все внешнее, по слову поэта, «только сон, только сон мимолетный». Дайте нам в театре быть сопричастными высшей истине, глубочайшей реальности. Дайте артисту его место, поставьте его на пьедестал сцены, чтобы он властвовал ею, как художник. Своим творчеством он даст содержание драматическому представлению. А в обстановке стремитесь не к правде, а только к правдоподобности. От ненужной правды современных сцен я зову к сознательной условности античного театра.
1902
Анкета о Некрасове
«Мне борьба мешала быть поэтом» – вот слова, в которых Некрасов определил свою судьбу. Но несмотря на все помехи, какие он сам ставил своему творчеству, не быть поэтом он не мог. Слова Тургенева, что в стихах Некрасова «ее-то, поэзии-то и нет ни на грош», грубая несправедливость. У Некрасова самобытный склад стихотворной речи, свои, ему одному свойственные размеры и рифмы: это внешние, но безошибочные признаки истинного дарования. Некрасовские стихи легко узнать без подписи: у него свое лицо; это не безличный стих нынешних эпигонов гражданской поэзии. После Пушкина и Лермонтова Некрасов запел на особый лад, не подражая своим учителям, – что тоже доступно только большим дарованиям. Некрасов сумел найти красоту в таких областях, перед которыми отступали его предшественники. Его сумрачные картины северного города могут посоперничать с лучшими страницами Бодлера (и вообще в его даровании, как ни странно такое сближение, есть доля чего-то бодлеровского). Как никто, умеет Некрасов пользоваться образами русского сказочного мира. В описаниях природы он достигает иногда почти тютчевской зоркости. Поэзия Некрасова до сих пор не оценена справедливо, и, конечно, первая причина тому – его «гражданское служение». Оно сделало из его стихов предмет партийных споров и лишило их спокойных читателей и критиков.
1902
Оклеветанный стих
В трафарете рецензий на новые сборники стихов не последнее место занимает одна классическая цитата. Попрекнув автора, что он носится со своими мелкими печалями, вместо того, чтобы писать о народных горестях, рецензенты победоносно заканчивают свои заметки лермонтовским стихом: «Какое дело нам, страдал ты или нет?» Этот прием повторялся так часто, что теперь уже никто и не понимает знаменитого стиха в ином смысле. Недавно еще (в «Мире искусства» за июль 1902 года) г. Шестов, в своей очень ученой статье, спрашивал о Ницше: «Что может он рассказать нам? Что он страдает, страдал? Но мы слышали уже довольно жалоб от поэтов, и молодой Лермонтов давно уже высказал открыто ту мысль, которую другие держали про себя. Какое дело нам,страдал Ницше или нет?»
Нет, однако, никакого сомнения, что все стихотворение «Не верь, не верь себе…» – написано в тоне горькой насмешки. Лермонтов ли, автор «Ангела», поэт «желания чудного», которым томятся души «в мире печали и слез», будет предостерегать от вдохновения, как от язвы?! Да и слишком светлыми красками изображено то самое вдохновение, на которое советуется набросить «покров забвения»! Это – «заветный, чудный миг», это – «девственный родник, простых и сладких звуков полный». Почему же из ряда сарказмов вырывать один и придавать ему прямое значение? «Какое дело нам» – сказано совершенно с тем же выражением, как все остальное. «Взгляни, – говорит Лермонтов немного далее, – перед тобой играючи идет толпа дорогою привычной». Не от лица ли этой толпы, избегающей неприличных слез, брошен злой вопрос, пришедшийся по вкусу критикам? И тот, кто повторяет этот вопрос от своего имени, не зачисляет ли себя в ряды лермонтовской толпы, пушкинской черни?
Говорят, что стихи «Не верь, не верь себе…» написаны Лермонтовым к одному из товарищей по военной школе. Но разве сам Лермонтов всю жизнь не был таким же «молодым мечтателем»? Вероятнее, что он писал о себе, лишь отводя глаза эпиграфом из Барбье. Под «глупыми надеждами первоначальных лет» он разумел свои юношеские тетради 1830 года, свои мечты о славе («Безумец я, вы правы, правы»), свои стихи к Лопухиной, свои песни о Демоне. Лермонтов любил первый смеяться над тем, что ему особенно дорого, чтобы другие не оскорбляли его чувства насмешкой. Прикрываясь маской светской пустоты, он смеялся в разговорах над поэзией и любовью, хотя только и жил поэзией и любовью. Даже в стихотворном разговоре «писателя» с «журналистом» он с насмешкой поминает о «преданьях глупых юных дней»; в задушевных стихах он поминал об них иначе:
…память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей;
Так свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.
Вскоре после стихов «Не верь, не верь себе…» написаны «Три пальмы». Между этими стихотворениями есть внутренняя связь. Мысль, которая в первом выражена в форме саркастических советов, заключена во втором в аллегорический рассказ. Три пальмы были счастливы, пока были далеки от людей. Но они возроптали на небо, им показалось нестерпимым расти и цвести без пользы, в пустыне. Люди пришли и погубили пальмы. Точно так же Лермонтов долго таил от людей свои мечты. Он не желал, «чтоб свет узнал его таинственную повесть». В одиночестве он вольно предавался творчеству, в гордом сознании, что, как его идеал Байрон, он тоже «избранник», хотя и «другой», «еще неведомый». Но после он пожелал выйти «на шумный пир людей», выставил язвы своей души «на диво черни простодушной». Он стал известным поэтом, журналистом. И что же! люди поступили с его мечтами, как с пальмами. Они заставили его принизиться, до известной степени опошлиться. Мы знаем признание самого поэта.
В себя ли заглянешь – там прошлого нет и следа,
И радость и муки и все так ничтожно.
Лермонтов был поэтом для себя самого. В этом существенное отличие лермонтовской поэзии от пушкинской. Пушкин любил повторять, что пишет для себя, а печатает для денег, но его стихи всегда обращены к читателю; он всегда что-то хочет передать другому. Лермонтову было важно только уяснить самому себе свое чувство. Пушкин работал над стихами, делал их. Часто он сначала писал прозою содержание задуманной вещи, потом перелагал эту прозу в грубые стихи – иногда без рифм и размера, – потом улучшал их, исправлял. Каждая переделка была у Пушкина совершенствованием. У Лермонтова стихи выходили из головы уже законченными. Его варианты и первые и позднейшие равнопрекрасны и равноценны. Он не работал, а только выражал. Он вовсе не был стихотворцем, а только поэтом.
Пушкин желал, чтобы слух об нем прошел по всей Руси великой. Лермонтов задумывался над тем, не лучше ли оставить свои мечты навсегда в глубине души, как драгоценность, которой люди недостойны. «Что в сердце, обманутом жизнью, хранится, то в нем навсегда и умрет», – говорил он. Тут же мелькала еще мысль, что все равно, если б и стоило говорить о своих сокровенных думах, у языка нет сил, чтобы выразить их. «Стихом размеренным и словом ледяным не передашь ты их значенья!» Здесь «размеренный» и «ледяной» не украшающие эпитеты, а определяющие. Стих всегда размерен, все слова – ледяные. «Душу можно ль рассказать?» – восклицал Мцыри.
1903
Ключи тайн
Лекция, читанная автором в Москве, 27 марта 1903 г., в аудитории Исторического музея, и 21 апреля того же года, в Париже, в кружке русских студентов
I
Когда бесхитростные люди встречаются с вопросом, что такое искусство, – они не пытаются уяснить себе, откуда оно взялось, какое место занимает во вселенной, но принимают его как факт и только хотят найти ему какое-нибудь применение в жизни. Так возникают теории полезного искусства, самая первобытная стадия в отношениях человеческой мысли к искусству. Людям кажется так естественно, что искусство, если оно существует, должно быть пригодно для их ближайших маленьких нужд и надобностей. Они забывают, что в мире есть множество вещей, для людей совершенно бесполезных, как например красота, и что сами они в своей жизни постоянно совершают поступки совершенно бесполезные – любят, мечтают.
Конечно, нам смешно теперь, когда Тассо уверяет, что поэтические вымыслы подобны «сластям», которыми обмазывают края сосуда с горьким лекарством; мы с улыбкой читаем стихи Державина к Великой Екатерине, где он сравнивает поэзию со «сладким лимонадом». Но разве сам Пушкин, который частью под влиянием отголосков шеллинговской философии, частью самостоятельно дойдя до таких взглядов, поносил «печной горшок» и попрекал чернь за искание «пользы», в «Памятнике» не обмолвился такими стихами:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
А Жуковский, приспособляя стихотворение Пушкина к печати, разве не поставил дальше уже прямо:
Что прелестью живой стихов я был полезен…
Что и дало повод торжествовать Писареву.
В большой публике, в той публике, которая знает искусство в форме романов в журналах, оперных представлений, симфонических концертов и картинных выставок, до сих пор безраздельно господствует убеждение, что все назначение искусства – давать благородное развлечение. Танцевать на балах, кататься, играть в винт – тоже развлечения, но менее благородные; и люди, принадлежащие к интеллигенции, должны, между прочим, читать Короленко, а то и Метерлинка, слушать Шаляпина и бывать на Передвижной и на декадентских выставках. Роман помогает провести время в вагоне или перед сном в постели, в опере встречаешь знакомых, на картинной выставке рассеиваешься. И эти люди достигают своих целей, действительно отдыхают, рассеиваются, смеются, засыпают.
Защитником «полезного искусства» выступает в своих книгах не кто иной, как «апостол красоты» Рескин. Он советовал ученикам срисовывать листья олив и лепестки роз, чтобы приобрести самим и дать другим большие сведения, чем у нас были до сих пор об оливках Греции и диких розах Англии; советовал воспроизводить скалы, горы и отдельные камни, чтобы получить более полное понятие о свойствах горной структуры; советовал скорей изображать древние исчезающие руины, чтобы хоть на полотне сохранить их образы для любопытства будущих веков. «Искусство, говорит Рескин, дает форму знания, делает навсегда видимыми для нас те предметы, которые без него не могла бы описать наша наука, не могла бы удержать наша память». И еще: «Вся сущность искусства зависит от того, истинно ли оно и полезно ли. Великие мастера могли допустить себя до неумелости, до уродства, но никогда – до бесполезности».
Подобно тому, как Рескин к пластическим искусствам, относится к поэзии очень распространенная и едва ли не господствующая школа историков литературы. Они видят в поэзии лишь точное воспроизведение жизни, по которому можно изучать быт и нравы того времени и той страны, где создавалось поэтическое произведение. Они тщательно изучают описания поэта, психологию созданных им лиц, его собственную психологию, переходя потом к психологии его современников и к характеристике его времени. Они совершенно убеждены, что весь смысл литературы – в том, чтобы быть подспорьем для изучения быта такого-то века, и что читатели и сами поэты, не сознавая этого, как не ученые, просто пребывают в заблуждении.
Таким образом, у теории «полезного искусства» и в наши дни находятся довольно видные сторонники. Между тем до очевидности ясно, что нет никакой возможности натянуть эту теорию на все явления искусства, что она до смешного мала для него, – как кафтан карлика для Духа Земли. Нельзя же в угоду добрым буржуа, желающим получать от искусства «благородные развлечения», ограничить все искусство Зудерманом и Бурже. Многое в искусстве никак не подойдет под понятие «наслаждение», если только понимать это слово в его естественном смысле, а не подставлять под него ничего не говорящий, сам требующий объяснения термин «эстетическое наслаждение». Искусство ужасает, искусство потрясает, заставляет плакать. В искусстве есть Эсхил, есть Эдгар По, есть Достоевский. Еще недавно Л. Толстой, с своей обычной меткостью выражений, приравнял ищущих в искусстве одних наслаждений – людям, которые стали бы утверждать, что единственная цель еды удовольствия вкуса.
Точно так же нельзя в угоду знанию и науке видеть в искусстве только отражения жизни. Хотя сам божественный Леонардо писал рассуждения о том, come lo specchio ё maestro de' pittori [21]21
Как зеркало является учителем художника (ит.)
[Закрыть], и хотя недавно еще в литературе и в пластических искусствах «реализм» казался завершительным словом (так об этом сообщают в школьных учебниках поныне), – но искусство никогда не воспроизводило, а всегда преображало действительность: даже на картинах да Винчи, даже у самых ярых реалистов-писателей, вроде Бальзака, нашего Гоголя, Золя. Нет искусства, которое повторяло бы действительность. Во внешнем мире не существует ничего соответствующего архитектуре и музыке. Ни Кельнский собор, ни симфонии Бетховена не воспроизводят окружающего нас. В скульптуре дается только форма без окраски, в живописи только цвета без формы, тогда как в жизни то и другое неразделимо. Скульптура и живопись дают недвижимые мгновения, тогда как в мире все течет во времени. Скульптура и живопись повторяют только внешность предметов: ни мрамор, ни бронза не в силах передать строение кожи; у статуй нет сердца, легких, внутренностей; в нарисованном горном кряже нет скрытых минералов. Поэзия лишена пространственного воплощения; из бесчисленных чувств, из непрерывного течения событий она выхватывает только отдельные мгновения и сцены. Драма соединяет со средствами поэзии средства скульптуры и живописи, но за декорацией комнаты нет других частей квартиры, улицы, города; актер, уходя за кулисы, перестает быть принцем Гамлетом; что в действительности длилось двадцать лет, на сцене можно увидать в два часа.
Искусство никогда, кроме редких анекдотических случаев, не обманывает народ, как Зевксисовы плоды глупых птиц. Никто не принимает картину за вид в открытое окно, никто не раскланивается с бюстом своего знакомого, и ни один автор не был приговорен к тюрьме за вымышленное в рассказе преступление. Мало того, тем именно произведениям, которые с особым сходством воспроизводят действительность, мы отказываем в названии художественных. Мы не признаем искусством ни панорам, ни восковых статуй. Да и что было бы достигнуто, если б искусству удалось в совершенстве передразнить природу? К чему могло бы пригодиться удвоение действительности? «Преимущество нарисованного дерева перед настоящим, говорит Авг. Шлегель, только в том, что на нем не может быть гусениц». Никогда ботаники не станут изучать растение по рисункам. Никогда самая искусная марина не заменит путешественнику вида на океан, уже по одному тому, что в лицо ему не будет веять соленый запах и не будет слышно ударов волн о береговые камни. Предоставим воспроизведение действительности фотографии, фонографу, – изобретательности техников. «Искусство относится к действительности, как вино к винограду», сказал Грильпарцер.
У защитников «полезного искусства» есть, правда, одно убежище. Искусство не служит личному индивидуальному наслаждению. Искусство не служит целям науки. Но оно может служить обществу, социальному строю. Польза искусства может быть в том, что оно общит отдельных личностей между собой – переливая чувства одного другому, что оно спаивает в одно целое классы общества и помогает их исторической борьбе между собой. Искусство с этой точки зрения только средство общения людей между собой в ряду других средств, каковы, во-первых, слово, далее письменность, печать, телеграф, телефон. Обычное слово, прозаическая речь передает мысли, искусство же передает чувства… Такой круг мыслей с силой и остроумием защищал Гюйо. У нас те же идеи, несколько видоизменив их, недавно проповедовал Л. Толстой.
Но разве эта теория объясняет, почему художники творят, и почему слушатели, читатели, зрители ищут художественных впечатлений? Когда скульпторы мнут глину, когда художники покрывают красками холсты, когда поэты ищут верных слов, чтобы выразить, что им надо, – никто из них не задается целью передать свои чувствования другому. Мы знаем художников, которые презирали человечество, которые творили только для себя, без цели, без намерения обнародовать свои творения. Разве нет самоуслаждения в творчестве? Разве Пушкин не сказал художнику: «Твой труд – тебе награда»? И почему читатели не порывают этой телеграфной нити между собой и душой художника? Что им в этих чувствах незнакомого им человека, жившего часто много лет тому назад, в другой стране? Разгадать, на чем утверждены темные алкания художника и ответные ему алкания его слушателя и зрителя, – вот в чем задача науки о искусстве. И этой разгадки нет в схоластическом ответе: «искусство полезно, потому что дает общение чувств; а общение чувствами нам желательно, потому что у нас есть особый инстинкт общительности».
Упрямство поборников «полезного искусства», несмотря на все удары, нанесенные им европейской мыслью последнего столетия, не скудеет до наших дней и, вероятно, не иссякнет до последних дней, пока будут существовать споры о искусстве. Всегда останется возможность указать в том или в ином пользу искусства. Но мало ли как можно использовать тот и другой предмет, ту и другую силу! Археологи изучают древний быт по остаткам зданий. Но мы строим наши дома не для того, чтобы развалины их служили подспорьем для археологов XL-го века. Графологи утверждают, будто по почерку можно узнать характер человека. Но финикийцы (согласно мифу) изобрели письмо совсем не с этой целью. Крестьянин в крыловской басне обрек топор на тесание лучин. Топор справедливо заметил, что он в том не виноват. В повести Марка Твена о принце и нищем бедный Том, попав во дворец, пользуется государственной печатью для того, чтобы колоть ею орехи. Может быть, Том колол орехи очень удачно, но все же назначение государственной печати – иное.
II
Люди иного склада мысли, оставляя в стороне вопрос, на что нужно искусство, какая от него польза, – ставили себе иной, метафизический: что такое искусство. Отрывая искусство от жизни, они рассматривали его создания как что-то самодовлеющее, замкнутое в самом себе. Так возникали теории «чистого искусства», – вторая стадия в отношениях человеческой мысли к искусству. Увлекаясь борьбой с защитниками прикладного, полезного искусства, – эти люди доходили до другой крайности, утверждали, что пользы от искусства и не должно быть, никакой и никогда, что искусство прямо противоположно всякой корысти, всякой цели: искусство – бесцельно. С беспощадной прямотой выражал эти мысли наш Тургенев. «У искусства нет цели, кроме самого искусства», – говорил он. А в письме к Фету и еще резче: «Не бесполезное искусство есть дрянь, бесполезность есть именно алмаз его венца». Когда же сторонников этих взглядов спрашивали: что же соединяет в один класс создания, признаваемые ими художественными, почему и картины Рафаэля, и стихи Байрона, и мелодии Моцарта – все это искусство, что общего между ними? они отвечали – Красота!
Это слово, первые произнесенное в таком смысле в древности, подхваченное и тысячекратно повторенное немецкими эстетиками, стало своего рода заклинанием. Им упивались, им опьяняли себя, даже и не желая вникнуть в его смысл.
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений,
говорил Пушкин. Майков повторил его завет почти слово в слово, говоря, что искусство —
не откровенья ли
С надзвездной высоты,
Из царства вечной юности
И вечной красоты.
Казалось бы чуждый им Бодлер создал потрясающий образ Красоты, губящей и влекущей к себе:
Je suis belle, o mortels! comme un reve de pierre,
Et mon sein, ou chacun s'est meurtri tour a tour,
Est fait pour inspirer au poete un amour
Eternel et muet ainsi que la matiere
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. [22]22
О, смертный! Как мечта из камня, я прекрасна!И грудь моя, что всех погубит чередой,Сердца художников томит любовью властно,Подобной веществу, предвечной и немой.Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек. (Перевод В. Брюсова.)
[Закрыть]
Когда теория «чистого искусства» только создавалась, под красотой можно было разуметь то именно, что это слово означает в языке. Почти к каждому созданию античного искусства и искусства времен лжеклассицизма можно было применить слово «прекрасно». Прекрасны были обнаженные тела статуй, образы богов и героев, величаво прекрасны были мифы трагедий. Однако и в греческой скульптуре и в греческой поэзии были Терситы, повешенные рабы, кровосмешения, – что не очень-то укладывалось в понятие красоты. Уже Аристотелю и позднее его подражателю, Буало, приходилось советовать изображать безобразное так, чтобы оно все-таки казалось привлекательным. Но романтики и их преемники – реалисты отвергли это при-крашивание действительности. Все безобразие мира вторглось в художественное творчество. На картинах проступили уродливые лица, лохмотья, жалкая обстановка действительности; романы и поэмы из царских чертогов перенесли свое действие в сырые подвалы и на дымные чердаки, поэзия приняла в себя суету повседневной жизни, ее пороки, ее ужасы, ее ничтожество, – мелких, пошлых людишек современности. Не осталось возможности сослаться даже на красоту духовную, когда речь шла о Плюшкине. Красота, как некогда дева Астрея, ultima coelestum [23]23
Последняя из небожительниц – богинь (лат.)
[Закрыть], по-видимому, окончательно покинула искусство, и только при полной слепоте к окружающему можно было после Гоголя, после Диккенса, после Бальзака воспевать откровения
С надзвездной высоты
Из царства вечной юности
И вечной красоты.
Вдобавок, и самое понятие красоты не неизменно. Нет особой всечеловеческой меры красоты. Красота не более как отвлечение, как общее понятие, подобное понятию истины, добра и многим другим широким обобщениям человеческой мысли. Красота меняется в веках. Красота различна для разных стран. Что было красотой для ассирийца, нам кажется безобразным; модные костюмы, которые пленяли красивостью Пушкина, у нас возбуждают смех; что и теперь считает прекрасным китаец, нам чуждо. А между тем создания искусства всех веков и всех народов равно побеждают нас. История еще недавно была свидетельницей, как японское искусство поработило Европу, хотя понятие о красоте в этих двух мирах совершенно различное. В искусстве есть неизменность и бессмертие, которых нет в красоте. И мраморы Пергамского жертвенника вечны не потому, что прекрасны, а потому, что искусство вдохнуло в них свою жизнь, независимую от красоты.
Чтобы сколько-нибудь согласовать теорию «чистого искусства» с фактами, ее защитникам пришлось всячески насиловать понятие красоты. С давних пор стали давать, говоря о искусстве, понятию «красота» разные, часто довольно неожиданные значения. Красоту отожествляли с совершенством, с единством во многообразии, искали ее в волнующихся линиях, в мягкости, в умеренности размеров. «Злосчастное понятие красоты, – говорит один немецкий критик, – растягивали во все стороны, как если б оно было из резины… Говорят, что, по отношению к искусству, слово „красота“ надо понимать в более широком смысле, но вернее было бы сказать – в слишком широком. Утверждать, что Уголино прекрасен в более широком смысле, все равно как утверждать, что зло есть добро в более широком смысле, и раб есть господин в более широком смысле».
Особым успехом пользовалась подмена слова «красота» словом «типичность». Уверяли, что создания искусства прекрасны, потому что они – типы. Но если наложить эти два понятия одно на другое, они далеко не совпадут. Красота не всегда типична, и не все типичное прекрасно. Le beau c'est rare [24]24
Прекрасное – это редкостное (фр.)
[Закрыть], говорила целая школа в искусстве. Изумрудно-зеленые глаза слишком многим кажутся прекрасными, хотя встречаются редко. Крылатые человеческие фигуры на восточных изображениях поражают красотой, но они плод фантазии и сами создают свой тип. С другой стороны, разве нет животных, по самым отличительным признакам своим некрасивых, которых нельзя изобразить типично иначе как безобразными: таковы каракатицы, скаты, пауки, гусеницы… А типы всех внутренних некрасивостей, всех пороков, всего плоского в человеке, глупого, пошлого – как могут они стать красотой? И разве новое искусство, все смелее и смелее уходя в мир личных, индивидуальных чувствований, ощущений мгновения, и именно этого мгновения, не порывает навсегда и решительно с призраком типичности?
В одном месте Пушкин говорит о «науке любовной», о «любви для любви» и замечает:
эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян.
Те же слова можно повторить о «искусстве для искусства». Оно отрывает искусство от жизни, т. е. от единственной почвы, на которой что-либо может взрасти в человечестве. Искусство во имя бесцельной Красоты (с большой буквы) – мертвое искусство. Как бы ни были безупречны формы сонета, как бы ни было прекрасно лицо мраморного бюста, но если за этими звуками, за этим мрамором нет ничего, – что меня повлечет к ним? Человеческий дух не может примириться с покоем. «Je hais le mouvement qui deplace les lignes» – «Я ненавижу всякое перемещение линий», говорит Красота у Бодлера. Но искусство всегда искание, всегда порыв, и сам Бодлер в свои отточенные сонеты влил не смертную недвижность, а водовороты тоски, отчаянья и проклятий. Та самая государственная печать, которой Том колол во дворце орехи, вероятно, очень красиво сверкала на солнце. Но и красивый блеск не был ее назначением. Она была создана для большего.