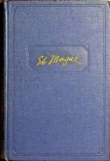Текст книги "Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
Иван Коневской. Мудрое дитя [73]73
Ив. Коневской. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений (1894–1901 г.), с предисловием Валерия Брюсова. Книгоиздательство «Скорпион», М., 1904 г. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
1
Я не знавал Ив. Коневского в детстве. Когда мы встретились первый раз, он был уже студентом (1-го курса). Но, всматриваясь в его духовное существо, в это странное сочетание житейской неопытности с громадным запасом познаний, детского любопытства к жизни с глубиной суждений и речей, я и тогда не мог найти выражения, которое лучше передало бы мое впечатление, как слова: мудрое дитя.
Коневской поражал прежде всего вечной, неутомимой, ожесточенной сознательностью своих поступков. Он был дитя, но сам видел вторым я эту свою детскость, наблюдал себя, изучал на самом себе, как чувствуют в те дни, когда «новы все впечатленья бытия». Он словно не жил, а смотрел на сцену, где главным актером был сам же, словно не действовал под влиянием страстей, а проделывал над своей душой различные опыты. К нему можно применить его стих:
К нам выплыл он пытателем в ладье.
И вся первая поэзия Ив. Коневского, его Juvenilia, которым суждено было остаться единственным образцом его творчества, – есть ожидание, предвкушение, вопрос:
Куда ж несусь, дрожащий, обнаженный,
Кружась как лист подомутом мирским?
Коневской вовсе не был литератором в душе. Для него поэзия была тем самым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувствований. Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние, и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него обращались в стихи. Вот почему у него совсем нет баллад и поэм. Его поэзия – дневник; он не умел писать ни о ком, кроме как о себе – да, в сущности говоря, и ни для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько, – чтобы понять самого себя. Он сам признается:
И всегда не хотел я людей,
Я любил беспристрастный обзор
Стен, высот и степных областей,
Величавый, игривый узор.
Поэзия Коневского прежде всего – раздумья. Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, по просочились в его «мечты и думы», и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком. Подобно всем своим сверстникам, провозвестникам «нового искусства», Коневской искал двух вещей: свободы и силы. Но в то время как другие обретали их в «преступлении границ», в разрешении себе всего, что почему-либо считается запретным, будь то в области морали или просто в стихосложении, – Коневской взял вопрос глубже. Он усмотрел рабство и бессилие человека не в условностях общежития, а в тех изначала навязанных нам отношениях к внешнему миру, с которыми мы приходим в бытие: в силе наследственности, в законах восприятия и мышления, в зависимости духа от тела.
В ином отношении можно гордиться наследием веков, которое мы ощущаем в себе.
«Еще во мне младенца сердце билось, а был зрелей, чем дед, я во сто крат», говорит Коневской. Он называет свою душу, «насыщенной веками размышлений»; в стихотворении «По праву рождения» он сравнивает себя с безродным селянином и находит себя богаче его, потому что причастен «святому золоту, что нам отцы куют». Но в наследии веков не одно золото… это не только наследие ближайших предков, со всеми их достоинствами и пороками, это и темное наследие отдаленнейших пращуров, может быть, пещерных дикарей, и далее – тех первобытных жизней, которые были ступенями к человеку. Эти темные отголоски былых тысячелетий насилуют волю личности, принуждают ее, делают несвободной. Победить в себе их слепую волю – вот первый шаг к свободе.
В крови моей великое боренье,
О, кто мне скажет, что в моей крови!
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!
Ужель не сжалитесь, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?
Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг!
Естественное, кровное родство человека со всеми жизнями земли делает его «другом» не только птицы, зверя, скота, но и всей природы. Коневской хорошо знал чувство восторга перед всеми проявлениями мировой жизни, перед пышностью и лучезарностью волшебного покрывала Майи. Коневской сплетал дождю песнь «из серебристых нитей», писал гимны ветру («Сон борьбы») и лесу («Дебри»). Он славил само пространство и время: «Вы совершенней изваяний, – простор и время, беги числ!» Его любовь к природе разрешалась в страстных строфах:
А все мила земля дебелая!
Как дивен бедный вешний цвет,
И в сладкой страсти нива спелая,
И щёкот славий – дерзкий бред!
Ах, личность жаждет целомудрия.
Средь пышных рощ, холмов, лугов,
Молюсь на облачные кудри я,
На сонмы вечные богов.
(Слово «целомудрие» употреблено здесь в смысле «целостность», «неделимость».) И в своем последнем стихотворении, написанном всего за три дня до смерти, на палубе парохода, везшего его в Ригу, Коневской опять признал своими вождями – солнце и ветер:
Ветер, выспренный трубач ты,
Зычный голос бурь,
Солнце на вершине мачты —
Вождь наш сквозь лазурь!
Но тут же, рядом с этим умилением пред тайнами земной красоты и из этого умиления – возникало и сознание, что все окружающее нас, все внешнее, – такое прекрасное, такое увлекающее – тоже оковы, теснящие нашу личность. Может быть, и мир, как мы его знаем, мир явлений, лир феноменов, создан человеком, но ведь не мною. Для меня он нечто данное, неизбежное. Не по моей воле знойность лета сменяется осенней сыростью, мразью, не по моей воле синева неба ласкает мне глаза, а холодный ветер леденит меня, я не властен остановить время, не в силах преодолеть мираж пространственности. Если мой дух свободен или может быть свободен, зачем он в этом мире, где скука, где страдания, где зло? «Зачем ты здесь, мой дух, в краю глухих страданий, о, ты, что веровал в блаженство горячо?» – спрашивал Коневской. И у него сложился такой «Припев» ко всем его славословиям Жизни-Царице:
Тут зима, а там вся роскошь лета.
Здесь иссякло все, там – сочный плод.
Как собрать в одно все части света?
Как свершить, чтоб не дробился год?
Не хочу я дольше ждать зимою,
Ждать с тоской, чтоб родилась весна,
Летом жить лишь с той мольбой немою,
Чтоб была и осень суждена!
Плачь, а втайне тешься, человек!
2
Борьба с внешней природой, с ее «прелестью», с ее искушениями, с ее призрачностью, – вот второе, что казалось Коневскому неизбежным па пути к свободе. В себе самом человек ощущает это внешнее бытие, как свое тело. Коневскому были сродны крайние идеалистические взгляды. Он говорил духу – «сущий ты один». В шутливых «Набросках» изображая противоречия нашего бытия, Коневской говорил насмешливо: «Есть пред нами немощное тело, и зачем-то к нам оно пришито». Он завидовал птицам, находя, что их стихия, воздух, менее косна, чем земля, хотя и возражал себе: «слишком легка та свобода».
Но рядом Коневской сознавал и ту истину, что дух вне плоти даже невообразим для нас, это нечто для нас вполне несуществующее. Чтобы была жизнь, необходимо, чтобы плоть, как змея, колола в пяту личность; образы, краски, звуки, вся толща вещественного бытия – необходимы; без них мы, может быть, и свободны, но безжизненны, безрадостны. И к одному из самых задушевных своих стихотворений Коневской поставил эпиграфом шопенгауэровскую формулу Kein Subjekt ohne Objekt [74]74
Нет субъекта без объекта (нем.)
[Закрыть].
Долго ль эту призрачную плоть
Из пустынь воздушных выдвигать?
Долго ль ею душу облагать,
Воздвигать ее, чтоб вновь бороть?
Без тебя безжизненно волен,
Без тебя торжественно уныл,
Я влекуся в плен твоих пелен
И тобой я – уж не то, что был.
О творец мой и борец мой, плоть!
Но, признав свою неразрывную связь с плотью, человек все же вправе мечтать о возможности иных форм бытия. Коневской начинает одно свое стихотворение порывистым восклицанием: «Не хочу небывалого, нового существования!» Но, кажется, именно его-то он всего более и «хотел», об нем-то всего более и тосковал в этой жизни. Все предания о иных сознательных, нечеловеческих жизнях привлекали его внимание. Он любил «бредить о житьях иных», о тех заветных существах, населявших реки, воздух, огонь, недра гор, глуби деревьев, – «кому смешон был человек». В прозаической статье он пытается научно обосновать возможность существования «сил, издревле получивших название демонических».
С таким же непобедимым любопытством подступал Коневской ко всему, где чуялся ему исход из узкочеловеческого мировосприятия и миропонимания. И ему казалось даже, что такие исходы – везде, что стоит чуть-чуть подальше, поглубже вникнуть в привычнейшие, повседневнейшие зрелища, как за ними открываются тайные ходы и неведомые глубины, и всю жизнь человеческую он готов был назвать, в этом смысле, «предательской храминой». Ему казалось еще, что властным сезамом, открывающим эти потаенные двери, служит не что иное, как знание их, и он искал этого знания, не «истины, истукана людей», т. е. не истины, найденной рассудком, логическим мышлением, а некоего откровения, которое Коневской и надеялся найти в искусстве, в красоте.
Солгали все великие ответы,
Вернее, не солгали – правы все.
Но не хочу их. Издавна воспеты
Они. Меня влечет к иной красе.
Пойми, что и тебя я отвергаю,
О, истина, о, истукан людей,
Когда с тобой я с бытия слагаю,
Хоть часть из всех явлений, всех страстей…
Так – только если Красота откроет
Мне славу всех явлений и страстей,
Все истины зараз и врозь построит,
Тогда лишь буду в Истине я всей.
Ощущение, что наша жизнь, наше бытие только одно из множества возможных, и сознание, что основа нашего земного, телесного бытия – дух, несовместимы с мыслью о смерти, как исчезновении, небытии. «Кто мы? – неведомой породы переходы», – говорил Коневской. Он верил, что дух – «стойкая твердыня», что он не подвластен уничтожению.
Смерть не полное изнеможение, не хладное оцепенение, а только обморок, в котором даже должна быть своя нега. Пусть смерть даже оторвет нас от земли, наш дух обретет новую жизнь, вновь отдастся отрадным играм бытия где-нибудь на иной планете. И эта смена жизней и умираний продолжится, как чреда приливов и отливов:
Ужели же оцепененьем хладным
Упьешься ты, о резвый сын забав?
Нет, обмороков негу восприяв,
Рванешься снова к играм, нам отрадным.
Прильнув столь кровно к роднику движенья,
Ты не познаешь в век изнеможенья,
Пребудешь ты ожесточенно-жив.
От наших светов призван оторваться,
Под новым солнцем будет наливаться
Дух, вечно обновимый, как прилив.
Эти стихи мы вправе отнести к самому юноше-поэту, которому так неожиданно пришлось вкусить эту негу смертного обморока. Нам хочется верить, что его дух, «под новым солнцем» – жив, деятелен, снова ищет, судит и творит, что и там он, мудрое дитя, в условиях безвестного ему бытия, остается верен тому пожеланию, с каким он среди нас, семнадцатилетним юношей, начинал свою творческую деятельность:
Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой
Умом обнять весь мир желал бы в миг один.
1901
P. S. Поэзия Ив. Коневского не оказала того влияния на русскую литературу, какое должна была бы оказать по праву. Частью объясняется это судьбой поэта, который (применяя его собственные слова, сказанные о Ж. Лафорге) «промелькнул в самый роковой час», был среди нас «залетным гостем». Но, с другой стороны, знакомство с творчеством Ив. Коневского затруднялось для многих своеобразием его языка и его просодии.
Всем своим существом чуждаясь поверхностного, «разговорного» языка, он не хотел да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в дружеских беседах и в частных письмах, он неизменно употреблял один и тот же язык, в котором точности и остроте выражений решительно приносились в жертву легкодоступность и плавность речи. Чтобы отчетливо понять мысль Ив. Коневского, часто бывает нужно распутать хитрый синтаксис его фраз, где слова расставлены не в обычном порядке, где так непривычно много приложений, обманывающих слух своим падежом, где, ради краткости, местоимение «который» заменено через «кто» или «что», где иногда один творительный или дательный падеж употреблены там, где все ждали бы объясняющего предлога, и т. д. Но в этой запутанности никогда не бывает произвола, все вольности могут быть оправданы логикой, – и для того, кто дает себе труд дешифрировать текст Ив. Коневского, открывается смелость его мысли и меткость ее выражения – «смутные шорохи дум, властно замкнутые в жемчужины слова».
Подобное же своеобразие представляет и стих Ив. Коневского, тоже лишенный той дешевой «гладкости», которую так легко приобретают даже самые заурядные стихотворцы. «Мне нравится, чтобы стих был немного корявым», помню я, говорил сам Ив. Коневской. Эта корявость прежде всего возникала из желания поэта вложить в стих слишком многое. Его речи все было тесно в пределах определенного числа стоп, и он охотно ставил слова значащие там, где по законам метрики требовались слоги неударяемые. Помимо того, он любил прямые нарушения ритма в отдельных стихах, находя, что через то восстановление певучести в следующем стихе дает какое-то особое очарование… Впрочем, все это не мешало Ив. Коневскому относиться с крайней заботливостью к звуковой стороне речи. Очень обдуманы у него все сочетания гласных и согласных в стихе, и у немногих поэтов найдется столько, как у него, игры звуками, – только игры не грубой, не бросающейся в глаза, а сокровенной, которую надо разыскивать, чтобы на нее указать, но которую чуткое ухо улавливает бессознательно.
«Язык» поэта и его «стих» ни в каком случае не могут быть мерилами его значения. Мировая литература знает великих поэтов, произведения которых чрезвычайно трудны для понимания именно в силу своеобразия их речи. В таком случае на эти трудности надо смотреть как на такую же преграду, какую представляет чужой (иностранный) язык. Ради того, чтобы читать в подлиннике Эдгара По, стоит и должно изучить английский язык. Подобно этому для того, чтобы узнать поэзию Ив. Коневского, стоит и должно взять на себя гораздо меньший труд: ознакомиться с своеобразием его языка и примириться с своеобразием его метрики.
1910
К.Д. Бальмонт
Статья первая. Будем как солнце! [75]75Написано по поводу выхода книги К. Бальмонта «Будем как солнце» (1903 г.) и напечатано тогда же. См. в конце книги Приложение.
[Закрыть]
1
Бальмонт прежде всего – «новый человек». К «новой поэзии» он пришел не через сознательный выбор. Он не отверг «старого» искусства после рассудочной критики; он не поставил себе задачей быть выразителем определенной эстетики. Бальмонт кует свои стихи, заботясь лишь о том, чтобы они были по-его красивы, по-его интересны, и если поэзия его принадлежит «новому» искусству, то это сталось помимо его воли. Он просто рассказывает свою душу, но душа у него из тех, которые лишь недавно стали расцветать на нашей земле. Так в свое время было с Верленом… В этом вся сила бальмонтовской поэзии, вся ее жизненность, хотя в этом и все ее бессилие.
Желаю все во всем так делать,
Чтоб ввек дрожать.
В этих двух стихах А. Добролюбов выразил самое существенное в том новом понимании жизни, которое образует истинное «миросозерцание» Бальмонта. Для него жить – значит быть во мгновениях, отдаваться им. Пусть они властно берут душу и увлекают ее в свою стремительность, как водоворот малый камешек. Истинно то, что сказалось сейчас. Что было пред этим, уже не существует. Будущего, быть может, не будет вовсе. Подлинно лишь одно настоящее, только этот миг, только мое сейчас.
Люди, соразмеряющие свои поступки со стойкими убеждениями, с планами жизни, с разными условностями, кажутся Бальмонту стоящими вне жизни, на берегу– Вольно подчиняться смене всех желаний – вот завет. Вместить в каждый миг всю полноту бытия – вот цель. Ради того, чтобы взглянуть лишний раз на звезду, стоит упасть в пропасть. Чтобы однажды поцеловать глаза той, которая понравилась среди прохожих, можно пожертвовать любовью всей жизни. Все желанно, только бы оно наполняло душу дрожью, – даже боль, даже ужас.
Я каждой минутой сожжен,
Я в каждой измене живу, —
признается Бальмонт.
Как я мгновенен, это знают все, —
говорит он в другом месте. И, действительно, что такое стихи Бальмонта, как не запечатленные мгновения? Рассказ, повествование – для него исключение; он всегда говорит лишь о том, что есть, а не о том, что было. Даже прошедшего времени Бальмонт почти не употребляет; его глаголы стоят в настоящем. «Темнеет вечер голубой», «Я стою на прибрежьи», «Мерцают сумерки» – вот характерные вступительные слова стихов Бальмонта. Он заставляет своего читателя переживать вместе с ним всю полноту единого мига.
Но чтобы отдаваться каждому мгновению, надо любить их все. Для этого за внешностью вещей и обличий надо угадать их вечно прекрасную сущность. Если видеть кругом себя только доступное обычному людскому взору, невозможно молиться всему. Но от самого ничтожного есть переход к самому великому. Каждое событие – грань между двумя бесконечностями. Каждый предмет создан мириадами воль и стоит, как неисключимое звено, в будущей судьбе вселенной. Каждая душа – божество, и каждая встреча с человеком открывает нам новый мир.
Все равно мне, человек плох или хорош,
Все равно мне, говорить правду или ложь, —
признается Бальмонт. И, в полном согласии с собой, он большею частью не ищет тем для своих стихотворений. Каждое мгновение может стать такой темой. Не все ли равно, о чем писать, только бы это случайное «что» было понятно до глубины! Заглянуть в глаза женщины – это уже стихотворение («Белый цветок»), закрыть свои глаза – другое («Серенада»), придорожные травы, смятые «невидевшим, тяжелым колесом», могут стать многозначительным символом всей мировой жизни, дыхание цветов черемухи может обратиться в восторженный гимн весне, любви, счастью.
Однако эта любовь ко всем мгновениям должна быть не холодной и бездейственной, а живой и деятельной. Мгновения должно и можно любить за то, что каждое из них вызывает к бытию целый мир острых и ярких переживаний. Надо не только пассивно отдаваться мгновениям, но и уметь вскрывать тайную красоту вещей и явлений.
В этом мудрость, в этом счастье – увлекаясь, увлекать,
Зажигать и в то же время самому светло сверкать, —
говорит Бальмонт. Его стихи показывают нам, что он этой мудростью владеет, что в его руке Моисеев жезл, из каждого серого, мертвого камня выводящий животворные струи.
Любите ваши сны безмерною любовью,
О, дайте вспыхнуть им, а не бессильно тлеть! —
восклицает он и не устает повторять этот свой призыв. Ради этой проповеди он даже изменяет обычному пафосу своей поэзии и, забывая предостережение, которое дала Фету его муза [76]76
Ты хочешь проклинать, рыдая, и стеня,Бичей подыскивать к закону?Поэт, остерегись – не призывай меня,Зови из бездны Тизифону.
[Закрыть]впадает в учительский тон и пишет, чуть не в духе Ювенала, сатиру на современных людей («В домах»), не смеющих чувствовать полно и ярко…
Вот почему Бальмонт с таким пристрастием обращается к кругу тех чувств и переживаний, которые дает нам любовь. Никогда человеческая душа не содрогается так глубоко, как в те минуты, когда покоряет ее «Эрос, неодолимый в бою». В миг страстного признания, в миг страстного объятия одна душа смотрит прямо в другую душу. Таинственные корни любви, ее половое начало, тонут в самой первооснове мира, опускаются к самому средоточию вселенной, где исчезает различие между я и не я, между ты и он. Любовь уже крайний предел нашего бытия и начало нового, мост из золотых звезд, по которому человек переходит к тому, что уже «не человек» или даже – еще «не человек», к богу или зверю. Любовь дает, хотя на мгновение, возможность «ускорить бой бестрепетных сердец», усилить, удесятерить свои переживания, вздохнуть воздухом иной, более стремительной жизни, к которой, может быть, еще придут люди:
Блуждая по несчетным городам,
Одним я услажден всегда – любовью, —
признается Бальмонт. «Как тот севильский Дон Жуан», он переходит в любви от одной души к другой, чтобы видеть новые миры и их тайны, чтобы вновь и вновь переживать всю силу ее порывов. Поэзия Бальмонта славит и славословит все обряды любви, всю ее радугу– Бальмонт сам говорит, что, идя по путям любви, он может достигнуть «слишком многого – всего!».
Но любит он именно любовь, а не человека, чувство, а не женщину.
Мы прячем, душим тонкой сетью лжи
Свою любовь.
Мы шепчем: «Да? Ты мой?» – «Моя? – Скажи!»
«Скорей, одежды брачные готовь!»
Но я люблю, как любит петь ручей,
Как светит луч…
И потому каждой Бальмонт вправе повторять:
Да, я люблю одну тебя!
и о всех глазах вправе воскликнуть:
И кроме глаз ее, мне ничего не надо!
Однако, ни в любви, ни на каких других путях, жажда полноты мгновения не может никогда быть утолена до конца, потому что по самой сущности своей ненасытима. Она требует, чтобы каждое мгновение распадалось на бесконечное число ощущений, но в человеке все ограничено, все конечно. При всей яркости жизни, при всем ее безумии, каждую душу должно охватывать чувство безнадежной, роковой неудовлетворенности. Только в состояниях экстаза душа действительно отдает себя всю, но она не в силах переживать эти состояния сколько-нибудь часто. Обычно же какая-то доля сознания остается на страже, следит со стороны за всем буйством жизни, и своим едва приметным, но неотступным взором уничтожает целость мгновения, делит его пополам.
Из этого мучительного ощущения непобедимо возникает зависть ко всему, что живет вне форм человеческой жизни. В порыве безнадежности, у Бальмонта вырывается даже пожелание быть любимым —
С беззаветностью – пусть хоть звериной,
Хоть звериной, когда неземной
На земле нам постичь невозможно!
Но чаще мечта его обращается к стихиям, к тучам, к ветру, к воде, к огню. В стихиях нет нашей сознательности, они каждому мигу могут отдаваться вполне, не помня о промелькнувшем, не зная о следующем. Им не приходится, подобно нам, с горечью восклицать о всех сменяющихся мгновениях: «не те! не те!». И Бальмонт, порою, готов повторить, что и он из той же семьи, что и он сродни стихиям: так сильна в нем жажда изведать их ничем не ограничиваемую жизнь:
Мне людское незнакомо, —
говорит нам Бальмонт.
И я в человечестве не-человек! —
повторяет он в другом месте. Он называет ветер «вечным своим братом», океан – «своим древним прародителем», слагает гимн Огню и восхваление Луне, и всей своей книгой призывает «быть как солнце»! Но это же влечение к стихийной жизни в других стихах разрешается в простые песенки, милые, кроткие и красивые, о полях, о деревьях, о весне, о зорях, о снежинках.
Будем молиться всегда неземному
В нашем хотеньи земном! —
призывает Бальмонт в одном из вступительных стихотворений сборника, в том самом, в котором он высказывает и свой основной лозунг: «Будем как солнце»! Под «неземным» он разумеет скорее «сверхземное», то, что превышает чувства, хотения, переживания человека наших дней.
«Будем как солнце»! – «Будем молиться неземному!» – это значит: примем все в мире, как все принимает солнце, каждый миг сделаем великим трепетом и благословим каждый миг, и всю жизнь обратим в «восторг и исступление», искать которые завещал нам автор «Бесед и поучений старца Зосимы».
2
Нам нравятся поэты,
Похожие на нас, —
говорит Бальмонт. Основными чертами миросозерцания Бальмонта объясняется его близость к тем или другим поэтам прошлого и степень их влияния на него.
Из русских поэтов наибольшее впечатление произвели на Бальмонта – Лермонтов и Фет. Мятежность Лермонтова отразилась в поэзии Бальмонта. Лермонтовский гимн о сладости той жизни, что ведут «хоры стройные светил» и «облаков неуловимых волокнистые стада», – кажется повторенным в иных стихах Бальмонта. Еще теснее связь его с Фетом. Как и Бальмонт, Фет знал только настоящее.
Льни ты хотя б к преходящему,
Трепетной негой манящему,
Лишь одному настоящему…
Различаясь в мировоззрении, различаясь в самом «мироощущении», Бальмонт и Фет совпадают в способности всецело исчезать в данном мгновении, забывая, что было что-то до него и что-то будет после. У Лермонтова и Фета, более чем у других, учился Бальмонт и технике своего искусства.
Из поэтов иностранных (которые – кроме разве Гейне – все оказали свое влияние на него гораздо позже, когда уже основные черты его поэзии вполне сложились) особенно привлекли к себе Бальмонта те, которые любили и умели изображать цельные, стремительные характеры и типы людей исключительных, живущих «удесятеренной» жизнью. Этим объясняется влечение Бальмонта к испанской драме, особенно Кальдерону, и к создателю образов Эшера и Эгея (брата Береники) – «безумному Эдгару». Жажда слияния с стихийной жизнью близит Бальмонта с пантеизмом Шелли и с индийской поэзией. Наконец, отношение к любви и женщине – объединяет его, в некоторых настроениях, с Бодлером и современными «декадентами».
В одном стихотворении Бальмонт говорит о себе:
Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи.
Если Бальмонт сказал это, имея в виду не свою поэзию в целом, но свой стих, его певучесть, свою власть над ним, – он едва ли не прав. Равных Бальмонту в искусстве стиха в русской литературе не было. Прежде могло казаться, что в напевах Фета русский стих достиг крайней бесплотности, воздушности. Но там, где другим виделся предел, Бальмонт открыл беспредельность. Даже такой, казалось бы, недосягаемый по певучести образец, как лермонтовское «На воздушном океане», значительно померк после лучших песен Бальмонта. И только небесная стройность пушкинских строф осталась непревзойденной в нервных, всегда неровных стихах Бальмонта.
Однако при этом стих Бальмонта сохранил всю конструкцию, весь остов обычного русского стиха. Можно было ждать, что Бальмонт, при его стремительной жажде смены впечатлений, отдаст свой стих на волю четырем ветрам, изломает его, разобьет в блестящие дребезги, в жемчужную пыль. Но этого нет совершенно. Стих Бальмонта – это стих нашего прошлого, усовершенствованный, утонченный, но по существу все тот же. «Другие поэты» не только «предтечи» Бальмонта в искусстве стиха, но и несомненные его учители.
Движение, которое создало во Франции и Германии vers libre [77]77
Свободный стих (фр.)
[Закрыть], которое искало новых приемов творчества, новых форм в поэзии, нового инструмента для выражения новых чувств и идей, – почти совсем не коснулось Бальмонта. Мало того, когда Бальмонт пытается перенять у других некоторые особенности нового стиха, это ему плохо удается. Его «прерывистые строки», как он называет свои безразмерные стихи, теряют всю прелесть бальмонтовского напева, не приобретая свободы стиха Верхарна, Демеля и д'Аннунцио. Бальмонт только тогда Бальмонт, когда пишет в строгих размерах, правильно чередуя строфы и рифмы, следуя всем условностям, выработанным за два века нашего стихотворства.
Но далеко не всегда новое содержание укладывается на прокрустово ложе этих правильных размеров. Безумие, втесненное в слишком разумные строфы, теряет свою стихийность. Ясные формы что-то отнимают от того исступления, от того ликующего безумия, которое пытается влить в них Бальмонт. Восторг его становится слишком размеренным, его опьянение слишком трезвым; чувствуется, что многое, бывшее в душе поэта, не вошло в его плавные строфы, осталось где-то за их пределами…
Бальмонт как бы принимает наоборот завет Пушкина: «Пока не требует поэта»: У пушкинского поэта душа просыпалась, как орел, при божественном зове. У Бальмонта она что-то теряет, от своей силы и свободы. Бальмонт-человек кажется нам более свободным, чем Бальмонт-художник; в искусстве он скован и спутан тысячами правил, даже предрассудков. В жизни он «стихийный гений» и «светлый бог» (его собственные слова), в поэзии он раньше всего – «поэт» (мы не решаемся все же сказать «литератор»). Порывы Бальмонта, его страстные переживания, пройдя через его творчество, блекнут; большею частью от их огня и света остаются только тускнеющие угли: они еще пламенны и ярки, по они уже совсем не то солнце, которым были.
Еще хуже обстоит дело, когда Бальмонт совершенно отказывается от своей главной силы – стихийного порыва, и пытается прямо заменить ее размышлением, «трезвою силой ума» (выражение Фета). В Бальмонте бессознательная жизнь, по-видимому, преобладает над сознательной, и, руководимый своим тайным чутьем, почти инстинктом, он отваживается проходить по таким путям искусства, где еще не ступала нога ни одного художника. (Хотя справедливость требует добавить, что иногда он, полагаясь на свое прозрение, жалко скользит и падает там, где многие идут свободно, руководствуясь дорожной клюкой и ощупью.) Но зато во всех тех задачах, где сила – в сознательности, в ясности мысли, Бальмонт слабее слабых. Все его попытки вместить в стих широкие обобщения, выразить глубокую мысль в четком образе – кончаются неуспехом. Его опыты в эпическом роде, длинная поэма в терцинах, «Художник-дьявол», кроме нескольких красиво формулированных мыслей да немногих истинно лирических отрывков, вся состоит из риторических общих мест, из того крика, которым певцы стараются заменить недостаток голоса [78]78
Этой критике поэмы Бальмонта пишущий эти строки обязан тем, что в следующем издании сборника «Будем как солнце», терцины «Художник-дьявол» оказались посвященными именно ему.
[Закрыть].
Точно так же Бальмонт никогда не может взглянуть на свои создания посторонним взглядом критика. Он или в них, или уже безнадежно далек от них. Потому-то Бальмонт не умеет делать выбора из своих стихов. Все его книги – беспорядочное соединение стихотворений, исключительно прекрасных и весьма слабых. Не умеет он и поправлять своих стихов. Все его поправки (насколько они известны читателям по различным редакциям одного и того же стихотворения) – всегда искажения. Написав стихи, Бальмонт уже теряет над ними власть художника, потому что каждое его стихотворение есть слепок, более или менее точный, с пережитого мгновения, быстро уходящего в прошлое и уже не возвращающегося никогда.
Теми же особенностями творчества Бальмонта объясняются и отдельные недостатки его стихотворений. Бальмонт не умеет искать и работой добиваться совершенства своих созданий. Если какой-либо стих ему не удается, он спешит к следующему, довольствуясь – для связи – каким-нибудь приблизительным выражением. Это делает, между прочим, смысл иных его стихов темным, и эта темнота – самого нежеланного рода: ее причина не в трудности (утонченности или углубленности) содержания, а в неточности выбранных выражений.
Довольствуется Бальмонт в таких случаях и пустыми, ничего не говорящими трафаретами (напр., «хочу упиться роскошным телом»). И, при всей тонкости общего построения стихотворений, в отдельных стихах Бальмонт, порой, довольствуется избитыми образами и условными выражениями.
Таковы пределы поэзии Бальмонта, поскольку они выразились в его книге «Будем как солнце».
Можно сказать, что в этой книге творчество Бальмонта разлилось во всю ширь и видимо достигло своих вечных берегов. Оно попыталось кое-где даже переплеснуть через них, но неудачно, какой-то бессильной и мутной волной. Надо думать, что поэзии Бальмонта суждено остаться под тем небосклоном, который окружает эту книгу. Но в этих пределах Бальмонт, – мы хотим этому верить, – будет достигать новой и новой глубины, к которой пока лишь стремится.