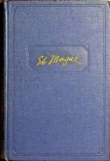Текст книги "Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Виктор Гофман. Искус. Новые стихи. Издание т-ва М. О. Вольф. СПб., 1910 г. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Маленькая книжка В. Гофмана – также второй сборник стихов поэта. Мы видим из нее, что В. Гофман сумел сохранить то лучшее, что было в его ранних стихах: певучесть. Его стихи почти все – поют. И в этом отношении, в непосредственном даре певучего стиха, у В. Гофмана среди современных поэтов мало соперников: К. Бальмонт, А. Блок, кто еще? Вместе с тем основной недостаток своей юношеской поэзии, ее бессодержательность, В. Гофман в новой книге в значительной мере преодолел. С годами его муза стала серьезнее, вдумчивее. У В. Гофмана, по-видимому, пропала охота писать стихи по всякому поводу, только потому, что они легко даются. Его стихотворения стали более сжатыми; в них гораздо меньше, чем прежде, «пустых» (в художественном отношении) стихов и строф; а прежнее жеманство, так вредившее стихам г. Гофмана, незаметно перешло в изящество.
Однако общий характер поэзии В. Гофмана остался прежний. Став несколько более глубокой, она осталась однообразной; ее кругозор не велик; на ее лире струн не много. В. Гофману удаются непритязательные картины природы, особенно ясных весенних дней, когда «становится небо совсем бирюзовым», когда весь мир «как слабый больной»; картины «прозрачного вечера», летнего бала «меж темных лип», тихой зыби лодки на ночной реке. Он умеет рассказать о «застенчивости и дрожи» влюбленной девушки, о тайной радости «продлить знак прощанья – прикосновенье рук», о «тихом и светлом» облике, явившемся ему «в ласковом сне», – и, только как исключение, о счастии остаться вдвоем «в душной натопленной спальне». Из мира города он может передать ощущение от темных, молчаливых комнат, от «бликов электричества на матовом полу», но самый город ему приходится рисовать отрицательными чертами, говоря о своем одиночестве в шумной толпе, о своем ужасе перед кошмаром улиц, бульваров, тяжелых, недвижных стен. Слова «нежный», «тихий», «светлый», «застенчивый», «задумчивый», «доверчивый», «ласковый», «тайный» повторяются буквально на каждой странице книги В. Гофмана и определяют границы его поэзии. В этих пределах, но только в них, В. Гофман – поэт, не лишенный своеобразного отношения к действительности, умеющий смотреть на нее не сквозь призму чужих впечатлений. Все его попытки затронуть в стихах вопросы более широкие или передать иные чувства кончаются у него неудачей.
В. Гофман менее всего новатор. Допуская в своих стихах кое-какие безобидные новшества, он в технике, в общем, остается верным учеником А. Фета, К. Фофанова, К. Бальмонта (если говорить только о поэтах русских). Однако у стихов В. Гофмана есть что-то свое, хотя слабый, но особенный, им одним свойственный аромат. Должен ли г. Гофман покорно держаться тех немногих тем, которые до сих пор удавались ему, или он может развить свое дарование и расширить кругозор своей поэзии – мы судить не беремся. Отметим только с грустью, что лучшие стихотворения «Искуса» помечены 1905 и 1906 годом; стихотворения позднейшие – слабее.
1910
VI. Сквозь призму души [138]138А. Курсинский. Сквозь призму души. Стихи. Рассказы. Переводы. Книгоиздательство «Гриф». М. 1906. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
А.Курсинский любит говорить о безднах. То своей ладьей он «разрезает пополам(?) бездну бесконечную», то кого-то, «вознеся над дикой кручею», бросает «в бездну звездоокую», то с самого «утра дня» «идет сквозь все горнила бездны огневой». В безднах есть свои обитатели, и вот г. Курсинский сообщает нам, что он «с людьми и с богами», и горько жалуется, что «слишком измучен он ловлей тайны, доступной богам». К сожалению, несмотря на свое общение с богами и на общие с ними охоты (ловли) в безднах бесконечных, звездооких и голубых, г. Курсинский так и не словил там ни одной тайны. Правда, в одном месте он проговаривается: «чудесное знанье душой я постиг», но тогда надо думать, что, постигнув, он утаил его. Такие заветы, как «иди! иди!» или «я поэт, для меня закона нет», никак не могут быть признаны тайнами, ибо и раньше неоднократно высказывались в стихах и в прозе. Мне кажется, что пристрастие к безднам только вредит г. Курсинскому. Поэт всегда, как Антей, получает силы лишь касаясь земли.И там, где г. Курсинский отрешается от притязаний быть «вне закона», а также вне времени и пространства, где он хочет быть верным действительности, – он оказывается хорошим поэтом бальмонтовской школы, не лишенным индивидуальности. В некоторых стихотворениях, правда, немногих, он высказывает истинное умение владеть словом, заставляя его верно и точно передавать порыв души. И такие его пьесы не должны быть забыты в характеристике нашего современного творчества.
1906
Юрий Сидоров, В. Поляков, И. Животов, А. Булдеев
I. Стихотворения Ю. Сидорова и В. Полякова [139]139Юрий Сидоров. Стихотворения. Книгоиздательство «Альциона». М. 1910 г. – B. Поляков. Стихотворения. СПб., 1909 г. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Общего между Ю. А. Сидоровым и В. Л. Поляковым то, что оба они умерли еще юношами, едва начав литературную деятельность. Обе книги «Стихотворений», – Сидорова и Полякова, – изданы уже по смерти авторов друзьями покойных. По-видимому, эти издатели-друзья очень высоко оценивают дарования двух безвременно выронивших свою лиру юношей. В содержательном предисловии, которое Андрей Белый предпослал стихам Ю. Сидорова, о нем говорится, как об одной из лучших надежд нашей поэзии. «Кто помнит Сидорова, – пишет А. Белый, – знают, что он унес с собой редчайший дар, который делает человека знаменосцем целого течения… С появлением его в том или другом кружке он невольно делался центром; говорившие с Сидоровым хоть раз серьезно – уже не могли его забыть никогда. С ним ушло в могилу целое течение, как знать, может быть, важное для России». Издателями стихов В. Полякова не дано его характеристики, но по их благоговейному отношению к рукописям покойного поэта и по их словам, что «вопрос об издании полностью всего сохранившегося(в его бумагах) предоставляется будущему», надо заключить, что в В. Полякове они видели значительную и замечательную силу…
Нам, которым не довелось лично встречаться ни с Ю. Сидоровым, ни с В. Поляковым, весьма трудно проверить эти суждения их товарищей. Почти всегда в начинающем писателе гораздо больше сил потенциальных, которые чувствуютсяпри непосредственном с ним общении, нежели возможностей осуществить свои замыслы. Андрей Белый говорит о Ю. Сидорове, что он был более «замечательный человек», «чем замечательный писатель», но мы думаем, что то же самое, не обинуясь, можно было сказать о любом из «замечательных писателей» в его молодости. Разве мог бы читательугадать, какие силы и какие возможности скрывались в К. Бальмонте, если бы злая судьба прервала его деятельность в самом начале, после издания его «Ярославского сборника» (1890 г.) в годы, когда он был ровесником скончавшегося Ю. Сидорова и уже старше В. Полякова? Вот почему приходится доверять показаниям друзей двух умерших поэтов и стараться найти в оставленных ими «опытах» крупицы тех богатств, какие с ними погибли.
Нам представляется, что в Ю. Сидорове, как поэте, было более широты, в В. Полякове – более остроты. Сидоров был более художник, Поляков – более человек. В стихах Сидорова много подражаний, но самые эти подражания свидетельствуют об исканиях, о желании учиться своему делу. И то там, то здесь среди строф и стихов, сделанных по чужому образцу, мелькают приемы самостоятельные, видны попытки создать свой язык. Отдельные стихи решительно хороши, как, например, такое описание ветреного заката:
Видишь, что ветры затеяли?
Слышишь их радостный шорох?
К бледному западу свеяли
Роз пламенеющих ворох.
Напротив, стих В. Полякова сух, однообразен, но в нем чувствуется какая-то ранняя зрелость. Стихи В. Полякова – не первые опыты автора, которому предстоит длинный путь совершенствования, но твердо, уверенно начатая речь, которая только была оборвана на первых словах. Вот почему В. Поляков так часто является в стихах не учеником, но учителем, не ставит перед собою вопрос (как Ю. Сидоров) – «Муза, ты?», но хочет судить, как имеющий на то право, и своих сотоварищей-поэтов, и вообще своих современников. И у В. Полякова столь естественно звучат его приговоры то над результатами нашей несчастной войны:
Осталося: пол-Сахалина,
Вождей преступных имена…
то над всем своим поколением (в обращении к «отцам»):
Не вы одни осуждены…
И нас осудят дети наши!
В выработке миросозерцания Ю. Сидорова участвовали самые разнообразные силы; идеи Вл. Соловьева и Д. Мережковского причудливо переплетались здесь с страстным изучением французского XVIII века, Вальтер-Скотта, Генсборо; он любил Византию, творения отцов Восточной церкви, и увлекался Бердсли и Сомовым (слова С. М. Соловьева в характеристике Ю. Сидорова); и сам он признается, что он не любил природы:
близки мне были боле
Папирусов полупрозрачные листы…
Миросозерцание В. Полякова, напротив, представляется чем-то цельным, завершенным в себе и крайне самобытным. Он родился с определенным взглядом на мир, внешние влияния не могли ни изменить, ни даже пошатнуть этого миросозерцания, и в дальнейшей деятельности поэту лишь оставалось углублять то, что он угадал с самого начала. Столько старческой трезвости в его иронических стихах:
Все отысканы ответы,
Все подделаныключи…
Мы – последние поэты.
Надо быть благодарным друзьям Ю. Сидорова и В. Полякова, сохранившим для русской литературы образы двух юношей, так благородно, так бескорыстно начинавших служение искусству. Две новых книжки «Стихотворений», подписанные этими двумя именами, – не лишние в библиотеке новой русской поэзии. Но мы сомневаемся, чтобы была надобность издавать когда-либо то «Полное собрание сочинений», о котором мечтают издатели как стихов В. Полякова, так и Ю. Сидорова.
1910
II. Клочья нервов и Потерянный Эдем [140]140Н. Животов. Клочья нервов. Собрание стихотворений. Книгоиздательство «Вымпел». Киев. 1910 г. – Александр Булдеев. Потерянный Эдем. Стихи. Москва, 1910 г. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Если книги г. Животова и г. Булдеева можно сравнивать, то только по закону контраста. Стихи г. Булдеева всегда стройны, ясны, даже там, где автору хочется выразить смятенность чувства, бред; он осторожно выбирает слова и не позволяет себе ни одного резкого выражения. Г. Животов в своих стихах всегда как-то неустроен, хаотичен; на каждой странице он огорошивает читателя какой-нибудь выходкой, каким-нибудь неожиданным словцом, иногда прямо грубым. Г. Булдеев идет по достаточно проторенной дороге «модернизма»; читая его стихи, постоянно слышишь отголоски чего-то уже знакомого. Г. Животов идет безо всяких дорог, ломит какие-то заросли, силится найти новые пути и поминутно завязает в болоте.
В книге г. Животова не мало «учености». Он изображает с научной обстоятельностью действие различных ядов и предупредительно называет их все по-латыни. В одной поэме, «О строптивом Новегороде», он имитирует стиль и язык XII века и тут же перечисляет, к сведению читателей, источники, которыми пользовался. Он также подражает поэтам XVIII века, задается целью изобразить картины жизни XVI века и т. д. Но, – странное дело, – вся эта ученость не побеждает, в г. Животове какой-то первобытной дикости. Выбирая темы, которые под силу только утонченнейшему художнику, он порой мажет по полотну самыми «суздальскими» красками. Отважно вводя всякие новшества в стихосложение (допуская, напр., не только 7-стопные, но даже 12-стопные ямбы), он часто в форме стиха до крайности небрежен, неряшлив. Его эпитеты, его сравнения порой – примеры пошлости, и он, способен, напр., написать:
Их поцелуи свыше меры
Рождают мыслей пустоту.
При всем том есть у г. Животова что-то свое, не заимствованное у других. Лучше всего ему удаются не подделки под старину, но те стихи, где он непосредственно касается современности. В них есть у него острота наблюдений, сила чувства и смелость говорить о том, о чем до него молчали. Поэт ли г. Животов, мы судить не беремся, но уверены, что он может стать писателем интересным.
Труднее сказать то же о г. Булдееве, хотя сейчас он несравненно более писатель, чем г. Животов. У г. Булдеева гораздо больше художественного вкуса, и он никогда не допустит себя до тех грубых промахов, которых сколько угодно у г. Животова. Но зато напрасно было бы искать в «Потерянном Эдеме» тех неожиданных, ярких блесток, которые радуют среди «Клочьев нервов». Ученик Фета и Бальмонта, – особенно Бальмонта, – г. Булдеев пишет очень гладко, иногда красиво, но почти всегда бесцветно. Во всей его книге не более трех-четырех стихотворений, по которым можно догадываться, что у автора есть своя жизнь, свои глаза. Целые страницы затопляет он формулами, переходящими теперь от одного поэта к другому, из книги в книгу: «смеялась синева», «смеются зарницы», «ароматнее дня», «хрустальный сон», «бледный ужас снов», «сверканье чар», «вольный, как ветер», «ночь колдует», и всеми «модными» словечками, как «миги», «отверженцы», «никнуть», или как «бальмонтовские» существительные на – ость,«бескрайность», «воздушность», «кошмарность»… Читая стихи г. Булдеева, иногда теряешь представление, на каком языке читаешь, по-русски, по-французски, по-немецки, – настолько эти стихи типичны для современной стадии модернизма, укрощенного, успокоенного. Но и у г. Булдеева есть несколько стихов и целых стихотворений, позволяющих обратить на него внимание. Среди бледных перепевов слышится порой голос настоящего поэта. Так, напр., нам кажется сильным и очень удачным его стих, обращенный к грозе:
Здравствуй, с ликом обожженным,
здравствуй, горная гроза…
Или другой, к морю:
Чаша холода и страсти!
Если в г. Животове есть оригинальность стихийная, первобытная, то г. Булдеев, думается нам, может свою самостоятельность, как поэта, разработать, найти в себе путем серьезного труда. Характеру двух книг соответствуют их заглавия и их внешность. Книга т. Животова озаглавлена грубо «Клочья нервов», напечатана плохо и переполнена опечатками; шмуцтитулы в ней то и дело стоят не па месте, а ее обложка – образчик вульгарности. Книга т. Булдеева издана очень мило, чуть что не изящно, во всяком случае старательно; рисунок обложки умеренно модернизован, а ее заглавие так и хочется перевести на французский язык: «L'Eden Perdu».
1910
Д. Ратгауз. Поэт банальностей [141]141
Д. Ратгауз. Полное собрание стихотворений. Изд. т-ва М. О. Вольф, 2 тома. СПб., 1906. (Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
Критики нередко обвиняют поэтов в банальноститем и образов, но до сих пор понятие «банального» оставалось несколько неопределенным. Ныне этой неопределенности приходит конец, ибо издано «Полное собрание стихотворных банальностей», под заглавием «Полное собрание стихотворений Д. Ратгауза». Здесь собраны примеры и образцы всех избитых, трафаретных выражений, всех истасканных эпитетов, всех пошлых сентенций – на любые рифмы (конечно, обиходные) и в любых размерах (конечно, общеупотребительных). «Огонь любви в крови», «кипучий пламень в крови», «змея тоски», «жизни гнет», «забвенья своды», «надежд огни», «зеленый убор сада», «страстная соловьиная песня», «знойные восторги ласк», «душа, объятая тоской», «томление жаждой счастья», «пить забвение», «сорвать с души печать тоски» – все эти и подобные сочетания слов представлены в двух томах г. Ратгауза в полном выборе. Остается составить к этим томам алфавитный указатель, и получится книга не бесполезная для начинающих стихослагателей, вроде руководства для изучающих французский язык, «Ne dites pas» [142]142
Не говорите (франц.)
[Закрыть], где перечислены выражения, которых должно избегать.
В той же мере поучительны те мысли, которыми г. Ратгауз любит украшать свои лирические излияния. Эти изречения мудрости, большею частью заканчивающие пьесы, нередко составляют истинные и редкие перлы трогательной наивности. Г. Ратгауз, по-видимому, сам, своим умом, дошел до положений элементарного пессимизма и потому сообщает своим читателям откровения, вроде следующих:
Из грязи и из пыли
Земной весь создан свет.
Рожденье – случай, жизнь – мгновенье,
Смерть неизбежна и вечна.
Друг мой – счастье – это дым.
О, дети праздной суеты!
Вы сомневаетесь ужель,
Что только мрак небытия
Есть окончательная цель?
В природе все в союзе,
Одна семья лишь в ней…
Зачем же одиноки,
О вы, сердца людей?
Г. Ратгауз доходит даже до таких пределов мировой скорби, что умоляет кого-то:
Дай мне нирвану на время.
«Нирвана на время» – выражение, которое должно стать классическим!
Однако г. Ратгауз, будучи пессимистом по убеждениям, иногда изменяет себе, увлекаясь поэтической зыбкостью своей природы. И тогда вдруг он оказывается младенчески сентиментальным. Так, по поводу русско-японской войны обращается он к людям с таким умилительным призывом, в котором намечен гениальный, хотя нельзя сказать, чтобы очень новый, план решения всех международных вопросов:
О люди! все мы – прах, нобратья,
Все лишь мгновенье мы живем, —
К чему ж борьба, к чему проклятья? —
Не лучше ль в братские объятья
Мы с тихим плачем упадем?
Судя по упоминанию о «тихом плаче», с каким нам всем предлагается попадать друг другу в объятия (мне, например, в объятия г. Ратгауза, а маршалу Ойяме – в объятия Куропаткина), можно предположить, что г. Ратгауз не мужчина с пышной бородкой, каким он изображен на портрете, предупредительно приложенном к «Полному собранию стихотворений», а 16-летняя институтка.
Впрочем, г. Ратгауз знает и другие чувства, отнюдь не сентиментальные, а отдающие казармой, хотя и уверяет, что его душа «убаюкана грезой нежной» и что он «возводит нежным чувствам светлый храм». Так, в одном стихотворении он признается, что «быстролетные желанья он удержать в груди (?) не мог» и от этого «приблизилась развязка» любви и разлука навсегда. В другом он обращается к какому-то «дитяти» с таким откровенным, «мужчинским» приглашением:
Ночь вся неги полна. О, зайдем же скорей,
О, зайдем же ко мне, – и ты станешь моей.
О, не медли, дитя, о, зайдем же скорей,
О, зайдем же ко мне, – и ты станешь моей.
Как поэт, тщательно избегающий всякой самостоятельности, чурающийся малейшей оригинальной черты, г. Ратгауз постоянно перепевает чужие стихи, постоянно повторяет сказанное раньше, доходя в своих подражаниях чуть не до буквальных повторений. У Фета, например, есть стихотворение, каждая строфа которого оканчивается стихом:
Ничего, ничего не ответила ты.
Г. Ратгауз спешит написать стихи, где строфы кончаются стихом:
И тебе ничего, ничего не сказал.
У Фета читаем:
Благовонная ночь, благодатная ночь…
Все бы слушал тебя, и молчать мне невмочь.
У г. Ратгауза тоже есть нечто подобное:
В эту лунную ночь, в эту дивную ночь…
О мой друг! я не в силах любви превозмочь.
Вообще г. Ратгауз особенно старается сочинять «под Фета»:
Все, что творится со мной,
Я передать не берусь…
Друг! помолись за меня,
Я за тебя уж молюсь.
Здесь и «Тихая звездная ночь», и «Не отходи от меня», и, наконец:
О, друг мой, скажи, что с тобою,
Я знаю давно, что со мной.
Однако есть перепевы и других поэтов:
Перед нами тень качнулась…
Твоя дрожащая рука
Руки моей коснулась.
Это из Я. Полонского:
Но покачнулись тени ночи,
Бегут шатаяся назад…
В моих руках рука застыла.
Стихи г. Ратгауза:
Судьбою дан мне щит железный —
Твоя любовь!
– взяты прямо из М. Лохвицкой:
Всегда с тобой твой щит могучий,
Моя покорная любовь.
А его стих:
Вся жизнь мне кажется каким-то странным сном…
– по праву принадлежит г. Минскому:
Вся жизнь моя – великий, смутный сон.
Перелистав два довольно объемистых тома г. Ратгауза, наполненные бледными, бесцветными, бессильными перепевами, невольно соглашаешься с поэтом, когда он говорит о своей душе:
Ничего в душе, кроме скуки, нет.
И жаль, что эти скучные стихи убраны тонкими, красивыми, истинно художественными заставками и концовками Г. Фогелера.
1906
Стихи 1911 года
I. Статья первая [143]143С. Алякринский. Цепи огней. М., 1911 г.
Н. Брандт. Нет мира миру моему. Киев, 1910 г.
Модест Гофман. Гимны и оды. СПб., 1910 г.
C. Клычков. Песни. Изд. Альциона. М., 1911 г.
Е. Курлов. Стихи. М., 1910 г.
Ф. Ладо-Светогорский. Песни о светлой стране. М., 1911 г.
В. Нарбут. Стихи. Книга 1-я. К-во «Дракон». СПб., 1910.
С. Окулич-Окша. Гибель культуры. М., 1910 г.
Дм. Рем и А. Сидоров. Toga praetexta. М., 1910 г.
«Садок судей». М., 1910 г.
Ив. Тачалов. Аккорды мысли. СПб., 1911.
Гр. Алексей Н.Толстой. За синими реками. К-во «Гриф», М., 1911 г.
Марина Цветаева. Вечерний альбом. М., 1910. К. Шрейбер. Тихие кануны. М., 1911 г.
Э. Штейн. Я. СПб., 1911.
И. Эренбург. Стихи. Париж, 1910 г.
(Прим. В. Брюсова.)
[Закрыть]
1
Шестнадцать новых сборников стихов, вышедших за три-четыре месяца! Не слишком ли это много? Между тем эти шестнадцать сборников выбраны мною из гораздо большего числа их, доставленных с сентября по декабрь в редакцию журнала «для отзыва». А сколько еще сборников по тем или другим причинам доставлено не было и осталось мне неизвестно! И сколько еще поэтов тоже по тем или другим причинам не могли издать своего сборника, и тетради их стихов ждут читателя в редакционных ящиках!
Из тридцати с лишком сборников, бывших в моем распоряжении, я прежде всего отстранил книги поэтов уже установившихся, о которых нечего было сказать нового. Отстранил я, напр., новое (второе) издание стихов покойной А. П. Барыковой, давно оцененной критикой, новую книгу А. Рославлева («Карусели»), ничего не изменяющую в нашем представлении об этом поэте, еще молодом, но, видимо, не способном идти вперед, и т. д. Затем отстранил я сборники, так сказать, поэтов-любителей, которые, не мудрствуя лукаво, сочиняют невинные стишки для удовольствия собственного и своих добрых знакомых и серьезно критиковать «плоды музы» которых было бы несправедливостью, – каковы, напр., сборники В. Акимова, А. Баулиной, Христины Сперанской и др. Наконец, отстранил я и те книги стихов, в которых не нашел ни одного живого слова, которые оказались сплошь наполненными банальными перепевами с чужого голоса и авторов которых называть я считаю здесь излишним. После этого выбора остались у меня на столе шестнадцать книг, не равноценных ни по дарованиям их авторов, ни по тем литературным надеждам, которые они возбуждают, но в одном отношении все же сходных: они написаны людьми, которые относятся к поэзии серьезно, хотят мыслить, работать, искать, хотят сказать читателям что-то свое.
Разнообразны, разнолики стихи этих шестнадцати поэтов. Одни из них не только искусны в стихосложении, но почти могут быть названы виртуозами своего дела; другие едва умеют выразить свою мысль в стихотворных строчках, затруднены и стеснены размером и рифмою, как девочка-подросток длинным платьем; иные скромны и робки; другие развязны, а некоторые даже наглы (это, впрочем, можно сказать только о поэтах из сборника «Садок судей»); одни – исключительно лирики и ничего за пределами личных переживаний не видят; другие пробуют свои силы на сюжетах эпических или даже ставят себе грандиозные задачи изобразить «гибель культуры»; но есть одна черта, которая объединяет всех, черта вместе с тем глубоко характерная для всего нашего времени. Я говорю о поразительной, какой-то роковой оторванности всей современной молодой поэзии от жизни. Наши молодые поэты живут в фантастическом мире, ими для себя созданном, и как будто ничего не знают о том, что совершается вокруг нас, что ежедневно встречают наши глаза, о чем ежедневно приходится нам говорить и думать. Одни так прямо и заявляет:
…пою я о странах
Весенних, где вечно сияет весна.
И, вероятно, чтобы точнее определить местоположение этой счастливой страны, в другом стихотворении сообщает:
Одна из рек Судьбы Всемирной,
Моя река всегда течет
От бездны низкой и кумирной
В Долину Необманных Вод.
(Ф. Ладо-Светогорский)
Другому мечтается:
Мир странный, где цвели лишь
Кровавые цветы…
(Н. Брандт)
Третий определенно противополагает себя – жизни:
Грохочет жизнь: —
В туман курений
Моя душа погружена.
(С. Алякринский)
Четвертый, хотя и говоря от лица женщины, сознается:
Между мной и яркою землею
Протянулась тонкая стена.
(Дм. Рем)
Пятый жаждет —
Видеть то, чего другие
Не умеют увидать.
(Е. Курлов)
Шестой это именно и видит, – видит, как
плавают
На кораблях мечты
Неземные души.
(«Садок судей»)
Седьмой уверяет, что в жизни он —
по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.
(И. Оренбург)
Восьмой все свои стихи слагает таким образом, словно бы он был не нашим современником, а жил во дни Горация и Овидия (Модест Гофман). Девятого и десятого увлекают образы древнерусских сказаний: они слагают песни Ладе, Бове, Купале, о леших, о русалках (С. Клычков, гр. А. Н. Толстой) и т. д., и т. д.
Живя постоянно мечтой в таких фантастических мирах, эти поэты любят и самих себя воображать какими-то фантастическими героями. Тот, который считает себя опоздавшим родиться на пять столетий, уверен, что у него душа рыцаря, что его настоящее дело – это
Свой меч рукою осенить,
Умчаться с верными слугами
На швабов ужас наводить,
А после с строгим капелланом
Благодарить святую мать…
(И. Эренбург)
Другой с удовольствием изображает себя странствующим рыцарем:
Я – верный рыцарь круглого стола.
(А. Сидоров)
Третий считает себя магом:
Брожу по миру светлым магом…
(С. Алякринский)
Еще один, прикрываясь образом кузнеца, восклицает:
Я скоро кончу труд тяжелый,
Скую последнее кольцо,
И встану, гордый и веселый,
Перед всемирное лицо!
(С. Алякринский)
Более смелый, не прикрывая лица никакой маской, заявляет решительно:
Я! Я один! Только я!
Все остальное ничтожно.
Я ненавижу людей.
Я божества презираю.
(Е. Курлов)
Находится и такой, который весь свой сборник так и озаглавливает: «Я» (Э. Штейн). Всем кажется, что они какие-то особые, изумительные и великие, но в то же время все они чуть не на одно лицо, и часто трудно угадать по сборнику стихов, кто его автор – русский? немец? гимназист? помещик? военный?
Один из них верно выразил credo всех в стихотворении, прославляющем мечту:
Жить мечтою и жить для мечты!
Если это тебе не понятно,
Так погибнешь ты весь безвозвратно
В жалком мире слепой суеты…
(Е. Курлов)
Если под «слепой суетой» понимать всю вообще жизнь, от явлений нашей повседневности до событий мировой истории, а под «мечтою» неизменные образы «ангелов», «лилий», «роз», «стрел», «волн», «луны», «звезд», всего того, что издавна почитается «поэтическим», то, действительно, наши поэты «живут мечтой». Их воображение заполонено этими шаблонами, и они уверены, что делают реальность прекраснее только потому, что женщин сравнивают с ангелами, душу – с кипарисом, звезды – с лампадами, вечернюю темноту – с черным морем и т. п. Свою милую они представляют непременно
В гирлянде светлых небесных лилий.
(К. Шрейбер)
Изображая вечер, они призывают на помощь ангела:
Лучистый молится ангел белый
В печалях сосен.
(К. Шрейбер)
Кинул месяц первый луч свой длинный.
Ангел взоры опустил святые.
(М. Цветаева)
Яркий день заставляет их прибегнуть, – много после Андрея Белого, – к образу «кубка»:
Над миром бедным искрились кубки.
(К. Шрейбер)
Последний солнечный бокал
В лазури звонко опрокинут.
(С. Алякринский)
И все живут уверенностью, по крайней мере в стихах, что
Мы овладеем
Волшебным рулем…
(Е. Курлов)
Поэзия сильна гармоническим слиянием образов действительности с образами фантазии, сочетанием наблюдения и мечты. Искусство не только начинается с подражания природе, но и опирается на него, как на единственную твердую почву, которую оно может обрести. Самая смелая фантазия может только комбинировать данные опыта. Как только искусство отрывается от действительности, его создания лишаются плоти и крови, блекнут и умирают. Истинная дорога искусства лежит между мертвым воспроизведением действительности и столь же мертвой отрешенностью от жизни.
Было время, когда русская поэзия нуждалась в освобождении от давивших ее оков холодного реализма. Надо было вернуть исконные права мечте, фантазии. Надо было вновь указать поэзии на ее задачу – синтезировать данные опыта, обобщать найденное умом, в художественных и, следовательно, идеальных образах. К сожалению, по этому необходимому пути пошли слишком далеко. Молодая поэзия захотела летать в стране мечты, отказавшись от крыльев наблюдения, захотела синтезировать, не имея за собой опыта, фактов. Отсюда ее безжизненность и ее подражательность (о счастливых исключениях скажу дальше). Когда художник не хочет наблюдать действительность, он невольно заменяет личные наблюдения подражанием другим художникам. Это именно и случилось с большинством современных молодых поэтов.
2
Переходя теперь к критике отдельных поэтов, я начну с более слабых, с менее определившихся.
Почти «за пределами литературы» стоит «Садок судей». Сборник переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса, и его авторы прежде всего стремятся поразить читателя и раздразнить критиков (что называется epater les bourgeois). Такая дорога может вести к добру лишь тогда, когда с нее решительно сворачивают. Авторам «Садка», как кажется, еще далеко до этого; а между тем у двух из них, у Василия Каменского и Н. Бурлюка, попадаются недурные образы. Удачно, напр., сравнение пережитого дня с побежденным врагом:
День падает, как пораженный воин,
И я, как жадный мародер,
Впеку его к брегам промоин
И, бросив, отвращаю взор…
Но не легко даже разыскать такие счастливые стихи в бесконечной нелепице поэм и рассказов, отпечатанных на обойной бумаге. Кое-что интересное есть еще у В. Хлебникова, но больше в прозе, чем в стихах.
Очень мало что можно сказать о г. Брандте и г. Тачалове. Они просто недостаточно художественно образованны. Прежде чем выступать перед читателями, им надо учиться: учиться писать стихи и вообще учиться. Чтобы быть поэтом, не довольно одного «доброго желания» и искренности; нужно иметь, что сказать людям, иначе не к чему и заговаривать, особенно на «священном языке» поэзии.
Близко к ним стоит г. Алякринский, еще совсем не установившийся, способный делать наивные промахи, часто грубый там, где хотел бы быть сильным. Он не понимает, насколько простота выражений сильнее, чем его «сладостные заклятья» и «таинственно-зовущая мгла». Кроме того, он исключительно занят самим собой и думает, что всем на свете интересно выслушивать, как он впивал «сны чьих-то ресниц» и как через «отраву» чьих-то ласк для него «расцвело солнце».
Сдержаннее г. Шрейбер. Довольно рабски подражая К. Бальмонту, он все же иногда дает красивые описания природы. Некоторую оригинальность его стихам придают религиозные настроения, но они у него как-то смутны, сбивчивы, лишены твердости сознанием добытой веры. Если г. Алякринский, стремясь к страстности, впадает в грубость, то г. Шрейбер, каждую минуту готовый умилиться, часто превращает свои стихи в какую-то сладковатую водицу.
Е. Курлов, автор двух книг рассказов, среди которых есть и не совсем плохие, в стихах примитивен и наивен. Он еле владеет стихом и высказывает достаточно избитые истины тоном пророка, возвещающего человечеству новые заветы.
Гораздо больше культурности чувствуется в поэтах, написавших книгу «Toga praetexta», Дм. Реме и Алексее Сидорове; они более осведомлены о тех задачах, которые в настоящее время стоят перед поэзией; в их стихах гораздо меньше прямых, грубых недостатков, – почти все их стихи сделаны недурно, по хорошим образцам. Но все это еще перепевы с чужого голоса, повторения уже известного. Впрочем, оба поэта, как кажется, очень молоды и, кроме того, написали очень мало, так что сказать о них что-либо определенное трудно.
То же приходится повторить о г. Ладо-Светогорском, в сборнике которого всего 24 пьесы, и о г. Клычкове. Стихи этого последнего, впрочем, не банальны; выбрав темы народно-русские, г. Клычков ищет для них и подходящего склада, иногда успешно находя в ритмических строках напевность, соответствующую народному стиху. Нам кажется, однако, что в этих первых опытах, тоже весьма немногочисленных, молодой поэт еще не обрел самого себя.
Очень умные задачи ставит себе г. Окулич-Окша, который хочет