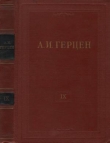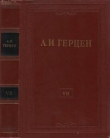Текст книги "Бакунин"
Автор книги: Валерий Демин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
«О нет, нет, мой возлюбленный, я не забыла твои слова, мы свиделись, мы узнали друг друга! Мы соединены навеки – разлука коротка, и это новое отечество, которое тебе уже открылось, будет и моим: там бесконечна Любовь, бесконечно могущество Духа!.. Эта вера была твоя! – Она также и моя. Брат, ты узнаёшь меня, голос сестры доходит до тебя в вечность? Я узнаю тебя в твоей новой силе, в твоей красоте… и ты узнаёшь тоже, ты угадываешь ее – твою далекую, оставленную сестру!.. Материя сама по себе – ничто, но лишь через… внутреннее объединение ее с духом мое существо, мое Я получило свою действительность. Лишь при этом непонятном для меня соединении бесконечного с конечным Я становится Я – живым, самостоятельным существом. Когда я говорю Я, – тогда я сознаю себя, я становлюсь известной себе. Через обратное впадение в Общее я должна это сознание самой себя утратить – моя индивидуальность исчезает; Я уже не Я, остается лишь общее, Дух для себя. Таким образом, я ничто! Так вот что такое смерть? Это малоутешительно».
Такова трагическая развязка этой удивительной истории любви.
Смерть Станкевича потрясла не только его ближайших друзей, но и всю передовую Россию. Из груди И. С. Тургенева, находившегося в Германии, вырвался настоящий вопль. Он писал Грановскому: «Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой… 24-го июня, в Нови – скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо… Что остается мне сказать – к чему Вам теперь мои слова? Не для Вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме: я его видел каждый день – и начал ценить его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души… тень близкой смерти уже тогда лежала на нем… Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает – как последнее – из сердца полной, развившейся жизни: старцу – она примирение; но нам, но ему – веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России… Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб».
Философия Гегеля стала в России не менее популярной, чем в Германии. Афанасий Фет (Шеншин), учившийся в то время в Московском университете вместе с другим будущим поэтом – Аполлоном Григорьевым – и квартировавший в его доме на Полянке, в своих воспоминаниях рассказывает, что имя Гегеля было на устах у всех студентов и профессоров, и даже у простолюдинов, коим образованные господа постоянными разговорами о своем кумире буквально заморочили головы. Однажды слуга, сопровождавший друзей в театр, так задумался, что после спектакля, подзывая экипаж своего хозяина, вместо «Коляску Григорьева!» выкрикнул: «Коляску Гегеля!»
Один из современников Фета не без ехидства свидетельствовал: увлечение это доходило до того, что у русских гегельянцев отношение к жизни, к действительности сделалось совершенно школьное и книжное. Скажем, человек, который шел гулять в Сокольники, не просто гулял, а отдавался пантеистическому чувству единства с космосом, и если ему попадался по дороге солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном проявлении. Слеза, навертывавшаяся на глаза, также относилась к своей категории – к трагическому в сердце.
Сам Бакунин на склоне жизни с ностальгической германофильской ноткой вспоминал состояние своей свободолюбивой души в молодые годы: «<…> В течение 30 лет рабства, терпеливо переносившегося нами под железным скипетром императора Николая, наука, философия, поэзия и музыка Германии были нашим прибежищем и нашим единственным утешением. Мы замкнулись в этом волшебном мире прекраснейших грез человеческих и жили больше в нем, нежели в окружающей нас ужасной действительности, выше которой мы старались себя поставить, согласно предписаниям наших великих немецких учителей. Я, пишущий эти строки, еще помню то время, когда, фанатик-гегельянец, – я думал, что ношу “Абсолют” в кармане, и с пренебрежением взирал на весь мир с высоты этой мнимо-высшей истины».
Для всякого проницательного ума в ту эпоху диалектика Гегеля становилась ключом, открывавшим самые сокровенные тайны бытия и духа, а в опытных руках превратилась в неотразимое оружие, способное разрушить любую твердыню. Недаром Александр Герцен назвал диалектику «алгеброй революции». Откроем «Былое и думы», послушаем самого автора. Его рассказ о гегельянском периоде развития отечественной мысли давно стал хрестоматийным и вошел (полностью или в изложении) во многие учебные пособия: «Станкевич… был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский. <…> Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был “победный венок”, выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. <…>
Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях “Логики”, в двух “Эстетики”, “Энциклопедии” и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении “перехватывающего духа”, принимали за обиды мнения об “абсолютной личности и о ее по себе бытии”. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.
Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”. <…> Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Йене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою “Феноменологию”, когда Наполеон входил в город».
Среди русских гегельянцев Бакунин, Станкевич и Герцен были звездами первой величины и безусловными авторитетами. Однако Герцен пальму первенства отдавал Михаилу. «Из молодежи гегельской [так!], конечно, № 1 Бакунин…» – подчеркивал он в одном из писем 1840-х годов. Все трое придерживались «западнической» ориентации. Но Герцен возглавлял революционное крыло, Станкевич – чисто просветительское, а Бакунина притягивало то и другое.
Писатель Иван Иванович Панаев (1812–1862) в своих воспоминаниях о Белинском нарисовал достаточно правдивый портрет Бакунина: «Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулятивный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный – все это поражало в нем с первого раза. Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к воспринятию проповедуемых им отвлеченностей.
Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.
Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву “Логику”, другой читал не без усилия его “Эстетику”, третий изучал его “Феноменологию духа”, – все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича… <…>».
А вот какую характеристику Бакунину дает Герцен: «Бакунин обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине. Именно эта роль предназначена, по моему мнению, славянскому гению в отношении философии; мы питаем глубокое сочувствие к немецкой умозрительности, но еще более влечет нас к себе французская ясность. Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он всегда готов был разъяснять, объяснять, повторять, без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума – вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим. <…> Он был молод, красив, он любил создавать себе прозелитов среди женщин, многие были в восторге от него, и однако ни одна женщина не сыграла большой роли в жизни этого революционного аскета; его любовь, его страсть были устремлены к иному».
С Герценом Бакунин познакомился в 1839 году. Опальный диссидент жил тогда в ссылке во Владимире, но изредка ему позволялось наведываться в Москву. По признанию самого Герцена, именно Бакунин побудил его к изучению гегелевской диалектики. Несмотря на частые разногласия, их дружба продолжалась всю жизнь.
Бакунин одинаково уверенно чувствовал себя и среди единомышленников, и в разношерстных московских салонах, где в философских дискуссиях схлестывались западники и славянофилы. Никто лучше Герцена не описал эти теоретические баталии:
«Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, – а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.
Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, “Горгиас, совопросник мира сего”, по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, – словом, кого за убеждение – убеждение прочь, кого за логику – логика прочь.
Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете – от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку».
Вот с этим-то бесстрашным рыцарем философии и схлестывался в диалектическом споре на квартире Чаадаева Михаил Бакунин. Жаркие дискуссии продолжались до утра. Герцен называл их «всенощными бдениями». По словам Хомякова, «Бакунин мог… спорить без устали… не теряя ни диалектической силы разговора, ни страстной силы убеждения». Стоит ли говорить, что во время этих споров в уютных московских гостиных рождалась и мужала русская философия.
Несмотря на диаметрально противоположные позиции, славянофилы и западники испытывали друг к другу симпатию и уважение, более того – бессознательное влечение. Герцен сравнивал своих друзей и оппонентов с двуликим Янусом, имея в виду древнеримское божество с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны – вперед и назад: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая (так в оригинале! – В. Д.). У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
Позже Николай Александрович Бердяев (1874–1948) выразится еще более определенно: «Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не вместимой ни в какую государственность».
В рецензии на 7-й том «Истории России» С. М. Соловьева Константин Аксаков писал: «Как бы широко и, по-видимому, либерально ни развивалось государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, государство, есть начало неволи, внешнего принуждения. <…> Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или другой форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство как государство есть ложь». Подобные высказывания славянофилов вовсе не были случайными. В одном из поздних писем к Герцену Бакунин отмечал, что Константин Аксаков еще в 1830-е годы был «врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня».
С Хомяковым, Самариным, Кошелевым, братьями Аксаковыми и Киреевскими Бакунина сближало не только неприятие деспотической и бюрократической государственной системы, но и патриотизм (как это отметил Герцен), и любовь к славянству. В своем радикальном панславизме Бакунин очень скоро превзойдет всех славянофилов вместе взятых. А все тот же Бердяев отмечал, что и бакунинский анархизм в целом окрашен в яркие славянофильские цвета: Бакунин считал, что мировой пожар европейской революции скорее всего начнется в России, а затем перекинется и на весь остальной мир.
* * *
На взаимоотношениях Бакунина и Белинского, начавшихся горячей дружбой и кончившихся размолвкой, следует остановиться особо. Они познакомились на одном из заседаний кружка Станкевича. Павел Васильевич Анненков (1813–1887) в своих мемуарах «Замечательное десятилетие» подробно рассказывает о философской эволюции и мучительных исканиях молодого Бакунина, неуклонно приближавшегося к своему революционному преображению (он даже называет Бакунина «отцом русского идеализма», что, впрочем, мало соответствует действительности и может быть принято с большими оговорками, и то – применительно только к начальному этапу становления будущего «отца анархии», приверженца воинствующего атеизма и материализма):
«<…> Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б[акунина] умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.
Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б[акунина]. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в “духе”, подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь по указаниям учителя.
Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неофита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, – этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Г[ерцена], что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз – Прудон, а другим русский – Белинский. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти веры в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием “всемирной идеи”, достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: “Я не хочу служить только ареной для прогулок ‘абсолютной идеи’ по мне и по вселенной”. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно не могли не раздражать его друга, Б[акунина], не лишенного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б[акунин] умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: “Он и до меня добирался. ‘Взгляните на этого Кассия, – твердил он моим приятелям, – никто не слыхал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы’. Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой”. Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.
Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Бакуниных], нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Бакуниных]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838 году, издание “Московского наблюдателя”, совершенно загубленного прежней редакцией, – на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Б[акунин]. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего действительно существующего.
Одно, хотя и очень короткое время Б[акунин], можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом сластолюбивых упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Бакунина] в то время умственным наслаждением, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Б[акунина], страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Б[акунина], подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самим идеям, ею возвещаемым. Б[акунина] слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно-человеческого существования».
Сблизившись с Бакуниным, Белинский переселился к нему на квартиру и под его руководством с упорством, на которое был способен только человек, получивший прозвище «неистовый», стал осваивать премудрость немецкой классической философии, добродушно величая Гегеля Георгием Федоровичем. Он на лету схватывал труднейший диалектический материал (в нетривиальном изложении друга), а во многих случаях превзошел своего учителя в понимании и интерпретации наиболее сложных вопросов.
Отношения Бакунина и Белинского в то время были настолько доверительными, что они делились сокровенными подробностями личной жизни. Переписка между ними продолжалась почти четыре года. Писем Белинского к Бакунину сохранилось около двух десятков, некоторые из них столь объемны, что занимают целые тетрадки и тянут на небольшие брошюры. Писем Бакунина к Белинскому, к сожалению, не сохранилось (за исключением приписок в письмах сестер). Объемом они ничем не уступали посланиям Белинского и зачастую писались в течение нескольких дней. О их содержании нетрудно догадаться по ответным посланиям. Одно из писем Белинского носит настолько откровенный характер, что в Полном собрании сочинений опубликовано со значительными купюрами; полностью прочитать его можно лишь на «научно-эротических» сайтах в Интернете (например, фрейдистского направления). Белинский не был ни девственником, ни аскетом. Он не брезговал посещением домов терпимости и, помимо контактов с женщинами легкого поведения, имел бурные романы с девицами, так сказать, свободной ориентации и не слишком строгих правил (гризетками, как тогда говорили, – одна такая некоторое время проживала у него на Остоженке).
Однако в обществе аристократических особ женского пола он терялся, лишался дара речи и становился сам не свой, считая себя некрасивым и недостойным внимания высоконравственных барышень. Белинский мучился и паниковал. Своими тяжелыми думами он делился с Бакуниным: «Мишель, меня не любила ни одна никакая женщина, ни высокая, ни пошлая – ни от одной и ни от какой не видел я себе ни малейшего предпочтения. Мне кажется, что на моем лице лежит печать отвержения и что за него меня не может полюбить никакая женщина. Тяжело так думать, а делать нечего – приходится так думать…»
Бакунин не был бы Бакуниным, если бы в подобной ситуации не задался благой целью – познакомить друга со своими сестрами. Белинский пришел в полнейший восторг: еще бы, целый букет совершеннейших, почти что неземных существ, о которых он столько слышал от Михаила. Виссарион буквально рвался в Прямухино. Сестры Бакунины никого не могли оставить равнодушным. Вот что писал о них Николай Станкевич: «Бесконечно любуешься этими девушками, как прекрасными созданиями Божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтобы глядеть на них, когда тяжело на душе. <…> Еще хочешь… не другого какого-нибудь чувства… хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей… <…>».
Осенью 1836 года Михаил и Виссарион отправились в бакунинское имение. Белинский сразу же вписался в гостеприимное дворянское семейство, хотя поначалу чуть не испортил себе реноме, рассорившись во время торжественного обеда с Александром Михайловичем по поводу политической роли французских якобинцев: их революционную деятельность во главе с Робеспьером Белинский неосторожно позволил себе оценить весьма высоко. Размолвка оказалась настолько серьезной, что Александр Михайлович, знавший о Французской революции не понаслышке, решил оградить своих младших сыновей от общения с Белинским. Одному Богу известно, как это вообще возможно реализовать на практике в условиях барского имения, где все постоянно сталкивались и общались друг с другом за столом, в гостиной, в саду и т. д. Тем не менее сестра Татьяна сочла своим долгом предупредить братьев-гимназистов; они проживали с гувернерами в Твери и должны были на рождественские каникулы приехать в Прямухино:
«Особенно папенька сердится на Белинского, который никогда не умеет себя сдержать. Два или три раза он забывался и говорил вещи чересчур сильные, которые дали папеньке совершенно ложный взгляд на его характер. Я уверена, что папенька понял бы его, если бы он объяснился, если бы он высказывал свои чувства и свои взгляды с большим спокойствием и более ясно, чего он не мог достичь в минуту страстного возбуждения. Теперь поздно: раз предубежденный против кого-нибудь, папенька не поступается уже своим мнением, как бы несправедливо оно ни было. <…> Папенька безусловно не желает, чтобы вы были в обществе этого молодого человека, потому что он опасается, чтобы он [Белинский] не взвинтил ваше воображение. Он думает, что и так он [Белинский] совершенно вскружил головы, что он отдалил нас от него и от маменьки. Мы пробовали его [отца] в этом разуверить, но этого нелегко достигнуть».
С первого же взгляда Виссариону понравилась младшая из сестер Бакуниных – Александра (в семье ее звали Александриной, а еще – Кассандрой). Она сама первой и без стеснения подошла к знаменитому критику, о котором столько слышала от Мишеля, и протянула ему руку. Потом были долгие прогулки вдвоем по парку, задушевные беседы, литературные чтения. Белинский только что открыл для России поэзию Алексея Кольцова и привез в Прямухино еще пахнущий типографской краской номер журнала, где были опубликованы его стихи.