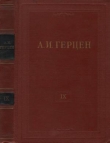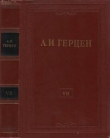Текст книги "Бакунин"
Автор книги: Валерий Демин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Сам Маркс писал Энгельсу после лондонской встречи и состоявшихся переговоров: «Бакунин просит тебе кланяться. Он сегодня уехал в Италию, где проживает (Флоренция). Я вчера увидел его в первый раз после шестнадцати лет. Должен сказать, что он очень мне понравился, больше, чем прежде. По поводу польского движения он говорит следующее: русскому правительству это движение потребовалось для того, чтобы держать в спокойствии самое Россию, но оно никоим образом не рассчитывало на восемнадцатимесячную борьбу. Оно само спровоцировало эту историю в Польше. Польша потерпела неудачу из-за двух вещей: из-за влияния Бонапарта и, во-вторых, из-за того, что польская аристократия медлила с самого начала с ясным и недвусмысленным провозглашением крестьянского социализма. Он (Бакунин) теперь, после провала польского движения, будет участвовать только в социалистическом движении. В общем, это один из тех немногих людей, которые, по-моему, за эти шестнадцать лет не пошли назад, а, наоборот, развились дальше».
Пройдет немного времени, и Маркс эту объективную оценку переменит на диаметрально противоположную. Бакунин же всегда считал Интернационал великой революционной организацией и не умалял выдающейся роли Маркса в обеспечении ее авторитета на международной арене, не закрывая, однако, глаза на ряд отрицательных черт характера самого основоположника марксизма. Но в 1864 году Бакунин еще не отказался от плана – попытаться вместе с итальянскими революционерами надавить на Австрию, а затем расшевелить славянские народы, стонущие под гнетом Австро-Венгерской монархии. С Марксом же говорить на тему славянской революции было совершенно бесполезно. (Впрочем, его итальянские друзья-масоны также были равнодушны к этой идее; один Гарибальди понимал русского панслависта.) Ко всему прочему ему не нравилось, что в программных и уставных документах Интернационала, с коими ему удалось познакомиться, мало говорилось о свободе. Зато это священное слово замаячило в названии нового движения европейской буржуазно-демократической и социалистической интеллигенции, поименованного Лигой мира и свободы.
В Европе назревала большая война. В подготовку пацифистского конгресса, призванного бросить вызов военным приготовлениям Франции, Пруссии и других агрессивно настроенных государств, включились многие выдающиеся деятели – Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди, Луи Блан, Пьер Леру, Элизе Реклю, будущие руководители Парижской коммуны Жюль Валес и Гюстав Флуранс, немецкие философы Людвиг Бюхнер и Карл Грюн и даже патриарх английского позитивизма и либерализма Джон Стюарт Милль. Были приглашены также Герцен, Огарев и Бакунин. Первый от участия в работе конгресса отказался, последний, напротив, решил максимально использовать предоставленную возможность в интересах грядущей славянской и мировой революции. Вне всякого сомнения, ему импонировали интегративные тенденции нового движения и выдвинутый лозунг создания Соединенных Штатов Европы – идеи, которая только спустя столетие отчасти реализовалась в форме Европейского союза.
Конгресс открылся 9 сентября 1867 года в Женеве, вызвав большой интерес в Европе. На улицы города, украшенные, как на праздник, высыпали толпы ликующих обывателей, восторженно приветствовавших известных общественных деятелей, а Джузеппе Гарибальди ждал подлинный триумф. Заседания конгресса проходили в огромном зале Избирательного дворца. Выступление почти каждого оратора вызывало шквал аплодисментов. Бакунина избрали вице-президентом конгресса, а Гарибальди – председателем. Сохранились воспоминания современников – уже упоминавшегося выше Григория Николаевича Вырубова и немецкого философа и писателя Карла Грюна (1817–1887), знавшего Бакунина еще со времен младогегельянского движения. Постоянно проживавший за границей Вырубов (и даже избранный в руководство Лиги от Франции) писал впоследствии в своих мемуарах о Бакунине:
«<…> Среди собравшейся международной демократии он очутился в своем настоящем элементе [так!]: он устраивал совещания, ораторствовал, писал проекты, программы, прокламации. Хорошо помню его чрезвычайно эффектное выступление на первом заседании конгресса. Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, как всегда неряшливо одетый в какой-то серый балахон, из-под которого виднелась не рубашка, а фланелевая фуфайка, раздались крики: “Бакунин!” Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Несмотря на то что в огромном зале было немало противников, все встали, и восторженным рукоплесканиям не было конца. На другой день Бакунин произнес блестящую речь, которая, как всегда, имела шумный успех. Если оратором считать того, кто удовлетворяет требованиям литературно образованной публики, изящно владеет языком и в речах которого можно всегда найти начало, середину и конец, как поучал Аристотель, – Бакунин не был оратором; но он был великолепным народным трибуном, умение говорить массам постиг в совершенстве и, что всего замечательнее, говорил им одинаково убедительно на разных языках. Его величавая фигура, энергичные жесты, искренний, убежденный тон, короткие, как бы топором вырубленные фразы – все это производило сильное впечатление.
После конгресса он остался в Швейцарии, вступил в комитет, избранный для подготовки следующего собрания в Берне, и проявил в нем кипучую деятельность, стараясь забрать его в руки и направить на путь, не совсем, впрочем, ясный, какого-то анархического коллективизма. <…> Без революционной деятельности, без конспираций и боевых организаций Бакунин не мог жить; это была его духовная пища, которую он, как и пищу материальную, потреблял в огромном количестве, работая всегда с лихорадочной поспешностью, как будто вот-вот вся Европа превратится в революционный лагерь. <…>».
Регламент Женевского конгресса был напряженным – приходилось укладываться в десять минут. Поэтому, получив слово, Бакунин спрятал в карман подготовленные тезисы и начал говорить экспромтом. Первым делом он обрушился на Российскую империю («европейского жандарма», по тогдашней революционной терминологии), «всенепокорнейшим подданным» которой он во всеуслышание себя назвал: «Вступая на эту трибуну, я спрашиваю себя, граждане: каким образом я, русский, являюсь среди этого международного собрания, имеющего задачей заключить союз между народами? Едва четыре года прошло с тех пор, как русская империя, которой я, правда, всенепокорнейший подданный, возобновила свои преступления и убийства над героическою Польшей, которую она продолжает давить и терзать, но которую, к счастью для всего человечества, для Европы, для всего славянского племени и для самих народов русских, ей не удается убить.
Вот почему, не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов. Муравьев, вешатель и пытатель не только польских, но и русских демократов, был извергом человечества, но вместе с тем самым верным, самым цельным представителем морали, целей, интересов, векового принципа русской империи, самым истинным патриотом, Сен-Жюстом и Робеспьером императорского государства, основанного на систематическом отрицании всяческого человеческого права и всякой свободы».
Открестившись публично от собственного двоюродного дяди – Муравьева-Вешателя (на которого, по мнению современников, он был внешне более всего похож), – Бакунин продолжил свои дифирамбы во имя свободы: «В положении, созданном для империи последним польским восстанием, ей остаются только два выхода: или пойти по кровавому следу Муравьева, или распасться. Середины нет, а желать цели и не желать средств – значит только обнаружить умственную и душевную трусость. Поэтому мои соотечественники должны выбирать одно из двух: или идти путем и средствами Муравьева к усилению могущества империи, или заодно с нами откровенно желать ей разрушения. Кто желает ее величия, должен поклоняться, подражать Муравьеву и, подобно ему, отвергать, давить всякую свободу. Кто, напротив, любит свободу и желает ее, должен понять, что осуществить ее может только свободная федерация провинций и народов, то есть уничтожение империи. Иначе свобода народов, провинций и общин – пустые слова. Право федерации и отделение, то есть отступление от союза, есть абсолютное отрицание исторического права, которое мы должны отвергать, если в самом деле желаем освобождения народов.
Я довожу до конца логику постановленных мной принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтоб она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения. Этого требует интерес самой России, и наше желание совершенно патриотично в истинном смысле слова, потому что всегда только неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластия. Между империей и нами, патриотами, революционерами, людьми свободомыслящими и жаждущими справедливости, нет никакой солидарности.
То, что справедливо относительно России, должно быть также справедливо относительно Европы. Сущность религиозной, бюрократической и военной централизации везде одинакова. Она цинично груба в России; прикрыта конституционной, более или менее лживой, личиной в цивилизованных странах Запада; но принцип ее все один и тот же – насилие… Горе, горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями.
Эти принципы, истинные начала справедливости и свободы, должны быть непременно провозглашены именно теперь, когда недостаток принципов деморализует умы, расслабляет характеры и служит опорой всем реакциям и всем деспотизмам. Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть, каждый из нас должен возвыситься над узким, мелким патриотизмом, для которого своя страна – центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления принципа свободы. Национальность не принцип: это – законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собой, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы.
Всякий, искренно желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, величием отечества, от всех эгоистических и тщеславных интересов патриотизма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней. Программа наших комитетов приглашает нас обсудить основания организации Соединенных Штатов Европы. <…>
Всякое централизованное государство, каким бы либеральным оно ни заявлялось, хотя бы даже носило республиканскую форму, по необходимости – угнетатель, эксплуататор народных рабочих масс в пользу привилегированного класса. Ему необходима армия, чтобы сдерживать эти массы, а существование этой вооруженной силы подталкивает его к войне. Отсюда я вывожу, что международный мир невозможен, пока не будет принят со всеми своими последствиями следующий принцип: всякая нация, слабая или сильная, малочисленная или многочисленная, всякая провинция, всякая община имеет абсолютное право быть свободной, автономной, жить и управляться согласно своим интересам, своим частным потребностям, и в этом праве все общины, все нации до того солидарны, что нельзя нарушить его относительно одной, не подвергая его этим самым опасности во всех остальных.
Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиться единства свободные, организованные снизу вверх свободной федерацией общин – в провинцию, провинций – в нацию, наций – в Соединенные Штаты Европы».
Вот каким запомнил Бакунина участник Женевского конгресса Карл Грюн: «Бакунин был все тот же, по крайней мере, внутренне; внешне он поседел, одежда на нем была в беспорядке, высокий стан согбен, рот без зубов, речь большей частью неразборчива. Но в остальном он не изменился, больше того – стал еще сердечнее, благодушнее, внимательнее. Он показал мне свою маленькую жену, – свою “спасительницу”. Я с трудом сохранил серьезность. Эта маленькая, худенькая полька рядом с русским богатырем едва доставала ему до груди. Точно пони рядом со слоном в цирке. Он отправил жену с каким-то молодым русским в театр, а для нас заказал настоящего китайского чаю с настоящим коньяком, и мы много и долго болтали. Он скупо удовлетворил мое любопытство относительно своего романтического бегства через три части света, и когда я просто заметил: “Ты бы это описал когда-нибудь”, он ответил серьезно и сухо (мы говорили ради него по-французски): “Il faudrait parler de moimeme” (то есть “пришлось бы говорить о себе самом”). Этого он не хотел: его личное “я” не имело для него значения. Потом он взял меня за руку: “Все-таки хорошо, что мы снова увиделись и в принципе так единодушны”. <…>
Насколько мне позволяют судить мои сведения и мое знание людей, Бакунин был честный человек. Он пострадал за свои идеи, жестоко поплатился за 48-й и 49-й годы, и как бы безумны ни казались его убеждения, в нем всегда было что-то здоровое, даже сердечное. Пусть его голова не раз срывалась с цепи, но его чувствования возбуждали симпатию. Никакой задней мысли, ничего желчного, никакого коварства, мании величия, ни грана тщеславия в нем не было. Он уклонялся от славы, насмехался над известностью. Он был и остался веселым после всех перенесенных им страданий, которые десять раз сокрушили бы всякого другого; только он, гигант, стряхивал с себя бремя рока и каждый раз снова являл изумленным друзьям улыбающееся лицо…»
Зал Избирательного дворца вмещал шесть тысяч человек, и, купив за небольшие деньги билет, присутствовать на заседаниях конгресса мог любой желающий. Среди многочисленных посетителей был человек, которому впоследствии это событие дало пищу для наполнения конкретным содержанием антиреволюционного (или антинигилистического, как тогда говорили) произведения. Речь идет конечно же о Достоевском и его романе «Бесы». В 20-е годы XX столетия среди литературоведов шла дискуссия: слышал или нет Достоевский пламенную речь Бакунина, ибо она вполне могла навести на мысль о романе на злободневную тему. В то время мнения разделились, но однозначный ответ оказалось возможным получить спустя семь десятилетий, когда был расшифрован и опубликован дневник жены Достоевского Анны Григорьевны.
Достоевские жили тогда в Женеве и были в курсе главных событий, связанных с конгрессом. Перед его открытием они вместе с многотысячными толпами людей участвовали в триумфальной встрече Гарибальди и слушали его выступление. Но на заседании самого конгресса супруги появились 11 сентября – на третий день после его открытия и на второй после речи Бакунина. Послушать речи ораторов Достоевскому настоятельно порекомендовал Огарев – член оргкомитета и активный участник конгресса. Скорее всего, Огарев рассказал Достоевским, хотя бы в общих чертах, и о выступлении Бакунина.
В дневнике Анна Григорьевна застенографировала все, что происходило на конгрессе 11 сентября, вплоть до малозначительных подробностей: написала о жутком шуме в зале, напоминавшем конюшню или манеж, о расставленных скамьях (отдельно для мужчин и отдельно для дам), где супругам едва удалось найти свободное место, о том, что речи, похожие одна на другую, сначала утомили Федора Михайловича, а затем ввергли в раздражение… О Бакунине – ни слова. Однако его колоссальную фигуру трудно было не заметить и за столом председательствующих, и в кулуарах, где громогласный бас русского богатыря перекрывал любой шум.
Тем временем Бакунин развил активную деятельность среди участников конгресса и в группе, готовившей резолюции. Его огромная, как предгрозовая туча, фигура мелькала то здесь, то там. Он вмешивался в вялотекущие дискуссии, предлагал радикальные поправки, в корне менявшие с трудом согласованные тексты, и разражался по этому поводу бурными тирадами, отпугивая тем самым потенциальных союзников. В результате Бакунин с малочисленными единомышленниками остался в меньшинстве, а Женевский конгресс принял постановления, которые мало что значили и мало к чему обязывали (во всяком случае военной угрозы, дамокловым мечом нависшей над Европой, они не устранили).
Но Бакунин был не из тех, кто пасует перед трудностями и отступает. Избранный вместе с ближайшим сподвижником Николаем Ивановичем Жуковским (1833–1895) в Центральный комитет Лиги (позднее туда же вошел Н. П. Огарев), он решил остаться в Швейцарии и довести до конца начатое дело по революционной переориентации Лиги. В это время он сблизился с достаточно многочисленной русской колонией в Берне – молодыми эмигрантами и студентами. В результате был основан журнал «Народное дело» (так называлась работа Бакунина, написанная в 1862 году, сразу же после бегства из Сибири). Ему лично удалось повлиять на ориентацию лишь первого номера журнала (в дальнейшем руководство в нем захватили другие люди), но и этого оказалось достаточно, чтобы журнал оставил след в истории. Здесь была опубликована краткая, но емкая программа российского революционно-демократического движения на ближайшее и отдаленное будущее (в том числе и по коренному переустройству страны):
«<…> Вся будущая политическая организация должна быть не чем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций). И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде окончательного уничтожения государства, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно– и гражданско-бюрократическими, юридическими, учеными и финансово-экономическими учреждениями. Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения на основании их собственных инстинктов, нужд и воли, дабы, федерируясь [так!] снизу вверх, те из них, которые захотят быть членами русского народа [так!], могли бы создать сообща действительно вольное и счастливое общество в дружеской и федеративной связи с такими же обществами в Европе и в целом мире» (выделено мной. – В. Д.).
Кроме того, Бакунин оказался единственным из столпов русской эмиграции, кто уловил новое веяние в настроении молодого поколения, ознаменовавшееся совершенно невиданным доселе явлением в мировой революционной практике – «хождением в народ»: «Теперь главную роль в нем (в движении. – В. Д.) будет играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным и что кто хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. <…> И если будущность для нас существует, так только в народе. Ей (молодежи. – В. Д.) предстоит подвиг… очистительный подвиг сближения и примирения с народом». Один из «шестидесятников» (в дальнейшем один из самых стойких последователей Бакунина в России) – Виктор Черкезов (ок. 1844–1925) – вспоминал, что в Петербурге был всего один-единственный экземпляр первого номера журнала «Народное дело», столичная молодежь в течение целого месяца от руки переписывала и распространяла его, рассылала в Москву и провинцию… Призыв Бакунина, получивший со временем отклик в сердцах молодых «штурманов будущей бури» (Герцен), лейтмотивом прошел через всю его революционную пропаганду: «Итак, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель. Бросайте эти университеты, академии и школы… ступайте в народ, [чтобы стать] повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий…»
Между тем его контакты с далеким Прямухином, после отъезда Павла с женой и посланных им вдогонку нескольких писем, приостановились почти на два года, пока жизнь, как уже бывало не однажды, не взяла Михаила за горло. «Друзья, братья, – пишет он 24 сентября 1867 года из Женевы, – я нахожусь в беде, и вы, если есть малейшая возможность, должны мне помочь. В долгу, как в шелку, а денег ни гроша…» Так продолжалось из месяца в месяц; спустя полтора года Михаил обращается к двум оставшимся в живых сестрам – Татьяне и Александре: «Сестры. Долги меня давят. Мне грозит голодная смерть. Помогите» (выделено мной. – В. Д.). Все чаще его посещает мысль о выделении причитающейся ему доли наследства, выражающейся главным образом в недвижимости – усадьба, земля, лес, – их можно было бы незамедлительно продать или заложить. Дело – заведомо хлопотное, ущемляющее законные права братьев, но ему через него еще предстояло пройти…
* * *
Чтобы склонить избранных членов ЦК Лиги мира и свободы на свою сторону, Бакунин написал целый трактат, впоследствии он вошел во все собрания сочинений под названием «Федерализм, социализм и антитеологизм: Мотивированное предложение Центральному комитету Лиги Мира и Свободы от М. Бакунина». Это теоретическая работа (как и ряд других) осталась незавершенной, но ее содержание автор почти полностью и неоднократно озвучивал на регулярных заседаниях и в кулуарных дискуссиях. В многостраничной Записке, по существу, повторены известные бакунинские идеи и представления о перспективах европейского общественного развития, конечную цель русский мыслитель видел в установлении справедливого строя, именуемого социализмом:
«<…> Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме:
Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе; создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию. Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие. <…>».
Характерно и знаменательно, что на построение социализма (его он называл новой религией народа) во всеевропейском масштабе даже такой нетерпеливый человек, как Бакунин, готовый к сиюминутной революции в любой точке земного шара, отводил не годы и десятилетия, а столетия! Учитывая буржуазный состав Центрального комитета, а также пацифистскую ориентацию ее учредителей и спонсоров, Бакунин с единомышленниками предлагали достаточно обтекаемые формулировки в обсуждаемых проектах:
«Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической реформы, которая имеет своей целью освобождение труда народа от ига капитала и собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе. Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной…»
Но ни железная логика, ни бесспорные аргументы, ни пассионарный натиск русского агитатора, ни его громоподобный голос бога-олимпийца не оказали никакого воздействия на убеждения большинства Центрального комитета Лиги. Михаил быстро понял, что с ними ему не по пути. Единственно, чего он смог добиться, чтобы на следующем, втором конгрессе, который открылся 21 сентября 1868 года в Берне, ему предоставили максимально возможное время для доклада. Совершив в нем обстоятельный экскурс в мировую историю и подвергнув философско-социологическому анализу государственно-деспотическую организацию общества, он оглушил следующим заявлением: «Итак, я прихожу к заключению: тот кто желает вместе с нами учреждения свободы, справедливости и мира, хочет торжества человечества, кто хочет полного и совершенного освобождения народных масс, должен желать вместе с нами разрушения всех государств и основания на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран».
Не найдя понимания ни у делегатов конгресса, ни у его руководства (в котором уже не было ни Гарибальди, ни радикальных французских социалистов), Бакунин решил вообще порвать с Лигой. Но прежде он пригвоздил к позорному столбу окопавшихся в ней буржуазных прихвостней и «ударил картечью» по благообразной либеральной публике: «Международная ассоциация буржуазных демократов, “Международная Лига мира и свободы”, издала свою новую программу или, вернее, испустила вопль отчаяния, трогательный призыв ко всем буржуазным демократам Европы, умоляя их не дать ей погибнуть по недостатку средств. <…> В этом циркуляре Центрального комитета Лиги читателю слышится голос умирающих, силящихся разбудить мертвых. В нем нет ни одной живой мысли, все повторение избитых фраз и бессильное выражение желаний, столь же добродетельных, сколько бесплодных, над которыми история давно произнесла смертный приговор, именно за их отчаянное бессилие. <…>
Почему же Лига, заключающая в своей среде столько умных, ученых и искренно либеральных личностей, так скудна мыслью, так очевидно неспособна желать действовать и жить. Эта неспособность и скудоумие зависят не от личностей, а от целого класса, к которому эти личности имеют несчастье принадлежать. Этот класс, как политический и социальный организм, оказав в свое время цивилизации важные услуги, самой историей обречен на смерть. И это последняя и единственная услуга, которую он еще может оказать человечеству, так долго питавшему его своими лучшими силами. Но умирать она не хочет. Вот в чем единственная причина его настоящей глупости, той постыдной немощности, которая характеризует ныне все его политические предприятия, как национальные, так и интернациональные».
Заканчивая речь, Михаил видел, как инстинктивно вжимали головы в плечи некоторые дородные «переднескамеечники», а в их глазах читался неподдельный страх. Спустя три дня после открытия конгресса, 25 сентября 1868 года, Бакунин и еще четырнадцать его сторонников объявили о своем выходе из лиги и подписали «Коллективный протест членов, вышедших из состава конгресса». Вскоре они организовали новый тайный союз, назвав его «Альянсом социалистической демократии (или социалистов-революционеров)», который в перспективе должен был войти в Интернационал. Именно в рамках этой авторитетной международной организации Бакунин и его сторонники – приверженцы безграничной и неподконтрольной свободы – надеялись получить широкую автономию и избавить себя от мелочной опеки Генерального совета. С «Интернациональным братством», категорически противившимся контактам с Интернационалом, также пришлось порвать.
Сам Бакунин вступил в Интернационал еще в июле того же 1868 года. Он подал заявление с просьбой принять его в Женевскую секцию Международного товарищества рабочих. О его настроениях в тот период лучше всего свидетельствует письмо Марксу от 22 декабря: «Мой старый друг! <…> Ты спрашиваешь… продолжаю ли я оставаться твоим другом. Да, более чем когда-либо, дорогой Маркс, ибо лучше, чем когда-либо прежде, я понимаю теперь, как был ты прав, выбрав, – и нас приглашая за тобой следовать, – большую дорогу экономической революции и осмеивая тех из нас, которые блуждали по тропинкам национальных или чисто политических предприятий. Я делаю теперь то дело, которое ты начал уже более двадцати лет назад. Со времени торжественного и публичного прости, которое я сказал буржуа на Бернском конгрессе, я не знаю теперь другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Моим отечеством будет теперь Интернационал (выделено мной. – В. Д.), одним из главных основателей которого ты являешься. Ты видишь, следовательно, дорогой друг, что я – твой ученик, и я горжусь этим. Вот все, что я считаю необходимым сказать, чтобы объяснить тебе мои личные чувства и отношения…»
Это был, так сказать, последний обмен дипломатическими любезностями. Отправляя полное дифирамбов письмо в Лондон, Бакунин еще не знал, что в тот же самый день Генеральный совет по настоянию Маркса отказал «Альянсу социалистической демократии» во вступлении в Интернационал на правах независимого члена и предложил самораспуститься (что вскоре и было сделано).