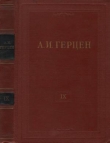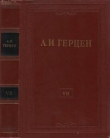Текст книги "Бакунин"
Автор книги: Валерий Демин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Наконец, весь «расклад сложился»: деньги Тургенева и природная предприимчивость Налбандова сделали свое дело. 12 ноября 1862 года Антония Ксаверьевна наконец-таки выехала из Иркутска и через месяц добралась до Прямухина, где нашла радушный прием и передружилась с кем только можно. Осталось дождаться паспорта для выезда за границу, о нем хлопотал Павел Бакунин. Михаил Александрович, казалось бы, мог вздохнуть спокойно, но его захватили совсем другие дела…
* * *
Нет нужды говорить, что с момента высадки на английский берег (и, безусловно, ранее того) вся энергия Бакунина по-прежнему была направлена на подготовку революции. В России после крестьянской реформы 1861 года постепенно складывалась революционная ситуация. Еще быстрее зрела она в Царстве Польском – части Российской империи, где каждый поляк готов был отдать жизнь за свободу и независимость отчизны. Повсюду тайные революционные комитеты готовились к восстанию. Русская эмиграция была на стороне польских братьев. Бакунин небезосновательно считал, что давно ожидаемая им общеславянская революция на сей раз может начаться с Польши. Взрыв, однако, произошел неожиданно для всех – в ответ на незапланированный рекрутский набор, с помощью которого царское правительство намеревалось нейтрализовать наиболее активную часть населения – молодежь. В ночь с 22 на 23 января 1863 года началось всеобщее народное восстание в Польше, Литве и в части Западной Белоруссии. Бакунин считал, что польское восстание послужит детонатором революции в России. Первой вслед за Польшей должна была подняться Финляндия. Дабы иметь возможность непосредственно влиять на события и в удобный момент включиться в них и даже возглавить, Бакунин безо всякого приглашения, и никого не поставив в известность, 21 февраля 1863 года приехал в Стокгольм.
Швеция имела свой интерес во всем этом деле – не теряла надежды вернуть Финляндию, отобранную у нее в результате Русско-шведской войны 1808–1809 годов. Король и правительство никак не могли смириться с потерей территории, испокон веков считавшейся их вотчиной. Потенциальная независимость Польши и любое поражение России также были на руку шведским геополитикам и стратегам. Поэтому на волне завышенных ожиданий и утопических планов Бакунина, прибывшего в Швецию под псевдонимом Анри Сулэ, приняли чуть ли не как главу будущего временного правительства (правда, неизвестно какого государственного образования). Ему дал аудиенцию ни больше ни меньше как сам шведский король Карл XV, в его честь был устроен грандиозный банкет, где «русский бунтарь» выступил с пламенной речью, заставившей поперхнуться не одного шведского либерала. По свидетельству очевидца, Бакунин шокировал публику уже тем, что явился на официальный прием в костюме, более подобающем для народного митинга. Он произнес блестящий спич на французском языке, непонятном большинству присутствующих. Однако все были настолько загипнотизированы этим «русским медведем», его широкими жестами и мощным голосом, напоминающим рев хищного зверя, что по окончании выступления раздался шквал аплодисментов.
Царская охранка внимательно следила за каждым шагом бывшего российского подданного. Почти все европейские страны (тем более такие, как «вечная соперница» Швеция) были наводнены российскими шпионами и осведомителями. Их многостраничные донесения не вмещали папки жандармского ведомства. Секретное досье Бакунина, дошедшее до наших дней, – одно из самых объемных в этой позорной «коллекции». Обо всех наиболее заметных делах русской эмиграции в целом и Бакунина в частности докладывали лично царю. Александр II в очередной раз имел повод пожалеть, что, проявив непозволительную для монарха слабость, поддался на уговоры и выпустил Бакунина из Шлиссельбургской крепости. Дабы подпортить жизнь неукротимому революционеру, решено было еще раз, как когда-то в революционном Париже, пустить в ход гнусную клевету о нем как о тайном жандармском агенте, использовав на сей раз «Исповедь», собственноручно написанную для царя в Алексеевском равелине.
Бакунин нашел возможность достойно ответить не только Александру II, но и всей династии Романовых, опубликовав в двух номерах шведской газеты статью о пережитках российской феодальной системы в лице императорской власти, ставшей тормозом на пути прогрессивного развития: «<…> Для тех, кого удивит сила моей ненависти к петербургскому императорскому режиму, я скажу, что с режимом этим я познакомился в царствование императора Николая. А это, быть может, был наиболее мрачный период в истории наших монархов, уже самой по себе достаточно мрачной. В продолжение 30 лет это было систематическим отрицанием всякого человеческого чувства, всякой мысли, всякой справедливости. В течение всего этого времени не прислушивались ни к жалобам, ни к ропоту, подвергаясь действию этой системы удушения, которую называли Николаевским режимом: люди страдали и умирали, не смея вымолвить слово.
Император Николай был Дон-Кихотом системы, созданной Петром I и Екатериной II; он был наиболее трагическим ее выразителем. Он считал себя благодетелем и просветителем России. Что случилось бы, если бы он не был побежден в Крыму? Для России это было бы большим несчастьем. Но, к счастью для нас, его торжество оказалось уже невозможным.
Никто никогда не забудет трепета, пробежавшего по всей империи при смерти императора Николая. Его можно было назвать первым вздохом воскресшего. Чиновничество оплакивало крушение своего владычества, остальное же население содрогнулось от радостных надежд. Россия нё умерла: несмотря на все усилия, императору Николаю не удалось убить ее, и было ясно, что его режим, столь ненавидимый всеми, вместе с ним сошел в могилу. Дата его смерти является днем рождения новой России. <…>».
Двухгодичное пребывание в Швеции, естественно, не ограничивалось одной лишь пропагандой, агитацией и газетной полемикой. Главной задачей, стоявшей в ту пору перед интернациональной эмиграцией, являлось формирование отряда добровольцев. Их предполагалось направить на помощь восставшим в Литве и Польше. Для успеха предприятия необходимо было подобрать надежных людей, закупить оружие и боеприпасы, арендовать пароход и отправить его со всем грузом через Балтийское море. Бакунина пригласили подключиться к волонтерам по дороге к пункту высадки десанта в районе Паланги на балтийском побережье Литвы. Руководителем военной экспедиции был полковник Теофил Лапинский, он приобрел опыт боевых действий и партизанской войны на Кавказе, где сражался на стороне горцев.
Герцену и Огареву командир польских добровольцев запомнился патологической ненавистью к России и ко всему русскому, ненавидимому им «дико, безумно, неисправимо». Но присутствие Бакунина среди волонтеров терпел – вероятно, из-за его зычного голоса, способного перекричать шум бури и вой любого ветра. Бакунин уже воображал, как высадится с десантом в Литве близ Паланги, в том самом Западном крае, где когда-то начиналась его военная служба. Волонтеры на шлюпках намеревались, насколько это возможно, ближе подойти к берегу и по мелководью, вброд, добраться до суши.
Однако с самого начала экспедицию преследовала череда неудач. У ее руководства не было никакого взаимопонимания. Замыслы польских эмигрантов из-за отсутствия элементарной конспирации и предательства стали известны царскому правительству, и оно сыграло на опережение: от самых берегов Англии пароход с польскими инсургентами сопровождал русский военный корабль, готовый в любую минуту расстрелять десант из пушек. Пока шла организационная работа в Швеции, повстанцы в Литве были разгромлены, а их героический руководитель Зигмунд Сераковский (1826–1863), тяжело раненный в позвоночник, попал в плен и в бессознательном состоянии был повешен по приговору полевого суда. Капитан зафрахтованного судна отказался вести пароход по новому маршруту и направил его в Копенгаген, где вместе с частью команды сбежал с корабля. Новый капитан повернул пароход в Швецию, где по решению шведского правительства его задержали почти на два месяца. Бакунин вынужден был отказаться от дальнейшего участия в экспедиции и вернуться в Стокгольм[25]25
Спустя два месяца, учтя прошлые неудачи, поляки попытались вновь реализовать свой замысел. На сей раз действовали с соблюдением всей необходимой конспирации. Пароход с волонтерами на борту покинул берега Швеции, якобы направляясь в Англию. Но в Копенгагене под покровом ночи людей пересадили на шхуну, груженную оружием и боеприпасами, которая взяла курс на восток. Высадка началась, как только экспедиция достигла намеченной точки. Море бурлило, а спущенная на воду шлюпка с людьми дала течь и затонула вдали от берега. Вторая шлюпка перевернулась от порыва ветра. Из 32 человек 24 погибли.
[Закрыть].
* * *
Восстание в Польше не могло не потерпеть поражения. Энтузиазм плохо вооруженного и недостаточно сплоченного народа оказался бессильным против регулярных царских войск. Осторожный Герцен пытался поубавить революционный пыл Бакунина, указав на неминуемость поражения польского восстания. Что касается общеславянской революции, то здесь Искандер пробовал даже шутить (хотя поводов для шуток было очень мало). Он намекал, что Михаил «принял второй месяц беременности за девятый» и что он «запил свой революционный запой».
Безрезультатно! Бакунин рассуждал совершенно по-иному. Достаточно искры, чтобы взорвать бочку с порохом. Вот он и есть та самая искра, а горючий материал всегда под руками. Достаточно одного зажигательного выступления или искрометной прокламации, чтобы воспламенить толпу и направить ее на штурм любой твердыни деспотизма в любой части света. Он по-прежнему пытался опередить события, ускорить естественное течение времени, и реальность постоянно оборачивалась к нему не лучшей своей стороной. Говоря словами Герцена, «он хотел верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украйна восстанут, как один человек, услышав о Варшаве, он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтобы узаконить раскол. <…> Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения – за восстанием в Варшаве он уже видел свою “славную и славянскую” федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением… он уже видел красное знамя “Земли и воли” развивающимся на Урале и Волге, на Украйне и Кавказе, пожалуй на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, – и торопился сгладить как-нибудь затруднения, затушевать противуречия [так!], не выполнить овраги – а бросить через них чертов мост». В действительности все происходило «с точностью наоборот»…
В Стокгольме Бакунин принялся с утроенной энергией «устраивать русские дела». Основания для этого были. С начала 1860-х годов в разных городах России действовало тайное революционное общество «Земля и воля», идейным вдохновителем которого по праву можно считать Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889). Землевольцы во многом ориентировались на герценовский «Колокол», а напечатанную в нем статью-воззвание Н. П. Огарева «Что нужно народу?» воспринимали как программу повседневной революционной деятельности. Огарев (с ним Бакунин сошелся особенно близко) излагал свои мысли простым, ясным языком. На вопрос, сформулированный в заголовке своей статьи, отвечал кратко и понятно: «Что нужно народу? – Очень просто, народу нужна земля да воля». Отсюда и название тайной организации. В качестве первоочередных задач выдвигались требования закрепления за крестьянами, освобожденными от крепостной зависимости, всей ранее находившейся в их пользовании земли, защита народа от чиновничьего произвола, установление подлинного народного самоуправления, сокращение наполовину армии и т. п. На мирный исход надежд было мало, а потому ставка делалась на крестьянские восстания, перерастающие в революцию. Ее итогом должно стать ниспровержение самодержавия и созыв бессословного Земского собора (Народного собрания), призванного установить в России республиканское правление.
Авторитетного руководства у тайной организации не было. Комитеты и группы, существовавшие в разных городах, зачастую действовали автономно. Требовалась серьезная и кропотливая работа по объединению разрозненных сил, включая и находившиеся за границей. При редакции «Колокола» был создан Совет «Земли и воли». Предстояло скоординировать его деятельность с организациями в России и как можно скорее создать на родине надежный и прочный руководящий центр. За эту работу с присущей ему энергией и взялся Бакунин. Прежде всего он планировал найти поддержку российского оппозиционного движения в либеральных кругах Швеции, создать здесь пропагандистскую базу (включая подпольную русскую типографию), а затем через Финляндию и притесняемых царским правительством раскольников Архангельской губернии наладить постоянную связь с ячейками в России, создав там мощное и действенное революционное ядро.
Однако сложившаяся ситуация сработала против этого, в общем-то, безупречного плана. После поражения восстания в Польше, исчерпания революционной ситуации в России, ареста или эмиграции ряда руководителей в деятельности «Земли и воли» наступил кризис, что в дальнейшем привело к самороспуску тайной организации. Бакунину пришлось на время отложить до лучших времен «северный вариант» подготовки революции в России. К этому времени в Европу наконец-то прибыла его жена – Антония Бакунина. Сначала она появилась в Лондоне, ничего не зная о местопребывании мужа. Н. А. Тучкова-Огарева подробно описывает, как ее принимал опытный конспиратор Герцен:
«Однажды Герцен сидел за письменным столом, когда Жюль доложил ему, что его спрашивает очень молоденькая и хорошенькая особа.
– Спросите имя, Жюль, ведь я всегда вам говорю, – сказал Герцен несколько с нетерпением.
Жюль пошел и тотчас вернулся с изумленным выражением в лице.
– Eh bien, – сказал Герцен.
– M-me Bacounine! Comment, monsieur, pas possible? (Г-жа Бакунина! Неужели? – фр.) – говорил бессвязно Жюль, вероятно, мысленно сравнивая супругов.
Герцен слышал, что Бакунин женился в Сибири на дочери тамошнего чиновника-поляка. “Не она ли уж явилась?” – подумал Герцен. Поправя немного свой туалет, он пошел в гостиную, где увидел очень молоденькую и красивую блондинку в глубоком трауре.
– Я жена Бакунина, где он? – сказала она. – А вы – Герцен?
– Да, – отвечал он, – вашего мужа нет в Лондоне.
– Но где же он? – повторила она.
– Я не имею права вам это открыть.
– Как, жене! – сказала она обидчиво и вся вспыхнула.
– Поговоримте лучше о Бакуниных. Когда вы оставили его братьев, сестер? Как бишь называется их имение? Вы были у них в деревне – как зовут сестер и братьев?.. Я все перезабыл, перепутал…
Бакунина назвала их деревню и вообще отвечала в точности на все вопросы. Бакунины ей помогали достать паспорт и средства на долгий путь. Это был со стороны Герцена чисто экзамен, сделанный ей, чтобы убедиться, что она не подосланный шпион. Наконец Герцен поверил, что она действительно жена Бакунина, и предложил ей переехать в наш дом и занять пока мою комнату. Позвав мою горничную, Герцен сказал ей, чтобы она служила Бакуниной, что было затруднительно только потому, что Бакунина не знала ни одного слова по-английски.
Но все-таки Герцен не открыл Бакуниной, где находится ее муж, что ее очень оскорбило и оставило в ее душе следы какого-то неприятного чувства против Александра Ивановича.
Когда я вернулась из Осборна, Бакунина переехала уже на ту квартиру, где жил до отъезда ее муж. Мы с ней хорошо познакомились, но она более всего сошлась с Варварой Тимофеевной Кельсиевой. Она рассказывала последней многое из своей жизни и о своем браке. “Мне гораздо более нравился один молодой доктор, – говорила она, – и, кажется, я ему тоже нравилась, но я предпочла выйти за Бакунина, потому что он герой и всегда был за Польшу. Хотя я родилась и выросла в Сибири, я люблю свое отечество, ношу траур по нем и никогда его не сниму”.
В ней было много детского, наивного, но вместе с тем и милого, искреннего. В то время мы получили от Бакунина телеграмму на мое имя такого содержания: “Наталья Алексеевна, поручаю вам мою жену, берегите ее”. Впрочем, вскоре он вызвал ее в Швецию, и мы большим обществом проводили ее на железную дорогу, отправляющуюся в Дувр.
Перед отъездом из Лондона Бакунина позвала нас всех обедать и угощала польскими кушаньями, очень вкусными и которым особенно радовались наши друзья-поляки, Чернецкий и Тхоржевский. Последний был большой поклонник женской красоты, и если бы обед был и плох, да хозяйка красива, он все-таки был бы в восторге».
После долгой разлуки супруги встретились в Стокгольме. Задолго до этого в качестве постоянного места жительства они избрали Италию. Однако решили ехать туда через Париж…
* * *
Антося пришла в неописуемый восторг от суеты и мишуры парижской жизни (впрочем, как и от других европейских городов, через которые им пришлось проезжать). 5 января 1864 года в письме к невестке Наталье она писала: «А в Париже я так завертелась в новом для меня мире, что даже маменьке долго не писала. Бегала с добрыми людьми, которые мне показывали Париж, с утра до вечера, то по музеям, то по церквам. <…> Была несколько раз в театре, и была в восхищении. Не смейся, пожалуйста, над моей пустой жизнью, ведь это только на первую пору, и мне как сибирячке, ничего не знавшей и не видевшей, более другой простительно, не правда ли, Наташа?»
В Париже Бакунин в последний раз встретился с Прудоном – старым друзьям и единомышленникам было что вспомнить и о чем поговорить. К Прудону Михаил Александрович по-прежнему испытывал уважение, но не идеализировал его. «Несмотря на все усилия стряхнуть с себя традиции классического индивидуализма, – писал он, – Прудон оставался всю свою жизнь неисправимым идеалистом, который, как я говорил ему за два месяца до его смерти, вдохновлялся то Библией, то римским правом и всегда оставался метафизиком до кончиков ногтей. Его величайшим несчастьем было, что он никогда не занимался естественными науками и не усвоил себе их методов. У него был гениальный инстинкт, часто предсказывавший ему правильный путь, но, увлекаемый дурными или идеалистическими привычками своего ума, он постоянно впадал в старое заблуждение, вследствие чего превратился в ходячее противоречие – мощный гений, революционный мыслитель, вечно возившийся с призраками идеализма и никогда не имевший сил победить их».
Бакунин, однако, хотел как можно скорей попасть в Италию. Но сначала он побывал в Лозанне, где состоялась его последняя встреча с H. Н. Муравьевым-Амурским. За три года, прошедших с их последней встречи, в обоих произошли разительные перемены. По существу, встретились два совершенно разных человека – государственник Муравьев и антигосударственник Бакунин. Диаметрально противоположные идейные платформы не помешали им проговорить целую ночь. Поутру они расстались навсегда, как выразился Михаил, – «не то чтобы грубо, но с окончательным выражением разрыва».
Свои надежды Бакунин связывал теперь с Италией: по его мнению, именно эта страна, где постоянно давали знать о себе бурные объединительные процессы, могла послужить примером и катализатором революции в Европе и России. Символом свободы и неисчерпаемой революционной энергии здесь по-прежнему оставался Джузеппе Гарибальди (1807–1882). После незаживающего ранения в бедро, полученного во время похода на Рим, находясь в очередной опале, по существу, изолированный от итальянского общества, он проживал в окружении близких друзей и сподвижников на приобретенном в личную собственность острове Капрера близ Сардинии – месте паломничества его почитателей со всего мира. Здесь его в последней декаде января 1864 года и навестил Бакунин с женой. Рассказ Михаила об этом визите (письмо к графине Е. В. Салиас[26]26
Елизавета Васильевна Салиас, урожденная Сухово-Кобылина (1815–1892) – родная сестра прославленного драматурга, возлюбленная Н. П. Огарева, познакомившего с ней Бакунина; писательница, публиковавшая свои произведения под псевдонимом Евгения Тур. Была замужем за французским графом Андре Салиас-де-Турнемир, с которым вскоре разошлась; мать русского романиста графа Е. А. Салиаса.
[Закрыть]) стоит того, чтобы привести его полностью (или почти полностью, так как некоторые слова и обороты при публикации оказались непрочитанными из-за их неразборчивости):
«Гарибальди принял нас дружески и произвел на нас обоих глубокое впечатление. Он совсем выздоровел и, хотя немного прихрамывает, силен, как лев, и на ногах с утра до ночи. Он сам работает в своем саду, который, хотя и не великолепен, но чрезвычайно интересен, потому что весь посеян его рукою на скале и между скалами. Вид грустный и великолепный. Тут один белый каменный дом, громко называемый [дворцом Гарибальди], [еще] один маленький железный, третий, еще меньше, деревянный. В саду у него всё южные деревья и растения – апельсиновые, лимонные, оливковые, миндальные, виноград, фиговые… <…> и много цветов; цвели, впрочем, только миндальные деревья да прелестная белая роза. На Капрере русское лето. Мы пробыли там три дня, и все дни были прекрасные, вечером и ночью даже тепло.
При Гарибальди нашли мы одного молодого политического секретаря [Гуерзони]… <…> военного и морского [Бассо], американского товарища [Гарибальди], его двух сыновей – [Менотти] и [Риччиоти] да несколько гарибальдийцев, военных и моряков, всего человек двенадцать. Здесь совершенная демократическая и социальная республика. Собственности здесь не знают: всё принадлежит всем. Туалетов также не знают: все ходят в куртках из толстого сукна, с открытыми шеями, с красными рубахами и голыми руками; все черны от солнца, все дружно работают. <…> [Некоторые] лежат на скале в живописных позах, толкуют о политике, о прошедших и предстоящих походах или поют. Вообще это маленькое скопище здоровых, сильных и славных молодых людей на Капрере, из которых каждый ознаменовал себя каким-нибудь особенным подвигом храбрости, напоминало мне первые страницы из байроновского “Корсара”.
Но посреди них Гарибальди, величественный, спокойный, кротко улыбающийся, один вымытый и один белый в этой черной и, пожалуй, несколько неряшливой толпе и с глубокою, хотя и ясною меланхолиею во всем выражении, производит невыразимое впечатление. Он бесконечно добр, и доброта его простирается не только на людей, но на все создания. Он любит своих двух волов, своих коров, своих телят, своих баранов, – и все его знают, и лишь только он появится, все тянутся к нему, и каждого он погладит и каждому скажет доброе слово. Мне рассказывали, что раз он встретил ягненка, заблудившегося и ищущего свою мать; он взял его на руки и в продолжение 4 часов искал его мать по скалам и, не найдя ее, принес ягненка к себе, постлал ему сена подле своей кровати, велел принести молока и губку и пролежал целую ночь с опущенною рукою и губкою, из которой ягненок сосал. На другой же день рано встал и проходил с ягненком на руках часа два или три, пока не встретил мать.
Точно так же одному молодому человеку, ломавшему сучья без нужды, он сказал: “Зачем вы это делаете? Надо уважать всё живое”. Религия его та же, что и ваша, он верит в Бога и в историческую судьбу человека. “Далее, – говорит он, – я ничего не знаю”. Я Вам сказал, что заметна в нем глубокая, затаенная грусть. Такова, должно быть, была грусть Христа, когда он сказал: “Жатва зрела, а жателей [так!] мало”. Такова грусть нашего созревшего человека, всю жизнь посвятившего освобождению и очеловечению человечества. Так-то, но даже самые великие и самые счастливые люди не достигают своей цели. А все-таки надо стремиться и тянуть мир за собой вперед.
После одного долгого разговора Гарибальди мне сказал: “За последнее время мне жизнь надоела; я охотно расстался бы с нею, но я хотел бы умереть с пользою для моего Отечества и для свободы всех народов. Я собирался поехать в Польшу, но поляки просили мне передать, что я буду там бесполезен, а мой переезд принесет больше вреда, чем пользы, поэтому я воздержался. Впрочем, я и сам полагаю, что здесь я буду для них полезнее, чем там. Если мы сделаем что-нибудь в Италии, то это будет выгодно и для Польши, которая ныне, как и всегда, пользуется всем моим сочувствием”.
Он, ясно, со всей партиею движения, готовится к весеннему делу. В чем будет состоять это дело, еще трудно сказать. Препятствий тьма. Война или, что еще лучше было бы, революция в Германии могут страшно подвинуть нас всех. Но об этом в следующем письме, которое напишу после Вашего ответа на это и на предыдущее. Теперь возвращусь к Гарибальди. Он был чрезвычайно мил и любезен с женою к немалому огорчению пьющей и красноносой англичанки (поклонницы генерала. – В. Д.). Провожая нас, он посадил ее [Антосю Бакунину] на лодочку, сам греб, а она длинною палкою таскала морских ежей…»
О чем еще беседовали с глазу на глаз Гарибальди и Бакунин, история умалчивает. Однако нетрудно предположить, что речь шла в том числе (если не в первую очередь) о вероятном разгроме Австро-Венгерской империи и освобождении находившихся под ее игом славянских народов – идея сия никогда не оставляла Бакунина. Еще в Сибири он пришел к выводу, что итальянцы – естественные союзники славян в борьбе против австрийского полицейского государства. Не получилось поднять славян с помощью Чехии, не удалось с помощью Польши – почему бы не попробовать с юга – в Италии – ударить в подбрюшье лоскутной Австро-Венгерской империи? Здесь иноземных захватчиков ненавидели так же люто, как и на порабощенных славянских территориях. За год до этого он писал чешскому корреспонденту: «Час освобождения славян близок. Все славяне должны приготовиться. Кто знает, откуда придет гроза? Из Франции, Польши или самой Австрии? Или из России? Но мы должны быть готовы встретить ее и воспользоваться ею. Мы должны понять друг друга, устроиться. Мы должны покрыть славянских братьев сетью тайных обществ. А эти тайные общества должны вмещать в себя все живое, развитое, энергическое и все, что чувствует, думает и желает чисто по-славянски. После должно все эти тайные общества соединить воедино, привести в движение в одно время с движением в Италии, Польше и России» (выделено мной. – В. Д.).
Обстановка благоприятствовала как никогда. Объединение Италии было не за горами – стоило только взять Рим. Одним из последних препятствий на этом пути оставалась бы Австро-Венгрия, оккупировавшая Венецию. Кому как не Гарибальди возглавить поход на север? Он был готов начать его хоть сейчас, несмотря на незажившую рану. Остальное – дело времени, разумеется, после предварительной и широкомасштабной агитационной работы, вот ее-то Бакунин брал на себя. К тому же и подходящие структуры уже имелись…
Гарибальди был не только любимым героем итальянского народа и демократической общественности всего мира. (Итальянцы называли его не просто героем, а своим «идолом», олицетворявшим единство страны). Он входил также в руководство ряда влиятельных и хорошо законспирированных масонских лож, оказывавших гарибальдийскому движению существенную организационную и материальную помощь. Поначалу Бакунин относился к масонам серьезно, не без оснований считая, что созданные ими структуры можно вполне переориентировать на подготовку революции. Опыт такой давно всем хорошо известен: французская революция XVIII века, война за независимость в Америке, движение карбонариев, отнюдь не ограничивавшееся одной лишь Италией. (Дальнейшие события, например Февральская революция 1917 года в России, вполне подтвердили интуитивные предположения Бакунина.)
Но чтобы использовать масонские организации в своих целях, надо было стать членом хотя бы одной из их тайных лож и пройти необходимые степени посвящения. Во имя дела революции Бакунин был готов на всё. Поселившись с Антосей во Флоренции, он, благодаря рекомендательному письму, полученному от Гарибальди, вскоре сблизился с одной из таких структур. Его прямым наставником и неформальным другом стал гроссмейстер местной масонской ложи Джузеппе Дольфи, состоятельный владелец макаронной лавки, все деньги которого уходили на объединение Италии и поддержку революционеров любой национальности. Несмотря на исключительно мирную профессию и добродушный нрав, Дольфи, когда нужно, мог проявить железную волю и настойчивость, с ним и стоящими за его спиной конспирантами считались флорентийские власти.
Бакунин быстро стал душою флорентийского общества. Темпераментные, говорливые, жестикулирующие итальянцы конечно же нравились ему гораздо больше, чем чопорные, медлительные и малоразговорчивые шведы. Он вообще находил много общего между русским и итальянским народами, а в Италии чувствовал тот же родной ему бунтарский дух, что и в России. С кем угодно он быстро находил общий язык и незамедлительно вызывал ответную симпатию. Гроссмейстер Дольфи души в нем не чаял. Когда друг Микаэло навещал довольно-таки скромное жилище своего патрона Дольфи, такого же необъятного, рослого и громогласного, и на столе появлялась пузатая бутыль виноградного вина, в комнате больше не оставалось места для других гостей. Когда они вместе под руку шествовали по флорентийским улицам, прохожие шептали друг другу: «Идет живая баррикада».
Однако постепенно Михаил стал разочаровываться в масонах, разглядев в них буржуазную по своей сущности структуру. Именно это не в последнюю очередь препятствовало превращению гарибальдийского движения в революционную силу, способную не только объединить Италию (в чем была, естественно, заинтересована национальная буржуазия), но и провести экономические и политические преобразования в интересах народных масс. Вот почему Бакунин достаточно быстро переориентировался на другие слои и политические структуры, а о своих недавних друзьях-ма-сонах написал: «В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию – Франк-Масонство. Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века, или даже начала этого века, по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуньи, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда смешно, между тем как до 1830, и в особенности до 1793 года, оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработанные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими догматами и как бы основами новой морали и новой политики – душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время ни более ни менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании. Это был Интернационал буржуазии». Тем более сказанное относилось к современной эпохе…
* * *
С виду Михаил Александрович с Антосей вели ничем не примечательную жизнь флорентийских обывателей. «Живем мы тихо. Работаем мало, – писал Бакунин графине Салиас. – Я каждую неделю посылаю по два мелких листа в Стокгольм и зарабатываю таким образом 100 франков, а иногда и более в неделю. Антося принялась серьезно учиться. Иногда ходим в театр и редко вечером посещаем знакомых. <…> Одним словом, читаем, учимся, пишем, иногда болтаем и проводим время тихо, невинно, но довольно приятно».