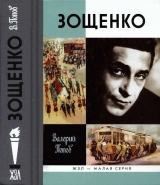
Текст книги "Зощенко"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО
Я помню открывшийся после войны интереснейший Музей обороны Ленинграда. Больше всего меня, шестилетнего, поразили там сбитые немецкие самолеты, какой-то болотно-пятнистой, сразу видно – фашистской, окраски. И еще одно поразило меня – огромный портрет при входе, от пола до потолка: высокий красивый мужчина в длинной распахнутой шинели. Победитель! Спаситель! Сталин! – сразу скажете вы. Нет – это был не Сталин! Как же так, спросите вы, огромный портрет в шинели перед входом в военный музей… и не Сталин? Даже меня, помню, это как-то изумляло – и пугало. Своим детским чутьем, ничего не зная о политике, я улавливал: что-то не так и что-то здесь случится. Не может быть таких огромных портретов не Сталина. «Кто это, папа?» «Это Кузнецов», – сказал папа, тоже слегка смущенный.
Алексей Александрович Кузнецов был одним из руководителей города в блокаду. После войны Жданов, уйдя на повышение в Москву, оставил «свою команду», и Кузнецов стал первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. И «позволил себе» столь несоразмерный портрет в Музее обороны. Надо сказать, что был он мужчина видный – портрет был весьма хорош. Но вскоре с портретом этим разобрались, как и со всей «ждановской командой» – которая, как казалось некоторым, слишком уж «высунулась» после героической блокады. Птенцы «гнезда Жданова» разлетелись по всей стране, причем на самые высокие должности. И при этом – держали связь друг с другом. Чем не «преступная группа»? И началась новая «война в верхах», направленная против «ленинградских выдвиженцев», а значит, против самого Ленинграда. Все уже знали, что репрессии, начинаясь сверху, уходят затем глубоко, страдают сотни, если не тысячи людей.
Обычно «дела» такого масштаба начинались с личной неприязни Сталина к кому-то из высоких начальников, потом – «коса шла» по нисходящей. Но в этот раз получилось наоборот. Причиной послужила «любовь Сталина» – к ждановской команде. Жданова он очень ценил, особенно за его работу в блокаду, а Кузнецова, настоящего русского богатыря, так просто любил, называл – Алеша! И после войны взял его секретарем ЦК ВКП(б). Чрезвычайно уважал он и замечательного руководителя, талантливейшего экономиста, тоже ленинградца Николая Вознесенского, бывшего заместителя председателя Ленинградского горисполкома. После войны Сталин сделал его членом Политбюро ЦК, председателем Госплана, заместителем председателя Совета министров, то есть практически своим заместителем – поскольку Сталин тогда занимал должность председателя Совета министров. У него было еще два заместителя – Георгий Маленков и Лаврентий Берия. И мы, уже искушенные в политике, понимаем, чем чреват такой расклад и как он опасен для «ленинградских выдвиженцев».
Раскол наметился скоро. Жданов, как это ни странно сейчас слышать, был довольно прогрессивным деятелем, во всяком случае в экономике, и именно он, после войны высоко поднявшийся и уверенный в поддержке своей весьма продвинувшейся команды, предлагает «новый курс» развития государства. Видя крайнее обнищание населения после войны, отсутствие самых элементарных бытовых вещей, Жданов предлагает поменять традиционный советский путь развития и вместо усиленного развития тяжелой промышленности переместить силы и средства в развитие легкой промышленности – хоть немного улучшить быт людей. Идею эту Жданов разрабатывал вместе с Вознесенским, но неожиданно и Сталин поддержал эту инициативу. Таким образом, Вознесенский становился «главным заместителем» Сталина в Совете министров – именно по предложенному им пути государство будет теперь развиваться. Ясно, что два других заместителя, да еще такие, как Маленков и Берия, такого пропустить не могли.
В декабре 1948 года Сталин на своем дне рождения, слегка выпив и расчувствовавшись, заговорил о том, что стареет, что надо искать преемников, и вдруг сказал, что преемником в экономике видит Вознесенского, а в политике – Алешу Кузнецова. «Есть возражения?» Возражений, ясное дело, не последовало. Но кончилось это для «ленинградских выдвиженцев» самым страшным образом. В 1948 году Жданов умер, и «ленинградцы» потеряли своего лидера, хорошо разбирающегося в дворцовых интригах. У них такого опыта не было. А Маленков и Берия были истинными «злыми гениями» подобных дел. Разумеется, они не выступали против открыто – у них был арсенал более тонких, но более действенных методов.
Двадцать пятого декабря 1948 года состоялась 10-я областная и 8-я городская объединенная ленинградская партийная конференция и были выбраны руководящие органы. По официальным данным, единогласно прошли соратники Вознесенского и Кузнецова. Секретарем горкома партии был избран Попков, секретарем обкома – Бадаев, вторым секретарем обкома – Капустин, председателем исполкома – Лазутин. Было объявлено, что за всех кандидатов проголосовали единогласно, иначе тогда и не бывало.
В первых числах января 1949 года на столе у Сталина оказывается анонимное письмо, в котором сообщается, что выборы в Ленинграде фальсифицированы и многие коммунисты на самом деле голосовали против.
Вообще-то на имя Сталина ежедневно приходило несколько тысяч писем, и они, естественно, тщательно отфильтровывались – и в том, что это письмо, да еще анонимное, оказалось на столе у Сталина, видна рука или Берии, или Маленкова. Маленков даже в большей степени, чем Берия, был «поваром» «Ленинградского дела». Прочитав письмо, Сталин приходит в негодование, немедленно вызывает Маленкова и расследование поручает ему. Очевидно, что и письмо было составлено не без участия Маленкова, так что дело попало в «верные руки». Тут же Маленков сообщает Сталину: «…и вообще, в Ленинграде отбились от рук – там идет какая-то оптовая ярмарка, а я, заместитель председателя Совета министров, ничего об этом не знаю». Это была еще одна западня – теперь «ленинградцам» было не уйти.
Ярмарка на самом деле была разрешена Советом министров. Сталин, председатель Совета министров, был человек занятой, и заседания обычно вели по очереди его заместители – то Берия, то Маленков, то Вознесенский. Когда решался вопрос об оптовой ярмарке в Ленинграде, председательствовал Вознесенский. Это естественно – именно он был проводником новой политики государства, чтобы хоть как-то улучшить жизнь народа. По причине неуклюжести власти на складах отдельных регионов скопилось огромное количество их продукции, но никакого движения не было, все тормозилось какими-то запретами и циркулярами, и полки в магазинах были пусты, люди голодали. И Вознесенский организовал оптовую ярмарку в Ленинграде: все регионы привозили свою продукцию, заключались договоры на поставки. Началось какое-то движение. Но тут, вместе с материалами о подтасовке выборов (оказывается, голоса «против» все же были), Маленков кладет бумагу о ярмарке, на которую якобы было завезено столько товаров, что большинство из них испортилось, и государству нанесен ущерб в 4 миллиарда рублей. Вместе с материалами о подтасовке выборов (в Ленинграде нарушают советские законы) – и «вредительство» на 4 миллиарда казалось уже естественным: враг идет на все!
Родионов, председатель Совета министров РСФСР, чувствуя опасность, послал рапорт об успешном ходе ярмарки, о заключении договоров между регионами на поставку товаров… В результате – погиб и он.
Началось «Ленинградское дело». 13 августа 1949 года на совещании в кабинете Маленкова были арестованы Кузнецов, Попков, Родионов, Лазутин. Вознесенский, член Политбюро ЦК, заместитель председателя Совета министров, был арестован по решению Пленума ЦК ВКП(б), прошедшего 12–13 сентября. Следствие велось грубейшими методами, подозреваемых избивали. Дело раскручивалось, привлекались сотни «соучастников» и даже родственников. Судебный процесс (без адвокатов, отброшенных как пережиток) проходил в сентябре 1950 года в Ленинграде, в Доме офицеров на Литейном. Военной коллегией Верховного суда и Особым совещанием при Министерстве госбезопасности Вознесенский, Кузнецов, Попков, Лазутин, Родионов, Капустин были приговорены к смертной казни и в Большом доме, где располагалась Госбезопасность, через час расстреляны.
Выявлены и арестованы были еще сотни «соучастников». Город замер. Все послевоенные надежды – рассеялись. Снова шли аресты.
Помню ночные тихие разговоры моих родителей за перегородкой. Мне было десять лет, слов я разобрать не мог, но тревогу почувствовал. Можно себе представить, что чувствовал Зощенко!
Ясно, что роль «политического фельетониста», предложенная в «Крокодиле», ему не подходит. Тут требовались не фельетоны, а фельетоны-приговоры, но приговоры Зощенко писать не умел.
ВЫЖИВАНИЕ
Зощенко пережил много поражений, но особенно сокрушительными и обидными были они тогда, когда он старался приспособиться к «текущей политике». Казалось бы, можно уже понять, что это – не его. Так нет, опять наступал на те же грабли. Возможно, к пьесам он относился «проще» – мол, это другое, «запасной жанр», нужно попробовать все. И он делает еще одну попытку…
В те годы начала «холодной войны» после вынужденной дружбы с союзниками ради победы над Гитлером мы снова «расплевались» с чуждым нам капиталистическим миром. В журнале «Крокодил» и даже в таких серьезных газетах, как «Правда» и «Известия», стали то и дело появляться карикатуры на бывших наших союзников. Америка изображалась в виде коварного «Дядюшки Сэма», с седой бородой и в цилиндре, а Англию изображал некий Джон Буль, маленький и пузатый. В руках они держали мешки с деньгами – один с изображением доллара, другой – с изображением фунта стерлингов. Помню, на одной карикатуре они протягивают свои мешки «кровавому маршалу Тито», югославскому лидеру, который совсем еще недавно был нашим союзником – и вот! Тито тоже изображался пузатым и всегда с этакой секирой с руке, зазубренной и окровавленной – какую-то гадость они задумывали против нас!
И, казалось бы, пьеса с критикой американского империализма будет тут в самый раз! Комедия Зощенко «Здесь вам будет весело» – разоблачение американских нравов. Тут уж, наверное, не обвинят в клевете.
Седьмого мая 1949 года Зощенко посылает комедию «Здесь вам будет весело» на имя начальника Главного управления театрами Пименова. Еще один экземпляр – Константину Симонову. Тот был «выездной», бывал на разных международных конгрессах и уж, казалось бы, разоблачение растленного Запада должен поддержать!.. Не ответил.
В июне 1949-го Комитет по делам искусств разрешает постановку комедии «Здесь вам будет весело» в Новом театре. Но советская система была устроена с двойной и даже тройной защитой – если какая-то инстанция совершала ошибку, то существовала другая, которая могла эту ошибку исправить. Кроме Комитета по делам искусств существовал еще Главрепертком. Комитет разрешил – Главрепертком запретил. Им хорошо – нам не очень.
Двадцать седьмого августа 1949 года Зощенко отправляет уже не первое письмо главному литературному вождю Александру Фадееву с описанием своего положения и просьбой указать, что делать, чтобы не быть «лишним человеком в государстве». Фадеев откликнулся – и у Зощенко появилась «работенка»: перевод другой повести Лассилы – «Воскресший из мертвых» и повести Тимонена «Освещенный берег». Он начинает работать (хотя договоры придут с опозданием – лишь в 1950 году).
Зощенко посылает письмо Георгию Маленкову – с просьбой оценить комедию «Здесь вам будет весело». Маленков в то время был популярен в народе – при нем прошло радостно встреченное снижение цен. А его роль в «Ленинградском деле» както не очень волновала народ. Михаилу Зощенко, однако, Маленков не помог.
Выходит мало кем замеченная книжка Тимонена «От Карелии до Карпат» с мелкой строчкой: «Перевод М. Зощенко». Выходит книга Лассилы «Воскресший из мертвых». В конце июля 1950 года опубликован в «Крокодиле» первый – после семилетнего перерыва – рассказ Зощенко «Страшная месть».
Следующий его рассказ выходит через полтора года – в ноябре 1951-го в «Огоньке» – «Домашний тигр». Рассказ какой-то тихий, робкий, прежнего «зубастого» Зощенко не узнать. Пишет фельетоны для «Крокодила» – опубликованы целых пять! Переводит на русский язык украинских писателей Рыбака, Гаврилюка…
Вот – 23 декабря 1950 года Зощенко приглашают в солидное издательство «Советский писатель» и заключают с ним договор… на перевод повести осетинского писателя Цагараева «Повесть о колхозном плотнике Саго»!
И Зощенко – соглашается. Хоть такую работу дают! Из классика, любимца народа он превращается в жалкого поденщика.
Казалось бы, всё! Зощенко «стерли». Но у гениев есть такая привычка – погибать красиво!
НЕСЛОМЛЕННЫЙ ЗОЩЕНКО
Происходит некоторое «просветление в умах»: а не чрезмерно ли мы наказали Зощенко? Добрые люди ведут тихую кампанию по восстановлению Михаила Зощенко в Союзе писателей.
Двадцать второго апреля 1953 года (уже после смерти Сталина) по предложению руководства Союза писателей Зощенко подает заявление о восстановлении в Союзе писателей. Целых семь лет прошло «в изгнании»! И еще вопрос – вернут ли? В волнении Зощенко пишет тем, на кого надеется – В. Каверину, К. Федину, К. Чуковскому, М. Шагинян – с просьбой поддержать. Но бумаги попадают к Константину Симонову в Москве – и тот «гуманно» решает: «…Нет. Восстановить – нельзя! Если восстановить – значит, получится, что зря исключили? А это не так! Исключили за дело!» Но теперь, «после осознания вины» и подачи заявления – «можно принять заново».
И 23 июня 1953 года на заседании Президиума Правления Союза писателей СССР Михаил Зощенко как новичок принят в Союз писателей. У меня возникла неожиданная историческая параллель – это как Пушкину за несколько лет до конца жизни вдруг присвоили придворный чин камер-юнкера – «дали шанс» попробовать сделать карьеру с самого начала.
Зощенко, снова «принятый в профессионалы», начал работать над книгой «Что больше всего меня поразило». Она задумывалась в жанре «Голубой книги» – как сборник парадоксальных и поучительных новелл, но замысел не осуществился. Сначала «Новый мир», который прежде печатал Зощенко, отказал в публикации. А потом уже и сам Зощенко все «сорвал».
Наступил 1954 год. Который, казалось, ничего «не предвещал». Сталин умер. Ужасы позади.
Но именно в этом году Зощенко настигла новая катастрофа. В разное время были разные версии этой истории. Я приведу здесь версию свидетеля тех событий, советского литературоведа Дмитрия Молдавского (Молдавский Д.М. Михаил Зощенко. Очерк творчества. Л., 1977):
«В Ленинград прибыла группа английских “студентов”. Беру слово “студенты” в кавычки потому, что за последующие четыре десятилетия никто из этой довольно большой группы никак не проявил себя ни в русистике, ни просто как человек, которому удалось поговорить с Зощенко и Ахматовой… И все вопросы их были загодя очень уже продуманы, сформулированы, ловко нацелены.
– А почему у вас запрещен Достоевский?
…Когда им принесли недавно изданные книги Достоевского, классик мгновенно перестал их интересовать. Да это и не было для них главным. А главным был явно продуманный, очень ловкий, “следовательский” вопрос:
– Господин Зощенко! В постановлении сказано, что вы специализировались на безыдейности, аполитичности, рассчитанных на то, чтобы отравить сознание молодежи; что вы – автор антисоветского пасквиля и изображаете жизнь с жульнических позиций. Неужели вы согласны с этим?
И Зощенко прорвало! Потеряв обычное, сохраняемое даже в трудных ситуациях спокойствие, постепенно повышая голос, он проговорил – нет, прокричал, – что всегда считал себя советским человеком, что он сражался за советскую власть, что его книги… Но вместо сочувствия и боли на лицах своих английских собеседников он увидел непонятное ликование. И смолк.
Тогда “студенты” обратились к Анне Андреевне Ахматовой. Они спросили, как она относится к постановлению, считает ли его формулировки справедливыми, верными и пр. (напомню, что в постановлении 1946 года об Ахматовой говорилось, как о «типичной представительнице чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии и т.п.»).
Но Анна Андреевна уже поняла, что происходит. И с “царственностью” (это слово, несвойственное их лексике, повторили присутствующие на встрече и Орлов, и Дымшиц) она сказала, равнодушно оглядев англичан:
– Мои отношения с моим правительством касаются меня и моего правительства. Посторонним здесь делать нечего!
“Студенты” замолкли.
Услышав ответ Ахматовой, Зощенко сказал соседу:
– Я же был первым и не успел ничего сообразить!
Ответ Зощенко, поданный как “расслоение советской интеллигенции”, вызвал раздражение “на самом верху”: “Его простили – а он опять!”».
И последовали роковые для Зощенко события. Довольно подробно об этом рассказал Даниил Гранин, участник тех событий, сумевший через многие годы разыскать стенограмму того собрания, где опять «разбирали» Зощенко. И благодаря ему мы можем увидеть тот страшный день (Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник):
«Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в Ленинграде, изредка бывал в Доме писателя, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Словно чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились, на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Я тоже испытывал чувство вины. Потом, когда мы познакомились, он, с присущей ему деликатностью, старался снять это чувство. Но оно все равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни.
Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зощенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.
Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то… Это запомнить невозможно, так же невозможно было ничего запомнить из доклада В. Друзина. Хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.
Доклад и прения, и все прочее было увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы Константин Симонов и Аркадий Первенцев. До этого в газетах заклеймили поведение Зощенко перед иностранными, разумеется буржуазными, сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.
Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали пребывать сотни тысяч, а может, и больше отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. Никто не знал, что История готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали эренбурговскую “Оттепель”, но сразу же на нее накинулись стражи вечной мерзлоты.
Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так отстоял до конца у стенки».
Гранин был в том зале… А я в 1954-м учился в седьмом классе, уже активно читал, причем вовсе не обязательно школьную литературу, помню, хохоча, прочел подсунутый мне другом-хулиганом растрепанный том «Похождений бравого солдата Швейка», потом он же дал мне такого же потертого Мопассана. Зощенко, до того момента, как его обругала на уроке наша учительница, был неизвестен мне. Его «заломали». Но он снова поднялся! И произошло это так… Вот – продолжение воспоминаний Гранина:
«Докладчик бубнил про то, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.
Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли, лишь когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины: прежде всего по “Оттепели” Эренбурга прошлись ритуально, затем шли местные нарушители – предупредил Веру Панову за то, что с романом “Времена года” она “пошла не туда”, Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же – главный редактор журнала “Звезда”, уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград” 1946 года».
Этот зал с белыми купидонами под потолком, в котором я впервые появился уже в 1960-х, успел впитать много зла… И в конце концов, будто от накопленной под его сводами злобы, вдруг вспыхнул и сгорел. Но – вернемся в 1954-й. Гранин вспоминает:
«Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут… Но уж больно круто ругали, злобились не по резону: “беспринципный, бессовестный хулиган” – это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно… как будто в самую последнюю минуту заменили на “блудница”. Принял бы и это, если бы не Жданов. Со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его в нашей армии не видали.
Винили в той газете и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин…
Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь-то я несогласно переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучили, мордовали, так нет, зачем-то опять влез в эту историю… Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел секретарем ЦК Н.С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять зажмут, опять поднимут на борьбу… Кто-то паниковал – какого черта он вылез, не надо было провоцировать, это только на руку сталинистам… Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом, в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства – что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте…
Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае, на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Так и сказал. Это ахнуло, как взрыв: не согласен – всполошило, посыпалось, затрещало… Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, “на руку классовому врагу”. Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало “классовой борьбой в открытой форме”.
Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.
– И никому другому не аплодировали! – уличающе провозгласил он.
То, что Зощенко не согласен, и на меня произвело впечатление ошарашивающее – как так, сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!
Доклад Друзина если и запомнился, то исключительно оттого, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то – запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил ни доклада, ни самого Друзина на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами – никто не мог назвать. Я в те годы не понимал – почему же командовать журналом “Звезда” поставили такого человека, почему он поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?
В нужных местах зал аплодировал, в нужных – возмущался. Собрание двигалось слаженно, согласованно, предусмотренно… Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация “здоровая”, “правильно расценивает”. Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание “даст отпор”. Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.
После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: “пособник наших врагов”, “подобно буржуазным писакам”, “холуйское поведение на потребу”, “потерял достоинство советского человека”. Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с холодной жестокостью».
Спрашивается, куда делись все друзья Зощенко, те же «серапионы», многие ставшие уже «советскими авторитетами»? Заняты творчеством, не могут «нарушить процесс»? Почему всегда вылезают никому не известные, закомплексованные, ничего не сделавшие, зато имеющие массу свободного времени и злобной энергии, желающие отомстить тем, кто заметен? А где – лучшие? Посмотрим у Гранина:
«Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В.А. Кочетов. Он посовещался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.
Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.
Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, “справный”, как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы “Серапионовых братьев”, была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.
Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.
Зощенко оглядел ряды, лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.
– Очень трудно говорить в моем положении. – Голос его оказался тонким, ломким.
Стало ясно: что бы он ни сказал, все будет не так, – “неискреннее покаяние”, “вынужден признать”, “разоблаченный в двурушничестве” обязательно как-то его сформулируют.
– …Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?
А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали “сам Симонов” и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, не важно, меры приняты, можно доложить.
– …Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.
То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность – это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думает, – этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.
– …Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.
Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.
– …В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе – именно о том, что я не советский писатель. – И опять повторил четко: – Не могу согласиться!
– Зачем подчеркивать несогласие? – прошептал кто-то рядом. – Напрасно он…
– …Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления, – о ленинградских партизанах…
Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.
– …Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.
Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что имело продолжение.
– …Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.
Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу…








