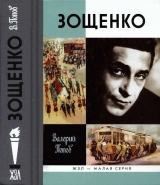
Текст книги "Зощенко"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
ЗОЩЕНКО В 1937-м
И вот наступил «незабываемый 1937-й». 20 марта 1937 года Сталин выступил на пленуме ЦК ВКП(б) с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Репрессии приобрели невиданный прежде размах. Дворники обязаны были закрашивать фамилии репрессированных на доске со списком жильцов – и оставшиеся нетронутыми с ужасом видели на доске все больше таких «белых пятен». Один мой друг вспоминал, как профком завода поощрил его отца за работу и постановил – выдать шкаф. Их привели в квартиру, где была мебель, но не было людей, и сказали: «Выбирайте!» Нужного шкафа там не оказалось, и их провели в соседнюю квартиру – тоже без людей. Друг мой был тогда еще ребенком, но вдруг почувствовал, что ему страшно.
Все уже знали о массовых репрессиях, жили в страхе. Людей заставляли выходить на митинги на их предприятиях, где выступавшие требовали казни «двурушникам и предателям».
И конечно, должен был прозвучать и «голос писателей». И он прозвучал. Вот ветхий номер «Литературной газеты» за 15 июня 1937 года. Сначала – общее их обращение:
«НЕТ ПОЩАДЫ ШПИОНАМ!
Советские писатели, вместе со всем великим советским народом, одобряют расстрел фашистских шпионов, предателей Родины…»
Но это еще полдела! Далее шли персональные высказывания. Приведу лишь заголовки.
Ал. Толстой
СОРВАТЬ ПЛАНЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!
Н. Тихонов
ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЗЛОБОЙ
К. Федин
АГЕНТЫ МИРОВОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Ю. Олеша
ФАШИСТЫ ПЕРЕД СУДОМ НАРОДА
A. Новиков-Прибой
ПРЕЗРЕНИЕ НАСЛЕДНИКАМ ФАШИЗМА
B. Вишневский
К СТЕНКЕ!
И. Бабель
ЛОЖЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Л. Леонов
ТЕРРАРИУМ
М. Шагинян
ЧУДОВИЩНЫЕ УБЛЮДКИ
В. Шкловский
ЭПИЛОГ
Б. Лавренев
ИХ СУДИТ ВСЯ СТРАНА
А. Платонов
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЛОДЕЙСТВА
Среди осуждающих, требующих казни – лучшие имена! В этом «параде» Михаила Зощенко нет. Но 25 января 1937 года он выступает вместе с другими на собрании в ленинградском Доме писателя с осуждением «изменников» в связи с процессом над Пятаковым и Радеком. Еще недавно Радек выступал на съезде писателей, блистал красноречием, и – надо же! – оказался врагом!
Повышения бдительности требуют от всех. Теперь «враждебным» могут объявить то, что прежде считалось безобидным. Еще в книге «Письма к писателю» Зощенко публиковал свой ответ игривым студенткам, которые капризно требовали прислать им рассказы, не пропущенные цензурой, и сообщал, что цензура никогда не имела к нему претензий и все пропускала, а уж он в ответ «вел себя добропорядочно и не писал рассказы, которые могли бы не пойти». Но в 1937 году из переиздания «Сентиментальных повестей» цензура выкинула повесть «Люди», много раз уже напечатанную, и сделала вымарки в книге на тридцати страницах. Значит – ага! – все-таки писал нехорошее!
«Теперь так будет всегда! – дают понять писателям. – Бойтесь!»
При этом в 1937 году широко и помпезно отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, погубленного, как считалось тогда, придворной кликой. Проходили торжественные собрания, устраивались концерты по его произведениям, издавались роскошные собрания сочинений. Я храню дома замечательно изданный в 1937 году серовато-глянцевый трехтомник Пушкина, с его выпуклым барельефом на обложке, с прелестными старинными иллюстрациями. Власть демонстрировала: в стране все хорошо, Пушкин с нами!
Хоть какая-то «отдушина» все же была! В том же январе Зощенко публикует ответ на «Анкету о Пушкине» в журнале «Литературный современник». Специально к столетнему юбилею Пушкина пишет стилизованную под Пушкина «шестую повесть Белкина» – «Талисман». Уж лучше это писать, чем подписывать коллективные письма! Наверное, как и многие, Зощенко решил продолжать прежнюю жизнь, делать свое дело – и будь что будет.
В мае 1937-го в весьма престижном издательстве «Художественная литература» выходит его книга «Рассказы» тиражом в 100 тысяч экземпляров!
Но Зощенко – подстраховывается. 17 мая в газете «Ленинградская правда» Зощенко публикует сразу четыре письма Горького к нему. А ну-ка троньте, попробуйте, друга Горького! Впрочем – он так предусмотрителен не всегда. Пишет и печатает статью «О стихах Заболоцкого», хотя Заболоцкий находился под угрозой (и вскоре был арестован), другие боялись о нем писать.
Тридцать седьмой год – столетняя годовщина памяти Пушкина и юбилей революции. И этот юбилейный год не случайно стал самым «людоедским» – к юбилею требовалось показать всем, что «революция продолжается». Писатели обязаны были «откликнуться». Зощенко откликнулся довольно поверхностной вещью «Бесславный конец» – о 1917 годе и Керенском, – написанной усредненным, банальным языком… «Отделался»!
В ноябре напечатана очередная книга Зощенко «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны», тираж 20 тысяч. Зощенко публикуется в журналах «Крокодил», «Звезда», в «Ленинградской правде» и «Красной газете». Выходят рассказы «Веселая игра», «Шумел камыш», «В пушкинские дни» – «зощенковское издевательство» по поводу помпезного поклонения Пушкину с идеологическим привкусом, а простому человеку это – «боком выходит». И, несмотря на угрозы, Зощенко по-прежнему печатается «у врагов» – в 1937 году в буржуазной Риге выходят его книги «Бедная Лиза» и «Не все то золото, что блестит!».
В августе арестован брат Веры Владимировны, который когда-то служил в Белой армии, а также супруга брата. Зощенко уже однажды вступался за них, когда их арестовывали. Тогда – помогло.
Арестован ближайший друг Зощенко, В. Стенич. За него Зощенко вступится, когда, как ему покажется, появится шанс, не зная о том, что Стенич после суда был почти сразу расстрелян. Он пытается делать все возможное, и в обстановке тех лет – это наилучшая характеристика!
В «Хронологической канве жизни и творчества М.М. Зощенко», составленной замечательным исследователем Ю. Томашевским, значится: «Август 1937. После ареста близких знакомых – мужа и жены Авдашевых – М.М. Зощенко и В.В. Зощенко берут в семью их шестнадцатилетнего сына, отправляют посылки и деньги двум их несовершеннолетним дочерям, помещенным в детдом для детей “врагов народа”».
Что это за Авдашевы? Фамилия мучительно знакомая, но что их связывало с семьей Зощенко? Из многочисленных воспоминаний о Михаиле Зощенко возьмем воспоминания Авдашевой, дочери репрессированных:
«Мой отец был секретарь Петроградского райкома партии. Хоть была и мала, я замечала интерес к нему Михаила Михайловича. И уважение. Видимо, отец был из тех партийцев, с которыми он связывал надежды на будущую лучшую жизнь. И вот в 1936 году нашу семью постигло несчастье: отца арестовали. Брат и я с сестренкой были в полной растерянности, мать в отчаянии.
Михаил Михайлович пригласил маму к себе, говорил, что это ошибка, недоразумение, что вскоре все должно разъясниться и отец вернется домой. В общем, всячески ее ободрял. Мама вспоминала потом, что он очень волновался, не знал, как успокоить. Принес из своего кабинета банку с вареньем, поставил перед ней чашку чая. Сказал, что чай с вареньем хорошо влияет на нервные перегрузки…
В августе 1937 года арестовали мать. Наша жизнь окончательно перевернулась. Меня и сестренку как несовершеннолетних детей “врагов народа” отправили в детский дом, притом не в один – разлучили: меня в Судогду, ее в Вычугу. Володя (ему было шестнадцать лет) остался один. И тогда Михаил Михайлович и Вера Владимировна взяли его к себе, в свою семью. И это был не просто, как говорят сегодня, акт милосердия. По тем временам это был мужественный поступок. Хоть Сталин и говорил, что сын за отца не отвечает, но то была ложь. Сыновья отвечали, да еще как! Дети “врагов народа” – они тоже были “враги”. И вот семья Зощенко не побоялась “пригреть” врага. А нам, его сестрам, посылались посылки, деньги, не проходило месяца, чтобы мы не получали от Веры Владимировны письма…
В августе 1939 года я наконец отбыла свой срок в детском доме и вернулась в Ленинград. Мне было пятнадцать лет. Надо было думать, что делать, где и как жить. И опять эти добрые люди не остались в стороне. Ими только что была куплена в Сестрорецке дача, и они пригласили меня там жить. Дача была совсем новой. Вход на второй этаж, где находился кабинет Михаила Михайловича и маленькая комнатка Веры Владимировны, был в то время еще снаружи. С маленького балкона открывался неповторимо прекрасный вид на залив. Голубое небо сливалось с морем, а внизу, за калиткой, бежала тропинка между молодыми, только что посаженными деревьями… Как будто я все это видела только вчера – так ясно остались в памяти первые минуты.
На день я получала на завтрак пять рублей и шла по своим делам, а к обеду садилась за общий стол. Михаила Михайловича я запомнила как человека тихого, незаметного для окружающих. А дом был, надо сказать, шумный. На половине Веры Владимировны – частые гости, чаепития, громкие разговоры, игры. Наверное, Михаилу Михайловичу все это мешало, но я не помню, чтобы он открыто выражал по этому поводу свое неудовольствие.
Помню, на масленицу Вера Владимировна пригласила родственников, друзей и знакомых. Много было народу. Все знали, что Михаил Михайлович здесь, на даче, и ждали его к столу. Сели, но за еду не принимались. И вот он появился в столовой. Быстро прошел к своему месту, улыбаясь, поздоровался со всеми.
Гости следили буквально за каждым его движением, смотрели в рот, заранее приготовившись смеяться, услышав от него какую-нибудь шутку или остроту. А он, ни на кого не глядя, как-то смущенно, застенчиво чуть-чуть покопался в еде, потом вдруг быстро положил на тарелку кое-что из закуски и торопливо вышел. Весь его вид говорил, что он не хочет мешать людям, приготовившимся к шумному веселью».
Да – таков был Зощенко… Но самое поразительное в этой истории – фамилия пострадавших. Авдашев, секретарь Петроградского райкома партии, – это же возлюбленный тогда еще молодой Веры Владимировны, которому она, не совладав с чувствами, отдалась непосредственно в квартире, где находился и Зощенко… И вот теперь, в минуту беды, Зощенко заставил себя стать выше этого – и взял в семью сына Авдашевых после ареста родителей. Помогал и девочкам, оказавшимся в детском доме. Такая выдержка, такое благородство встречаются редко. Зощенко – каким был, таким и остался: дворянин, офицер.
Всех он спасти не мог, но старался помочь хотя бы близким. Сохранял обязательства перед женщинами, с которыми прежде был связан, и даже уже расставшись с ними, выручал, как мог. Прелестной художнице Нине Лекаренко-Носкович, с которой они познакомились еще в «Бегемоте», писал в 1937 году:
«Здравствуй, Ниночка!
Недавно звонил Вам – хотел узнать, как Вы живете, но мне сказали, что этот номер телефона 562–63 – принадлежит другим. Вероятно, у Вас теперь другой телефон? Как-нибудь позвоните, душенька. Я чертовски болел эту зиму. Теперь я несколько лучше, но все еще не всегда. Грешно Вам забывать старых друзей – не звонили, я думаю, месяца два.
Привет и лучшие пожелания!
Мих. Зощенко.
Поздравляю Вас с днем 1 мая.
1.5.37».
Дочь Нины Лекаренко показала мне это письмо, достав из красивого старинного «бювара», как драгоценность. Особенное внимание она просила обратить на дату – 1 мая 1937 года. Уже был арестован муж Нины, и вскоре, как тогда водилось, арестовали ее. Об аресте мужа Зощенко знал и ясно представлял последующие события и опасности – но тем не менее письмо написал и послал. Нина это письмо – не только знаменитого, но и отважного ее поклонника – особенно ценила. «Не побоялся!» – несколько раз повторила в разговоре со мной дочь Нины Лекаренко, тоже Нина.
Не зря Зощенко так любили женщины!
ПЕДАНТ И ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН
«Такой интересный красавец, тоняга, одевается. Такой вообще педант и любимец женщин… И при этом имеет имя – Лютик». В этом герое рассказа Зощенко можно узнать самого автора. Зощенко не раз «делал автопортреты», в основном иронические. Не зря Чумандрин так волновался за него: на «пролетарского писателя» Зощенко не походил. Будучи «монахом» в семье, живя почти в аскетической келье, «на выход» он всегда одевался тщательно. Даже в годы бедности военный френч сидел на нем элегантно. А потом пошли неплохие гонорары. Вера Владимировна вспоминает: «Михаил… зашел ко мне – купил себе черный заграничный костюм, очень доволен – он всегда, как ребенок, радовался обновкам…»
Щегольство помогало ему быть в форме, чувствовать себя сильным и успешным. Ему было перед кем покрасоваться. В двадцатые и тридцатые годы он был в моде, и где бы он ни появлялся – все взгляды, особенно женские, сразу обращались к нему. Он получал уйму писем и записочек, вроде этой:
«Дорогой товарищ Мими!
…Дело в том что мы в вас по уши втрескались (т. е. в ваши произведения). Будущие повара Рая и Тамара».
Может быть, действительно Рая и Тамара зачитывались его произведениями – но скорее всего просто влюбились в «суперзвезду»: на обложках ранних своих книг Зощенко выглядит этаким жестоким красавцем, героем немого кино. Пушкинскую фразу об Онегине «Как dandy лондонский одет…» – можно отнести и к Зощенко. Исследователи не раз отмечали влияние «дендизма» не только в его облике, но и в его творчестве. Казалось бы – герои самые примитивные. Но!.. Изучая «дендистскую» литературу, находим в Зощенко самые неоспоримые признаки денди: независимость, непременную хандру, склонность к ироническим мистификациям (вспомним хотя бы несколько раз измененные им дату и место своего рождения). Явно снобистскую, декадентскую формулу положил Зощенко и в основу своей жизни, о чем написал в «Возвращенной молодости»: «…основное руководство над своим телом, несомненно, заключается в умении создавать правильные привычки и неуклонно им следовать». Свой «идеал жизни» отпечатал и в своей самой откровенной книге – «Перед восходом солнца»: «Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего я почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист». Как пишет исследователь жизни и творчества Михаила Зощенко А.С. Семенова: «…и хандра, и период доблестной военной службы, и рыцарская, и донжуанская темы, и изгнание, и падение после стремительного взлета – традиционные элементы биографии денди».
Вспомним красавца Байрона! Приходит на ум и блистательный Оскар Уайльд. Зощенко копирует и его внешность, и парадоксальность высказываний: «Боязнь казаться смешным – смешна»; «Только новое никогда не может быть пошлым»; «Красивое никогда не бывает смешным». И – самое смелое его высказывание (о себе): «В мир пришел величайший гений. Внешность – Уайльд». Из других советских писателей к «денди» отнести можно К. Вагинова и М. Булгакова. Безусловным «денди» был ближайший друг Зощенко – В. Стенич. И это дорого им обошлось, как и Зощенко. Порой власть предержащих даже сильнее раздражал сам стиль жизни, нежели творчество. Зощенко был «чужой»! А образ нормального советского писателя был иной. И даже недостатки – иные, свои. Часто «своих» определяли именно по недостаткам… «Наш!»
Известно, что когда в 1936-м нависла опасность над авторами замечательной книги «Республика Шкид» Л. Пантелеевым и Г. Белых (книгу, после выхода в 1927-м, начала ругать еще Крупская за непедагогичность), то Белых вскоре посадили, а Пантелеева, по свидетельству современников, неожиданно спасло то, что он в то время сильно пил… Пьет – значит, наш, пролетарский (хотя был Л. Пантелеев родом из дворян, в 1918-м оказавшийся беспризорником).
А вот Зощенко с его «старомодной учтивостью», имеющий при этом вполне сегодняшние успехи у дам, явно раздражал и начальство, и основную писательскую массу.
Зощенко предпочитал «бомонд».
Одна из знакомых Зощенко, Т. Иванова, вспоминает:
«Познакомилась я с ним в 1926 году в Ленинграде, на каком-то семейном торжестве у Леонида Утесова, куда привел меня Исаак Эммануилович Бабель, с которым я тогда дружила.
За столом Михал Михалыч оказался моим соседом и сразу пленил своей изысканной вежливостью и скромностью, доходящей до застенчивости.
В то время он был уже очень знаменит. Люди узнавали его на улице и в общественном транспорте. А когда я стала говорить ему, какое большое впечатление производят на меня его рассказы, он засмущался, как начинающий подросток…
…За все время многолетнего знакомства я не могу вспомнить ни одного поступка Михал Михалыча, бросающего хоть бы малейшую тень на тот изысканный его образ, который живет в моей памяти».
Зощенко вел себя и говорил безукоризненно. И, как верно заметили его исследователи, именно владение правильной речью помогало ему так виртуозно создавать «словесные вывихи» и – контролировать их, управляться с ними.
На первый взгляд образ денди, как мы себе его представляем, не соотносится с темными и бескультурными героями Зощенко. Ан нет. Настоящий, а не притворный денди всегда прост. Самый известный денди русской литературы – Пушкин – написал замечательную фразу: «Первый признак ума есть просторечие». И Пушкин издевался над «охранителями высокого штиля», охотно пускался в просторечие: «Намедни… на скотный двор… Тьфу, прозаические бредни, голландской школы пестрый сор!» И Пушкина, как и Зощенко, не раз упрекали в нарушении канонического литературного языка. Но они создали новый язык – свободный, народный… Это только приказчики, изображающие бомонд, говорят изысканно и «культурно», как они это себе представляют. А высший свет – прост. Пушкинские корни писателя Зощенко очевидны: не случайно он написал «Шестую повесть Белкина» – «Талисман». Есть сходство в жизни и творчестве Михаила Зощенко и с другим знаменитым «денди» русской литературы – Лермонтовым: бесстрашие на войне, ироническое отношение к окружающим и даже склонность к дуэлям. Известны две намечавшиеся дуэли в жизни Зощенко, к счастью, несостоявшиеся – с правоведом К. и «серапионом» Кавериным.
Несомненно, однако, и сходство Зощенко с другим гигантом русской литературы – Гоголем: малороссийское происхождение, меланхолия… Не случайно Ольга Форш выводит его в романе «Сумасшедший корабль» под псевдонимом Гоголенко. Можно сказать, что у Зощенко прослеживаются две линии. Для «денди», подобных Пушкину и Лермонтову, свойственно создание образов «лишних людей» (Онегин, Печорин), а для Гоголя и Зощенко характерны «маленькие люди» – Акакий Акакиевич и персонажи зощенковских рассказов. Однако в «Сентиментальных повестях» и последующих у Зощенко появляются портреты «лишних людей»: прапорщик, ставший ретушером, – Володин, бывший денди, ставший нищим, – Мишель Синягин. Это – пророческие «автопортреты» Зощенко, сублимация его тревог – к сожалению, сбывшихся: ему, в конце концов, после десятилетий успеха пришлось зарабатывать на жизнь вырезанием стелек.
Ну а пока… Зощенко, конечно, не Лютик – но производить роскошное впечатление на молодых неискушенных красавиц умел и любил. В нем, несомненно, было что-то магическое. Вот признание одной из поклонниц:
«Во внешности Михаила Зощенко и манере себя держать было что-то такое, что сводило с ума многих женщин. Он не был похож на роковых кинокрасавцев, но его лицо, по словам знакомых, было освещено экзотическим закатом – писатель уверял, что ведет свое происхождение от итальянского зодчего, работавшего в России и на Украине… его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Маленький рот с белыми ровными зубами, темно-карие задумчивые глаза. Маленькие руки. Волосы расчесаны на безукоризненный пробор. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Передвигался он неторопливо и осторожно, точно боясь расплескать себя. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие и даже вызов».
А вот воспоминания уже упоминавшейся Нины Лекаренко-Носкович, в пору их встречи начинающей художницы:
«Красивое смуглое лицо, темные глаза с поволокой… Невысокий и очень изящный человек. Все в нем вызывало во мне чувство уважения и восхищения. Он был всегда хорошо одет. В его одежде не было вызывающего щегольства, ничего не выглядело с иголочки, даже галстук, но все было очень хорошо сшито и прекрасно смотрелось…
Познакомились мы, когда мне было восемнадцать лет. Я училась на графическом факультете Академии художеств, на отделении газеты, журнала и детской книги. На втором курсе меня направили на практику в редакцию “Бегемота”… Меня пригласили на обсуждение очередного номера журнала, где решалось художественное оформление и подписи к рисункам. Из литераторов присутствовали А. Флит и Михаил Михайлович Зощенко. Зощенко сидел на одном из редакционных столов, положив ногу на ногу.
С этого собрания Михаил Михайлович пошел меня провожать, и так началась наша семилетняя дружба, прервавшаяся трагическим поворотом моей судьбы и никак не заслуженной бедой Зощенко.
С концом моей практики журнал “Бегемот” закрылся… Но дружба моя с Михаилом Михайловичем не кончилась.
Я думаю, ему было забавно и интересно знакомить меня, еще почти девочку, с недоступными и неизвестными мне ранее очень приятными сторонами жизни. Михаил Михайлович был первым мужчиной, пригласившим меня в “Асторию” поужинать.
Помню, мы угощались котлетками “минути”. Такого теперь не бывает. Это были котлеты из рябчиков, из каждой торчала рябчиковая ножка с коготками. Было ли вино, не помню. Два молодых негра в белых атласных костюмах с пестрыми поясами плясали между столиками в ярких лучах прожекторов. Очень был запоминающийся вечер. Как можно в восемнадцать лет не восхищаться такими радостями и тем, кто их доставляет? А доставлявший радости был на редкость добр и мягок в обращении – я не помню в его поведении ни одного “фо па” <от фр. faux pas – оплошность, неловкость>, ничего похожего на малейшую бестактность, ничего, в чем был бы хоть малый оттенок грубости. И тем не менее это был чисто мужской и мужественный характер…
У меня сохранилось несколько писем, написанных Михаилом Михайловичем в тяжкие периоды неврастении, когда ему никого не хотелось видеть и ни с кем общаться.
Привожу характерные цитаты.
Лето 1929 года:
“Нахожусь в некоторой меланхолии, а потому не позвонил, как собирался.
Не браните нас, дорогая душечка, – мы и сами не рады, что снова нас посетила хандра…
Просьба не забыть нас в нашей немощной старости”.
Из другого письма, 1931 года:
“Я было согласился на свой вечер в Политехническом институте (Москва), но в последний момент струсил и отказался.
Не то чтобы струсил, но уж очень не люблю на публику выходить, смотреть будут, а я мрачноватый, и вообще нехорошо как-то”.
12 января 1931 года:
“Я много работал это время и по этой причине очень похудел, пожелтел и подурнел”.
Надо сказать, что, выбравшись из очередного нервного спада, Михаил Михайлович очень хотел выглядеть получше и свежее, запудривал усилившуюся на лице желтизну и чуть-чуть подкрашивал губы…
Если кто-то Михаилу Михайловичу не нравился, он говорил: “Я не могу видеть вокруг себя этого человека”. Но если кто-то был ему мил, он был всегда очень приветлив и, мне думается, боялся обидеть небрежением».
Кроме писем, написанных Михаилом Зощенко Нине Лекаренко-Носкович в моменты депрессии и опубликованных, есть еще несколько писем неопубликованных. Дочь Лекаренко-Носкович, Нина Романовна Либерман, не хочет их публиковать, разрешила в них только заглянуть. Да – письма сугубо личные, весьма эмоциональные. Нина Романовна разрешила лишь подробно рассказать о письме Зощенко ее маме от 1 мая 1937 года – оно приведено выше. И это письмо хранится в этой семье с особенной гордостью, как самая ценная реликвия!
Горюя о том, что неизданные письма Зощенко так и остались в красивом «бюваре», я тем не менее уходил из этого дома вдохновленный: дом этот хранит память прошедших лет – на стенах работы знаменитого художника Рудакова, портрет юной Лекаренко, книга Зощенко с дарственной надписью… Есть в нашем городе такие дома, где память о Зощенко, о той эпохе еще жива.
И есть немало сведений о его «романах». Отношения с Лекаренко-Носкович приобрели серьезный характер, а в конце даже и драматический. Но вообще Зощенко предпочитал более легкие отношения. Своих амурных увлечений он почти не скрывал. Свидетели вспоминают о многочисленных коротких, «офицерских» романах Зощенко. Видимо, в слове «офицерский» содержится некоторое суперменство: непродолжительность, внезапный разрыв – труба, мол, зовет в поход! Юрий Карлович Олеша, друг Зощенко, тоже большой «бонвиван» в молодости, любил приезжать в Ленинград, останавливаться в шикарной «Европейской», и начиналась их «красивая жизнь». Одна из участниц тех встреч вспоминает, как она и Олеша ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша сказал: «А вот идет Зощенко на его кроватных ножках… только не говорите это ему!» Гении резвились. Было время, когда и денег было полно, и поклонницы не давали проходу.
Одной из наиболее известных «пассий» Зощенко (их отношения тщательно изучены и продокументированы) была совсем юная, восемнадцатилетняя Оленька Шепелева. Второкурсница строительного техникума. Уже замужем была – и вдруг увлеклась чтением, а затем – Зощенко. Она сохранила письма Зощенко к ней – и автор в них смотрится шикарно.
Вот он пишет о возможной их встрече во время ее командировки в город Николаев: «Я бы тебя провожал на работу, и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка!»
Просит ласки: «…а то мне без ласковых слов невозможно жить. И я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный».
И вдруг: «…а что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению, так наверно и проживу, как всегда жил».
В общем – жестокий красавец! И вдруг подписывает: «Ваш дряхлый друг Михаил».
Вот еще воспоминание о Зощенко, записанное со слов Евгении Хин, ехавшей с ним одним поездом в Коктебель в мае 1938 года (из статьи И.А. Свириденко «Крым в судьбе и творчестве Зощенко»):
«…Она заметила Зощенко еще на вокзале. Он был в сопровождении молодой спутницы, “звонко болтавшей рядом”, был учтив, но отстранен. Как будто погружен в свой внутренний монолог. (В связи с этим вспоминается отрывок из его биографической повести “Перед восходом солнца”: “К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку”.)…»
Да, картинка, безусловно, эффектная. Но это еще не все. Хин вспоминает: «…пара прощалась перед моим окном. Вдруг, к моему удивлению, женщина поцеловала руку своему спутнику, а затем стала целовать другую – и еще, и еще! И он, мягко и снисходительно улыбаясь, тоже прикоснулся губами к ее руке».
Да-а. Сказать, что Зощенко так уж «морально раздавлен» нападками врагов, нельзя… Человек цену себе знает! И «лучшая из оценщиц» – молодая поклонница! Зощенко можно понять: должен же он хоть как-то отпраздновать свой феноменальный успех – не все же время оправдываться перед партийцами!
«…сопоставляя даты и факты, – пишет исследователь, – можно предположить, что той женщиной была Ольга Шепелева». Той, что целовала его руки. В 1994 году опубликованы письма Зощенко Ольге Шепелевой, в том числе и его письма из той поездки в Коктебель. Из этих писем следует, что Зощенко раньше уже бывал с Ольгой Шепелевой в Коктебеле – и только вот теперь, увы, не сложилось: «В первый день поглядел в ваше окошечко, где вы жили…»
Обращение на «вы» с близкими людьми – это стиль Зощенко, «светский», но слегка снисходительный, высокомерно-отстраненный…
Главные удовольствия в Коктебеле он получал, по воспоминаниям Хин, «от литературных игр и танцев лунной ночью под патефон и шум моря».
Однако в письме своей возлюбленной Ольге он все рисует иначе: «Вечерами уж очень нечего делать. Тут, правда, танцуют под патефон в столовой. Но более трех пар не бывает. И партнерши жутковатые…» Скучает, стало быть!
Уже давно Зощенко нет – а каждый его шаг скрупулезно исследуют. Несчастная судьба? Или, наоборот, счастливая? Надо сказать, что абсолютно все поклонницы Зощенко оставили о нем воспоминания самые восторженные. Та же Евгения Хин пишет: «…очаровательный собеседник, огромная эрудиция которого облекалась в столь изящную форму, что не только не задевала никого, но наоборот – возвышала. Трудно себе представить кого-то еще, перед кем легче было бы исповедаться, открыть свое самое заветное и трудное…»
…В этом женщинам Зощенко помогал. А женщины помогали жить ему, вытаскивали его из депрессий. Постоянно окруженный юными красавицами, «моралистов» он, безусловно, раздражал и славой, и «моральным обликом».
Во все свои частые приезды в Коктебель Зощенко проявлял постоянство: жил в одном и том же отдаленном домике, в комнате № 10, в столовой сидел за одним и тем же столом, куда к нему никого не подсаживали. Но, несмотря на отстраненность, он сразу же стал «лидером кружка» (по свидетельству Е. Хин).
Когда ему показалось, что Дом творчества в Коктебеле выглядит неприглядно, он написал письмо, как помним, – «серапиону» Всеволоду Иванову, который в то время возглавлял Литературный фонд. И дружески попросил его выделить деньги, причем немалые, на ремонт коктебельского Дома творчества. И деньги были выделены. И Дом отремонтирован. Зощенко отнюдь не был беспомощен, силу свою он знал и умел ею воспользоваться.
В сентябре 1938-го он снова выезжает на отдых в Коктебель – и снова, по свидетельствам очевидцев, пользуется вниманием «муз». И правильно! Не все же время о неприятностях думать.
Он не чувствовал себя «морально скованным» – о его романах можно написать целую книгу. Правда, в его отношениях с женщинами все больше проявляется некоторая холодность, и даже – легкое осуждение. Вот воспоминание С. Гитович:
«Михаил Михайлович беззвучно смеялся.
– А вот хотите, – сказал он, – я вам расскажу о женской лжи? Когда-то у меня была возлюбленная, имевшая мужа-ревнивца, который старался ее не отпускать никуда ни на шаг. Несмотря на это, она ухитрялась со мной встречаться, придумывая различные уловки. Так, однажды она сказала дома, что у нее уезжает подруга, которую она должна проводить на вокзал, а сама пришла ко мне.
И вот, сидя в рубашечке на краешке стола, она звонит мужу и сладким голосом говорит, что только что отошел поезд и она скоро будет дома. “Но поезд отходит в десять часов пять минут, а уже одиннадцать”, – резонно замечает муж. “Не знаю, как по твоим, – запальчиво говорит она, – но по вокзальным десять”».
Присущие ему скепсис и меланхолия порой отравляют чувства. И – Зощенко не был бы собой, если бы не изобразил свои «терзания» в самом ироническом стиле:
«Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.
Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.
Мужчины – те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.








