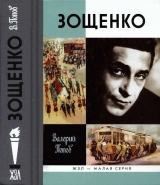
Текст книги "Зощенко"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
ДЕЗЕРТИР
«Ход истории» не обещает спокойной жизни. В 1939 году начинаются военные действия – Гитлер готовит захват Европы, 1 сентября немецкие войска вторгаются в Польшу. И наши войска 17 сентября выступают навстречу им, расширяют наши границы, присоединяют Западную Белоруссию и Западную Украину. И конечно же, литература, боевой отряд партии, должна поддержать действия государства. На обложке журнала «Ленинград» – усатый белорус в вышитой рубашке обнимается с русским воином-освободителем в каске и с винтовкой в руке. Под картинкой – стихи.
Мы вас в неволе не забыли,
И к вам, униженным в тоске,
В тяжелый час мы дверь открыли…
Главная, передовая статья на первой странице, написанная Михаилом Слонимским, одним из братьев-«серапионов» (которые когда-то провозглашали независимость от политики), называется «Книга жизни». Посвящена она «Краткому курсу истории ВКП(б)», который «ориентирует в жизни и борьбе». И пример этой «ориентации» – правильная позиция советских людей в любых ситуациях, которые вот и сейчас «с огромным воодушевлением узнали… о решении правительства нашего прийти на помощь братским народам Западной Украины и Белоруссии». Да – год был непростой, требующий «подъема духа всего народа», и не последняя роль тут отводилась писателям.
На четвертой странице – отрывок из повести нашего давнего знакомого Чумандрина «Друзья из нового Тарга», о том, как двух парней, поляка и украинца, упекли в тюрьму за то, что они вступили в драку, защищая односельчанина. Действие происходит еще до семнадцатого года – в камере они встречают «пана», который вдруг «весело рассмеялся, и вокруг его глаз разбежались тысячи мельчайших морщинок». И этот «пан» оказывается не кем иным, как Лениным, посаженным в польскую тюрьму в августе 1914-го по «нелепому обвинению» в шпионаже. И уже тогда он объяснил крестьянам, как надо им жить, освобождаться от гнета… Так сказать, «вправил им мозги»! И вот в 1939-м русские их освободили! Вот такой отрывок. Писатели работали, не зря ели хлеб. И у Зощенко в самом конце 1939-го в Детиздате выходят «Рассказы о Ленине» с иллюстрациями великолепного художника Тырсы. Писатель в строю!
Книги Михаила Зощенко продолжают выходить: «Рассказы» в Гослитиздате (тираж 40 тысяч экземпляров); «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика» с рисунками Пахомова (тираж 15 тысяч); «Уважаемые граждане» с иллюстрациями Е. Кибрика (переиздание, тираж 10 тысяч); «Самое главное» в Детиздате, художник А. Успенский (тираж 100 тысяч); «Самые умные» с иллюстрациями Радлова (тираж 50 тысяч). И Пахомов, и Кибрик, и Успенский, и Радлов, и Тырса, оформляющие книги Зощенко той поры, – замечательные художники, его веселые друзья.
Литература и культура по-прежнему в центре внимания руководства страны. 16 мая 1941 года опубликовано постановление Совета народных комиссаров СССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы. Вот отрывок из постановления:
«…Большевики, которых еще так недавно злостные клеветники из буржуазной прессы именовали “врагами цивилизации”, “варварами”, “гуннами”, “каннибалами”, “разрушителями культуры”, повели народы путями величайших культурных побед.
…Кто у нас не знает великолепной скульптуры В.И. Мухиной, украшавшей советский павильон на Парижской выставке и ныне стоящей у входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку?
…Кому не известен актер Б. Бабочкин, воплотивший на экране образ замечательного народного героя гражданской войны – Чапаева?
…Кому из советских людей не близка та оптимистическая лирика, которой пронизаны последние произведения композитора Д. Шостаковича?
…Творчество мастеров, удостоенных звания сталинских лауреатов, дорого и близко советскому народу.
Премии по литературе отмечают лучшие произведения, созданные нашими писателями за последнее пятилетие.
…Мы приветствуем замечательных беллетристов:
автора романа “Петр I”, прославленного мастера слова Алексея Николаевича Толстого;
автора монументальной исторической эпопеи о героической борьбе русских людей, романа “Севастопольская страда”, одного из старейших наших писателей – Сергея Николаевича Сергеева-Ценского;
автора “Тихого Дона” – поэтичнейшего романа современности – Михаила Александровича Шолохова…»
Отмечались и литераторы национальных республик – Янка Купала, Павло Тычина, Николай Вирта. В общем, «парад» советской культуры и литературы радовал глаз!
1941 год начался для Зощенко удачно. В феврале в составе официальной делегации писателей он выезжает в Тбилиси… Можно представить себе, как пышно их принимали!
Двадцать второго июня Германия нападает на СССР.
Прошедший уже одну войну, Зощенко и сейчас не пытается спрятаться и 22 июня подает заявление в военкомат с просьбой послать его на фронт добровольцем, но еще в 1917-м он был признан негодным к военной службе (диагностирован порок сердца вследствие отравления газами в Первую мировую), и ему отказали.
Но уже на второй день войны, 23 июня, он получает приглашение от замечательного режиссера Николая Акимова, возглавлявшего Ленинградский театр комедии. Акимов пригласил в театр Зощенко вместе с драматургом Евгением Шварцем и заказал им антифашистскую пьесу. Акимов считал, что в силу своей непохожести они будут дополнять друг друга и создадут замечательную пьесу. Пьеса «Под липами Берлина» была ими написана за полтора месяца! 12 августа состоялась премьера. Особого успеха у ленинградцев она не имела. Развеселое, балаганное изображение сумасшедшего Гитлера и его идиотского окружения соответствовало бы, по меткому замечанию Шварца, настроению 1945 года, но тогда, в 1941-м, немцы были на подступах к городу, начались уже перебои с питанием, люди чувствовали, что надвигается нечто ужасное, и хохотать совсем не хотелось. В зале вместо ожидаемого смеха стояло тягостное молчание. А как писал Акимов: «В жанре комедии без поддержки зрительного зала работать невозможно!» Не только зрители расстроили Зощенко. По свидетельству Веры Владимировны, сестра Михаила Михайловича, Валентина, с ужасом укоряла его: «Что ты сделал, Михаил? Немцы не сегодня-завтра возьмут Ленинград и всех нас повесят!» Пьеса, может, была и неплохая, но зритель был не в том настроении. И вскоре пьесу сняли.
До начала сентября Зощенко активно работает в Ленинграде, пишет антифашистские фельетоны для радио и газет. 18 сентября его вызвали в Смольный и предложили эвакуироваться. Тогда бытовало выражение «золотой фонд деятелей культуры» – и Зощенко причислили к нему. Зощенко сказал, что подумает – он должен позаботиться о семье, жене и сыне. После разговора с Верой Владимировной он позвонил в Смольный: «Можно взять с собой в эвакуацию жену?» – «Да». – «А сына?» – «…Военнообязанный?» – «Да». – «Нельзя». «Тогда я тоже останусь!» – сказала Вера Владимировна.
Наступил «переломный момент» в жизни Зощенко, «переломивший» и его семью, и литературную судьбу. Зощенко не знал, как быть. Однажды ночью он дежурил на крыше, как многие ленинградцы. На чердаках было приготовлено спецоборудование – большие щипцы, которыми надо было хватать сбрасываемые на город «зажигалки», и ящик с песком, в котором надо было эти «зажигалки» тушить. По небу ходили лучи прожекторов, ловя «крестики» немецких самолетов – и тогда сразу вступали зенитки. И вдруг Зощенко позвали снизу. Он спустился во двор, и какой-то человек сказал ему, что надо срочно собираться, через два часа вылет.
Начался новый и весьма важный этап его жизни. Не только литературной, но и личной. Влюблялся Зощенко, как уже говорилось, часто, с прежними возлюбленными поддерживал потом легкие дружеские отношения – но именно в эвакуации развился его самый серьезный любовный роман, не похожий на другие.
Речь идет об уже знакомой нам Лидии Чаловой. Познакомились они еще в 1935-м, в Гослитиздате, где она работала техническим редактором.
Михаил Михайлович ухаживал деликатно. Лидия познакомила его с мужем, и они часто проводили время вместе в интересных беседах. Когда в 1938 году муж Лидии Александровны, военный инженер, погиб на испытаниях, Михаил Михайлович всячески помогал ей, утешал, бывал у нее дома, всегда приносил что-то вкусное, и – говорил. Чаще всего, по ее воспоминаниям, он говорил о задуманной им повести «Ключи счастья» (которая потом превратилась в книгу «Перед восходом солнца»). Он был увлечен этим замыслом и мог говорить о нем часами. Как добиться счастья, освободиться от черных дум и меланхолии – тема эта была для Зощенко чрезвычайно важна. Он хотел, вспомнив всю свою жизнь, найти причину постоянных, порой необъяснимых страданий и, устранив ее, сделаться счастливым. Зощенко всегда увлекался наукой, читал множество медицинских и научных книг, и свято верил, что изменить жизнь можно «научным путем».
Конечно – они не только разговаривали. Весьма сдержанная в выражении чувств, Чалова рассказывает, как они ходили с Зощенко на футбол вместе с Шостаковичем и художником Лебедевым, вспоминает, что Зощенко любил пасьянсы и гадания и верил в них… Поскольку жили они недалеко друг от друга – Зощенко на канале Грибоедова, а Лидия на улице Жуковского, переписки между ними тогда не было. Первое письмо Зощенко ей написал о своем отъезде в эвакуацию:
«…Сегодня утром должен был лететь, но произошла заминка. Едва подъехали к аэродрому – началась бомбежка. Полежал в канаве со своими спутниками – престарелыми академиками. Потом часа два ждали, пока придет все в порядок. После чего академики отказались лететь.
Я был в сомнении. Но увидел во всем этом некоторое дурное предзнаменование и тоже присоединился к академикам. Полетел один Мигай (оперный певец).
В общем, не знаю, как будет обстоять дальше. Возможно, что сегодня позвонят и прикажут лететь…»
Вылетел он из Ленинграда 21 сентября 1941 года. В легком пальто и с чемоданчиком в руках. В чемоданчике – только материалы для его «главной книги» и ее черновая рукопись. Сначала эвакуированные прилетели в Москву. Там предложили на выбор Ташкент или Алма-Ату. Зощенко выбрал Алма-Ату, поскольку туда был эвакуирован «Мосфильм» и можно было работать сценаристом. В конце октября он написал Лиде, что Алма-Ата «очень красивый город»… Через месяц сообщил, что работает «в “Мосфильме”».
Из письма Чаловой от 20 мая 1942 года:
«…Работаю на кинофабрике. Скучаю по своей основной работе. Но заняться моим делом пока затруднительно.
Условия жизни средние, но, в общем, прожить можно. Здоровье тоже среднее, немного сложно для моего сердца (здесь высота 1000 метров). Так что были так называемые “высотные” болезни – слабость и утомление чрезвычайные. Сейчас освоился – лучше…»
В Алма-Ате собрался весь цвет кинематографа, здесь был великий Григорий Александров, снявший знаменитые фильмы, любимые массами: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»… Песни из его фильмов на слова Василия Лебедева-Кумача распевала вся страна. Зощенко пишет сценарий для Александрова под названием «Опавшие листья». Надо отметить, что именно в годы войны были сняты фильмы, ставшие культовыми, сверхпопулярными, – «Небесный тихоход», «В шесть часов вечера после войны»… Это были этакие «военные оперетты», с песнями и танцами, с популярнейшими актерами – Крючковым, Меркурьевым, красавцем Самойловым… К реальной войне они мало имели отношения, но настроение у людей поднимали. Зощенко «не вписался». Наверное, он и не мог работать для кого-то, не для себя. Мешал и замкнутый его характер. Киношники, по многочисленным свидетельствам, «общались» в Алма-Ате бурно. Зощенко из дома не выходил. «Непруха» преследовала Зощенко. 29 мая 1942 года он сообщил Чаловой очередную нерадостную весть:
«…Написал хороший сценарий для Александрова, но он неожиданно тяжело заболел. Некоторый рок продолжает висеть над моими драматургическими опытами…»
Поняв, что ничего здесь не склеится, хотел бежать из Алма-Аты. Писал Чаловой 12 июня 1942-го: «…Было решил ехать в Ленинград – можно было добиться командировки, но немного устрашился пути – очень уж долго ехать, а сердце у меня сейчас что-то не особенно хорошее – побоялся заболеть в дороге. К тому же страшно жарко, а ехать через пустыню 5–6 дней. Тут вопрос с жарой немаловажный. Черт меня дернул куда заехать! Надоело мне тут изрядно. И работа в кино не очень удовлетворила».
Он понимал, что должен отработать свой хлеб, что-то написать. Кроме «Опавших листьев», пишет сценарий военного фильма «Трофим Бомба» (опять-таки почему-то не снятый и опубликованный позже под названием «Солдатское счастье»). Пишет антифашистские фельетоны и рассказы из военного быта – многие из них изданы тоненькими книжечками. Все еще надеется на драматургию. Пишет Лиде: «Буду пробовать снова для театра – тут у нас театр Завадского – так что пишу для него…»
Пьесы, написанные для этого театра, сохранились. Это – «Строгая девушка» и «Маленький папа», видимо, отвергнутые именитым режиссером. Совсем недавно в журнале «Звезда» была опубликована комедия «Маленький папа». Впечатление грустное. Нет и следа того сокрушительного, «людоедского» юмора, который был в ранних зощенковских рассказах, где герои позволяли себе все. Здесь – осторожность. Война все-таки. Надо быть бдительным, не выдавать врагу наши слабости. Вся «заморочка» пьесы в том, что юный лейтенант, решивший взять на воспитание сироту, выглядит слишком молодо, и его постоянно принимают за кого-то другого. Да, потерял Зощенко былую лихость. Да и времена – не его. Вообще «халтуры» ему плохо удаются. Ахматова называла это – «золотое клеймо неудачи». Судьба уводит гения от мелких, ненужных ему удач, выгодных халтур, приводит к нищете, к отчаянию, к созданию главной его вещи – наверняка не прибыльной и даже опасной… И Зощенко бросается, как в омут, в работу над повестью «Перед восходом солнца».
Это была первая абсолютно «открытая книга» Зощенко, где он писал не от имени «водопроводчика», а от себя, тонкого и остро чувствующего интеллигентного человека. И писал с небывалой, не принятой тогда в литературе откровенностью обо всех и обо всем, и прежде всего – о себе.
Я уже эту книгу цитировал, когда писал о юности Зощенко. Еще не закончив труд, он уже мучился вопросом: отдавать ли эту книгу в печать? Конечно, книга Зощенко, написанная в Алма-Ате, разительно отличалась от всего, что создавалось в литературе в то время. Зощенко написал во вступлении к ней:
«Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою “Возвращенную молодость”. Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги. И выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.
Но этого не случилось.
Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились. Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда. Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.
Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью. В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата. Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны. Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал. По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.
Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.
– Ничего, – говорил я сам себе, – тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.
Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда – вот этого я установить не решался.
“Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? – как-то подумал я. – Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает 'философию' фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье – в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем”. В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе».
Это вошло уже у него в привычку – работая над очередной «рискованной книгой» (а таких у него – большинство), в разных многочисленных вступлениях и отступлениях он уговаривает будущего редактора, или – начальника, или – себя, что как раз эта книга чрезвычайно нужная, созвучная времени, направленная «в аккурат» на борьбу с недостатками и на торжество идей. Однако хилый аргумент – моя работа опровергает «философию фашизма» – вряд ли мог кого-то убедить. Книга была написана совсем не об этом. Вот фрагмент:
«Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.
Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.
В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.
Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.
Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.
Я был несчастен, не зная почему.
Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.
“Мир ужасен, – подумал я. – Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада”.
Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:
Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия.
Конечно, я знал, что бывают иные взгляды – радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.
Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.
Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.
“Пришла тоска – моя владычица, моя седая госпожа”, – бубнил я какие-то строчки, не помню, какого автора.
Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. “Меланхолики обладают чувством возвышенного”, – писал Кант. А Аристотель считал, что “меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения”.
Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни.
Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом.
Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни – свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума».
Книга посвящена поискам источника горькой меланхолии, отравившей Зощенко жизнь. Автор провозглашает, что, найдя причину меланхолии, устранит ее, станет счастливым – и, таким образом, не только спасет себя, но и поможет страдающему человечеству.
И откровенно пересказывает самые горькие события своей жизни. Может быть, в них причина неизбывного горя? Благодаря этим «поискам первопричин» написалась замечательная автобиография Зощенко. И не только его портрет – а картина всей мучительной эпохи: ломка прежней жизни, прежних идеалов, приход новой грубой реальности. Это – одна из лучших книг о том времени.
Много там и философских, научных рассуждений – происходила и «разруха в умах», религия заменялась модными философскими течениями, учением Фрейда.
Выразительно и откровенно пересказав самые волнующие эпизоды жизни – и любовь, и войну, и мучительные попытки стать своим в новой грубой реальности, Зощенко, однако, не находит в них ничего такого, что стало бы причиной его постоянного чувства отчаяния. Тогда он обращается к «досознательному» периоду жизни, ищет причины ужаса в сохранившихся обрывках младенческих впечатлений, анализирует свои самые страшные сны. И, скрупулезно восстановив их, находит повторяющиеся мотивы, наводящие наибольший ужас: образ нищего, протянутая неизвестно откуда рука, темная вода и непонятно откуда появившиеся в снах рычащие тигры.
Я тоже помню младенческий страх своего погружения в воду, когда меня мыли. Очевидно – поскольку я еще и не плавал, и не тонул – это страх атавистический. Ведь по науке жизнь началась в воде, и дальний наш «предок» типа полурыбы-полуящерицы выполз на сушу, приспособился – и возможно, стал бояться воды.
Зощенко, вспоминая рассказы матери о том, как она его отлучала от груди, приходит к выводу: потому так страшна в его снах рука! Это – рука матери, не подпускающая его к соску, источнику питания, а ему мерещилось, что теперь он умрет от голода. Он смутно вспоминает, как однажды его страх еще более усилился – была невероятная гроза с сотрясающими дом раскатами грома – и, видимо, отсюда в его снах появились грозные, рычащие тигры.
Безусловно, такие воспоминания делают человека богаче, глубже – если это стереть, в памяти останется только хождение на службу и обратно, а это лишь малая часть огромной таинственной жизни. Стирание «лишнего», духовного, превращение человека в рабский бездушный автомат связано в нашем сознании именно с фашизмом, и в этом смысле книга эта действительно – антифашистская. Но в те дни, когда страна сражалась с фашизмом реальным, слишком тонкие и отвлеченные рассуждения Зощенко в самом деле могли показаться бегством от суровой реальности.
Литература в те дни занималась совсем другим. Многие писатели оказались на фронте, чаще всего – военными корреспондентами. Есть много фотографий знаменитых писателей, тогда еще молодых, выглядевших в военной форме естественно и даже молодцевато: Твардовский, Симонов, Тихонов, Слуцкий.
И рядом с их книгами, рожденными на войне, с описанием людского горя и подвигов, с тем же «Василием Теркиным» Твардовского, размышления Зощенко о том, что главная причина человеческого горя – отлучение от материнской груди, могли показаться эгоистическими. Но писатель всегда живет только тем, что пишет, и в это время уверен, что пишет «самое главное». О той трагической ситуации, в которой оказываются люди сочиняющие, точно написал Пастернак:
Что ему хвала и слава, и народная молва,
В миг, когда дыханьем сплава
Слово сплавлено в слова?
Он на это мебель стопит.
Дружбу, совесть, разум, быт.
На столе стакан недопит.
День не прожит. Век забыт.
И в другом стихотворении – еще точнее и короче:
…какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Писателю, когда он «в угаре» творчества, по большому счету – наплевать, какое тысячелетье. А писатель, который то и дело выглядывает в форточку – что там на дворе? – пишет «для времени», но не для вечности, и уходит вместе со временем. Да, Зощенко, работая над своей главной, как он считал, книгой – «Перед восходом солнца», «стопил» в этой «печке» многое. И прежде всего – свою прижизненную литературную карьеру. Погубил ее. Но – спас свое имя.
Работал над книгой он рядом с любимой женщиной, главной музой его и помощницей – Лидией Чаловой. Судьбе было угодно соединить их. Чалова, оказавшись в блокаде, написала, что хотела бы приехать к нему, причем с матерью и сестрой, родившей ребенка. Организовать выезд из блокады того Ленинграда было непросто, да еще находясь в Алма-Ате. Но обязательный Зощенко, который никогда не хлопотал за себя, трудную просьбу Лидии Чаловой сумел исполнить. И Чаловы, эвакуировавшись по Ладоге, в сентябре 1942-го приехали. Красивые плоские предгорья, буйная растительность – и в небе снежные шапки гор. Сухо, жарко – но иногда с высоты вдруг приходит прохладное дуновение…
Лидия Александровна пишет о встрече так:
«На алма-атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде, сама была почти что дистрофик, но чтобы здесь, в глубоком тылу, так ужасно мог выглядеть человек – нет, это было невыносимое зрелище! Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния? Он сказал, что получает четыреста граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Я спросила: “И у вас на студии все так живут?” Он ответил: “Кое-кто, конечно же, чего-то там достает, но, ты же знаешь, я этого делать не умею”».
То есть Зощенко, сочиняя книгу о спасении жизни, так увлекся, что себя едва не погубил. Если бы не Лида…
«На другой день я пошла на студию. Михаил Михайлович работал в сценарном отделе. Вместе с ним работали Михаил Блейман, Юзеф Юзовский, Леонид Жежеленко, а заведующим был Николай Коварский. Я спросила Коварского: “Вы ведь, наверное, получаете какие-нибудь лимиты?” Он подтвердил: “Конечно”. “А почему же Михаил Михайлович не получает?” Николай Аркадьевич опешил: “Как не получает?!” Оказалось, ни ему, ни кому другому из сотрудников отдела в голову не приходило, что Михаил Михайлович чуть ли уже не год живет, отоваривая лишь хлебную карточку.
Я вызвала врача. Он определил: дистрофия. Написал справку. С помощью этой бумажки сценарный отдел выхлопотал Михаилу Михайловичу месячное питание из больницы Совнаркома. Такое обильное, что хватало на двоих. Но месяц прошел, нужно было оформлять право на получение питания по лимиту, а Михаил Михайлович вдруг заупрямился. Нужно было идти в торготдел, а он не хотел просить, не хотел писать. Говорил, что это неудобно – во время войны. Я сказала: “А удобно умирать во время войны в Алма-Ате от дистрофии?” И все-таки заставила написать в торготдел. Взяла записку и вот прихожу. Мне говорят: “Как? Зощенко в Алма-Ате уже год? А мы ничего не знаем. Вот о Маршаке знаем. Он каждый месяц приходит за дополнительными талонами на масло… Неужели Зощенко не знал о лимитах? Как странно…”
А сердце у него действительно было очень больное. Как-то у него началось воспаление среднего уха. Пришла врач, захотела его прослушать, а он не дает, не разрешает даже прикоснуться к груди. Видимо, боялся услышать что-то такое, чего не хотел знать. Все же она его уговорила, а потом шепнула мне, уходя, что с таким сердцем его надо держать под стеклянным колпаком… Какая же это была мука – видеть, что у него начинается приступ, и быть бессильной помочь! Сколько же это раз было: идем по улице, вдруг он становится бледным, в глазах испуг, и говорит еле слышно: “Мне надо постоять. Повернись, как будто ты шла мне навстречу, и вот мы с тобой встретились, разговариваем…” Он не хотел, чтобы люди увидели его в этом состоянии. В центре города всегда топталась масса знакомых, и он стеснялся предстать перед ними больным и слабым».
Здесь, в отрыве от дома, оказалось вместе много талантливых, известных людей. И все они хотели видеть любимого Зощенко, общаться с ним. Михаил Михайлович и по нездоровью, и по стеснительности чаще отказывался – но иногда соглашался. Были в гостях у актера Чиркова, ставшего знаменитым после фильма «Юность Максима», где он пел полюбившуюся всем песню «Крутится-вертится шар голубой». Спел ее и для гостей. Сходили к великому режиссеру Эйзенштейну.
Жили они с Лидой в одной квартире – но Лида на «хозяйской половине», где жила хозяйка с тремя детьми, а Зощенко был предоставлен кабинет. Однажды они с Лидой вспоминали Ленинград, общих знакомых, и она рассказала один эпизод: немцы разбомбили пассажирский пароход, и один из пассажиров, спасаясь, схватился за «рогульку» на немецкой плавучей мине. Через некоторое время она услышала смех хозяев: Зощенко читал им «Рогульку», свой новый рассказ. Лидия вдруг обиделась, сказала, что случай этот трагический, и смеяться тут нечему. Да – музы вдохновляют писателей, но порой весьма скептически оценивают результат. Они поссорились. Лидия Александровна была женщина волевая, на все имела свой взгляд, не случайно стала авторитетным редактором – а писатели страх как не любят, когда их учат. Но куда им было деться друг от друга в Алма-Ате? Трудности укрепляют любовь.
Но и упрямый Зощенко, и принципиальная Лидия не оставили никаких воспоминаний собственно о любви – о чувствах, разговорах, разных трогательных подробностях, из которых и лепится любовь… Лида, наверное, не случайно работала редактором, и твердо знала, что нельзя публиковать. Поэтому картин их любви не сохранилось. И Зощенко к открытому проявлению чувств был не склонен. Всё больше говорили о литературе. Лида, обидевшись на «Рогульку», утверждала, что время «уморительных» зощенковских рассказов прошло, что таких бескультурных «дикарей», какие действуют в них, больше нет. Зощенко нервничал. Упреки в том, что он в своем творчестве «оторвался от жизни», злили его больше всего. И он старался, как мог, доказать, что люди – всегда одинаковы, а значит, и произведения его всегда актуальны. Лидия Александровна вспоминала:
«Слушая “Рогульку”, я не могла не думать о недавно покинутом мной Ленинграде, о страшной жизни под ежедневным обстрелом, и мне, честно говоря, было совсем не до смеха. И я сказала, что, может быть, не надо было писать эту “Рогульку”. Что сама по себе история, конечно, забавная, но уместно ли обращать в шутку в общем-то горькое, трагическое происшествие? Ведь рассказ будут читать наши бойцы. Что они скажут?
Он очень рассердился. Сказал, что я ничего не понимаю. Он сам воевал и хорошо знает, как смех, веселая шутка необходимы на фронте. Смех скрашивает тяжелый окопный быт, отвлекает от грустных мыслей, поднимает боевой дух и так далее. Короче говоря, я прослушала целую лекцию о смехе на войне.
Вообще, когда он сердился, он вдруг начинал говорить очень четко, размеренно, как бы чеканя каждое слово. Как бы вдалбливая в тебя свое несогласие. Однажды я завела разговор о том, что сейчас нет тех людей, о которых он писал в двадцатые годы, что люди сильно изменились. И только он стал “чеканить” слова, как неожиданно погас свет. Я вызвала электротехника. Пришла женщина лет примерно тридцати. Смотрит в заявку: “Зощенко?.. Это какой Зощенко? Я думала, писатель Зощенко умер. Вы предок писателя Зощенко?” Михаил Михайлович аж заикаться стал: “Какой это… предок? Я и есть… писатель Зощенко”. А она так недоверчиво на него смотрит. Так и читаешь в ее глазах: дескать, как это может быть? Пушкин умер, Гоголь умер, а почему же Зощенко жив? Разве бывают живые писатели?.. Словом, Михаил Михайлович страшно разнервничался и ушел к себе в комнату. А когда эта женщина ушла, сказал, как и до ее прихода, четко выговаривая слова: “Вот видишь? Ты говорила, что не осталось людей с тех двадцатых годов. А ведь она – техник. И, наверное, со средним образованием. А уровень?..”»








