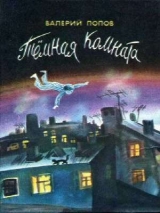
Текст книги "Темная комната"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Стоп-кадр

События, о которых я хочу рассказать, произошли со мной во время зимних каникул в деревне, точнее – на селекционной станции, на которую перевели отца после трёх лет работы в институте.
Помню, однажды папа пришёл поздно, они о чём-то всю ночь говорили с мамой, а утром я узнал, что его переводят.
Станция эта была далеко, за Сиверской. Отец приезжал домой вечером, очень усталый, сразу засыпал – и ранним-ранним утром уезжал обратно.
Потом ему дали там какое-то жильё, и он перестал приезжать вовсе, иногда только говорил со мной по телефону, как-то очень тихо и виновато.
Потом вдруг пришло от него письмо, я очень удивился: на моё имя! Я никогда ещё в жизни не получал писем. В письме было написано: «Ты уже взрослый… ты должен понимать… жизнь сложна» – и я понял, что мама и папа разошлись.
Дома у нас стало тихо, пусто. Раньше отец, приходя с работы, сразу громко начинал говорить, смеяться. Подходил ко мне, смотрел отметки, иногда говорил сочувственно свою любимую присказку: «Эх, товарищ Микитин! И ты, видно, горя немало видал!» А теперь стало вдруг тихо, мама, вздыхая, ходила по комнатам. Однажды только случайно я увидел вдруг папу по телевизору… Нет, наверно, не случайно – наверно, мама знала и специально включила.
Отец, взъерошенный, в широком галстуке, сидел в какой-то комнате и горячо, но сбивчиво рассказывал о новом методе, который он придумал, о новых сортах ржи, которые он выводит. Потом пошла плёнка: играла музыка, отец ходил по полям в соломенной шляпе. Вот он взял рукой колос, стал рассматривать.
– Сейчас сморщится ведь! – сказала мама.
Тут же он сморщился, как всегда морщился, когда задумывался.
– И ты тоже, – сказала мама. – Так же морщишься! Папа родимый! – Она махнула рукой, потом встала и ушла в другую комнату.
Я слышал его глухой, сиплый голос и почувствовал, как я соскучился. Через два дня были ноябрьские праздники, и я решил вдруг съездить к нему.
Сразу же за вокзалом пошла тьма, тёмные пустые пространства. Иногда только – фонарь, под ним дождь рябит лужу.
Я смотрел в тёмное окно, с тоской понимая, что всё это – безлюдье, темнота, пустота – имеет теперь отношение к моей жизни.
Я вышел на пустую платформу среди ровного поля. Сошёл на тёмную скользкую тропинку, балансируя, пошёл по ней. Тропинку в темноте переходил гусь, из клюва гуся шёл пар.
Очень не скоро – будто через сто лет – я увидел освещённые окна. Я пошёл вдоль них и в одном увидел отца. Он стоял посреди комнаты, как обычно стоял у нас дома: сцепив пальцы на крепкой лысой голове, покачиваясь с носка ботинок на пятку, задумчиво вытаращив глаза, нашлёпнув нижнюю губу на верхнюю.
Я обогнул дом, прошёл по коридору, вошёл в комнату. Комната оказалась общей кухней – у всех стен стояли столы.
Увидев меня, отец вытаращил глаза ещё больше.
– Как ты меня нашёл?! – изумлённо сказал он.
– Вот так, нашёл, – усмехнувшись, сказал я.
– О! Есть хочешь? Давай! – всполошился он.
На плитке кипел чайник. Он снял чайник, поставил кастрюлю с водой. Потом выдернул ящик стола. По фанерному дну катались яйца – грязные, в опилках. По очереди он разбил над кастрюлей десять яиц, стал быстро перемешивать их ложкой.
– Новый рецепт!.. Мягкая яичница! – подняв палец, сказал он (как будто яичница имеет право быть ещё и твёрдой!).
Потом, по своему обыкновению, он стал рассказывать, какие замечательные у него новые идеи, какую инте-рес-нейшую книгу он напишет!
Из десяти яиц получилась маленькая, чёрная, пересоленная кучка.
– Слушай! – сказал отец. – А пойдём в столовую? Отличная столовая! Класс!
Мы вышли на улицу, пошли в столовую, но там было уже пусто, только толстая женщина выскребала пустые баки.
– Всё уже! – зло сказала она. – Раньше надо было приходить!
– Как? – Отец удивлённо вытаращил глаза.
…На следующее утро мы пошли с ним гулять. За ночь выпал снег – вокруг были белые пустые поля. Я ждал на улице, пока он выйдет, стоял, нажимая ногой чёрный лёд на луже, гоняя под ним белый пузырь. Вот вышел отец, в сапогах и ватнике, и мы пошли. Мы долго ходили по дорогам. Отец, чтобы уйти от волнующей темы – его отъезда, всё говорил о своих опытах:
– …инте-реснейшее дело!.. Я сказал Алексею – он ахнул!
Голос его гулко разносился среди пустого пространства. Потом мы шли по высокому берегу. Река внизу замёрзла, по ней плыли тонкие, прозрачные льдины. Вороны с лёту садились на них, иногда, поскальзываясь, падали на бок.

На следующий день вечером я уезжал. Мы долго шли в темноте, и только у самой станции он вдруг притянул меня к своему плечу, спросил, конфузясь:
– Ну, а ты как живёшь? Я самолюбиво отстранился.
Потом я часто вспоминал эту поездку.
За то время, что я провёл у него, я понял, что живётся ему там довольно одиноко. Все сотрудники по вечерам уезжали в город, а местные не очень с ним общались, потому что он был приезжий.
Я часто представлял, особенно по вечерам, что он сейчас делает: идёт куда-нибудь в темноту в резиновых сапогах или стоит, задумавшись, посреди кухни?
Я бы хотел снова это увидеть, но шли занятия в школе, и поехать к нему было невозможно.
Начались зимние каникулы. Я гулял в основном с ребятами со двора, и никак почему-то не получалось вырваться и уехать.
Тридцать первого декабря наш дворовый вожак, Макаров, сказал, что надо нам отметить новый наступающий год, для этого нужны «бабки» (так он называл деньги), а для этого нам всем придётся немного поработать.
Ничего заранее не объясняя, он привез нас на троллейбусе к железнодорожной платформе «Дачное». Там он вдруг достал из кармана красные повязки, сказал, что мы теперь дружинники и должны отбирать ёлки у тех, кто выходит из электрички, потому что они, ясное дело, везут их из леса. Две ёлки отобрал он сам, третью мы отобрали у старичка в валенках все вместе.
Потом мы проехали остановку, продали все три ёлки у магазина за десять рублей.
Домой я пришёл в полдвенадцатого. Мама не сказала ничего, только вздохнула.
Мы встретили с ней Новый год, потом я пошёл спать.
Но, ясное дело, я не спал. Я всё вспоминал того старичка, у которого мы отобрали ёлку. И главное, хулиганы, действительно срубившие ёлки, просто отталкивали нас и проходили, а купившие ёлки – вернее, самые робкие из них – не могли доказать своей правоты и отдавали!
…Ночью я поклялся себе, что занимаюсь подобными делами последний раз. Утром, вместо того чтобы выходить во двор и снова встречаться с Макаровым, я оставил маме записку и помчался к отцу – были каникулы.
Народу в поезде оказалось мало. Я сидел у окна. Поезд шёл среди синеватого снежного поля, вспоротого кое-где ослепительно белой цепочкой следов, – день стоял солнечный и холодный.
Я вышел на станции, сразу закрыл лицо рукой от мороза и обежал по узкой тропинке среди высоких снежных стен. Местами от дорожки уходили снежные коридоры с розовым светом в них, гладким примятым дном, длинными параллельными царапинами на стенах. Хотелось пойти туда, но коридоры эти шли поперёк моего пути. Взбежав на пригорок, задыхаясь от мороза, я с удивлением увидел, что коридоры эти никуда не ведут – доходят до горизонта, до леса, и, описав там широкую дугу, идут обратно.
Стараясь думать об этих странных коридорах, я бежал по тропинке всё быстрее. Лицо стянуло морозом, нос побелел – я это видел, закрывая один глаз. Наконец я выскочил на аллею. Деревья вдоль аллеи стояли высокие, неподвижные, бело-розовые. Люди шли быстро, прикрывая рты шарфами, белыми от дыхания. Дома отца не оказалось, и я, секунду подумав, побежал в лабораторию. Отец сидел в своём кабинете в пальто – было холодно – и быстро писал. Увидев меня, он в знак приветствия вытаращил глаза, но продолжал писать.
Вдоль стен кабинета свешивались метёлки колосьев, на столах стояли прямоугольные жестяные коробки с семенами.
Я подошёл к папе, увидел, что он быстро заполняет таблицу: «содержание белка в зерне», «стекловидность»…
Наконец он бросил ручку, довольный, откинулся назад.
– Видал-миндал? – сказал он, показывая на таблицу.
– А что… здорово? – спросил я.
– Ка-ныш-на! – дурачась, сказал он.
Он поднялся, довольный, заходил по комнате, потом встал у окна, закинув ладони за голову.
– А давай на лыжах! – сказал он. – Наперегонки!
Потом мы ходили по территории станции, заходили в лаборатории, оранжереи, отец показывал мне «инте-рес-нейшие вещи». По дороге мы зашли погреться на конюшню, и мне так там понравилось, что неохота было уходить.
Вообще, конюшни не отапливаются, – считается, что лошади обогревают их своим теплом, но в тот день, по случаю морозов, конюх затопил в своей комнате печку – красное зарево дрожало в тёмном коридоре, доходило до дальней стенки.
Войдя в конюшню, я задрожал от одного только запаха! Ещё раньше, когда мы всей семьей жили на Пушкинской опытной станции, я всё почти время проводил на конюшне – помогал конюху, чинил сбрую, запрягал и распрягал.
И здесь, когда я на следующее утро снова пришёл на конюшню, я первым делом рассказал конюху Жукову об этом и стал упрашивать его, чтоб он разрешил мне что-нибудь сделать, например, почистить стойла, и потом, абсолютно довольный, вёз тачку с лопатой по проходу, по скользким, мягким доскам пола.
Убрав стойла, я снова стал приставать к Жукову.
– Съездить никуда не нужно?
Но он не отвечал. Наконец минут через сорок он сипло сказал:
– Знаешь старый телятник?
– За Егерской аллеей?
– Там прессованное сено. Сюда привезёшь… Букву возьми.
Я подпрыгнул от радости: Буква была самая красивая лошадь. Я зашёл в тёмное стойло, вывел за недоуздок Букву, по пути к выходу надел на неё хомут, чересседельник, взял дугу. Выйдя на свет, Буква затрясла головой, заржала. Проведя её через двор, я впятил её между оглобель саней, запряг.
Мы проехали по Егерской аллее, проскочили со стуком бревенчатый мост и повернули по узкой дороге к телятнику.
Вся площадка перед телятником была измята отпечатками разных шин, обуви, – что за странная жизнь бурлит здесь, у заброшенного строения?
Перекидав в сани спрессованное кубами сено, я примчался обратно на скотный двор, перекидал сено через окно в фуражный отсек, потом распряг Букву и повёл её в конюшню.
У двухэтажного каменного общежития стояли четыре автобуса – какого-то странного, непривычного вида. Из первого автобуса вылез человек с чёрной бородой и поманил меня пальцем. Слегка испугавшись, ведя сзади Букву, я подошёл.
– Дело есть, – сказал он.
– Сейчас… только лошадь поставлю.
Я вошёл в тёмную конюшню и вдруг услышал, как колотится сердце. Что ещё за дело ко мне у этих людей, приехавших на таких необычных автобусах?
Походив по тёмному пахучему коридору, чуть успокоившись, я вышел. Бородатый человек, при внимательном рассмотрении, оказался довольно молодым, борода, видимо, была отпущена для важности.
– Привет… Ты здешний?
– В общем, да, – сказал я. – А что?
– Работаешь? – Он показал в сторону конюшни. Я кивнул.
– С лошадью здорово умеешь! – сказал он.
Я кивнул, хотя понимал, что пора уже что-то мне сказать.
– В кино поработать хочешь? – спросил он.
Я сразу всё понял: и почему он ко мне приглядывается, и для чего эти огромные автобусы!
Вот это дело, действительно! Не то что сено возить!
…Сено можно провозить хоть всю свою жизнь, и в соседней деревне, может быть, будут тебя знать и больше нигде. А тут день работы – и выходишь на мировую арену!
Я кивнул. Он подумал, потом протянул руку, стащив перчатку:
– Зиновий… ассистент режиссёра.
Я молчал.
– Саша, – спохватившись, сказал я. – А эти автобусы – для съёмок?
– Именно, – сказал он. – Это вот – лихтваген – осветительную аппаратуру возит, а этот – тонваген – со звукозаписывающей… Камерваген – съёмочная. А этот вообще для всего остального.
– А можно посмотреть?
– Ну, давай.
Открыв сзади дверь, мы влезли в тонваген. Сначала была маленькая комнатка – подсобка – с верстаками, тисками, паяльниками, проводами, оловом и канифолью, потом было полутёмное помещение побольше – посередине стол, к стенам прикреплена аппаратура (чтоб не падала при качке): большой серый магнитофон, усилитель, микрофоны на раздвижных «удочках».
Вот это техника! Только что самым сложным прибором был хомут, и вот уже – шкалы, микрофоны, мигающий в полутьме зелёный глаз большого магнитофона.
– Чего надо? – сказал человек, поднимаясь со скамейки.
– Всё! Всё! Уходим! – сказал Зиновий.
Мы выпрыгнули на свет.
По дороге я чуть не плясал. Здорово! Как раз каникулы – и я в кино!
Мы подошли к общежитию. У крыльца стояла «Волга» с надписью «Ленфильм»!
Действительно – неизвестно, где ждёт тебя удача!
Казалось бы, уехал на глухую станцию, хотел отдохнуть – и вот! Мы вошли в Красный уголок, где сидел почему-то уже обиженный режиссёр.
– Яков Борисыч, – робко сказал Зиновий. – Отличный сельский хлопец! Видели бы, как распрягает.
– Это неважно, неважно! – подняв руки, закричал режиссёр.
– Понимаешь, – сбивчиво сказал мне Зиновий, – мальчик, который должен был у нас играть… заболел. Точнее – мама его стала вдруг против… точнее – он сам не захотел.
– Понятно, – сказал я.
– Что – понятно? Что тут может быть понятного-то?!! – закричал Яков Борисыч.
– Всё понятно, – сказал я. – Мальчик сниматься не может – вам нужен другой. – Зиновий и Яков Борисыч переглянулись. Потом мы с Зиновием вышли в коридор.
– В общем, я с ним поговорю, не беспокойся. Иди домой – приходи завтра, часов в одиннадцать.
– Я могу и раньше!
– Раньше не надо.
Я выскочил на мороз.
Сокращая дорогу, я лез по глубокому снегу. Одно время я чуть не заблудился, только случайно обернувшись, увидел освещённый розовым солнцем угол лаборатории.
Я вошёл к отцу в кабинет.
– А я в кино буду сниматься! – сказал я.
– Ну? Где? – всполошился отец.
Я рассказал.
– О! А ко мне тоже приезжало кино! – толкнув меня ладонью и откинувшись, сказал он. – Программа «Сельский час»! Нет, ты скажи: ты видел или нет?
– Конечно, – сказал я.
Утром я проснулся, когда солнце уже ярко светило. От крошек под обоями шли по стене длинные тени. Я посмотрел на часы. Пол-одиннадцатого! Какой-то я мальчик-спальщик!
Я попил чаю и выбежал на улицу. Для сокращения пути я снова пролез через заснеженный лес и выбрался к гостинице. Вся группа стояла у крыльца гостиницы.
– Куда-то Зуев пропал, – озабоченно озираясь, говорил Зиновий.
– А я? Я разве не пропал? – подскочил к нему я. Зиновий улыбнулся, но ничего не ответил.
– Ну, так когда? – спросил я.
– Что – когда?
– Сниматься?
– А-а-а-а. Пока не знаю.
– А разве вы… с Яковом Борисычем… обо мне не говорили?
– А-а-а! Ну вообще так говорили… а конкретно – нет.
– А что же мне делать?
– Тебе? Вот помоги пока нашему механику.
– Ладно!
Зиновий подвёл меня к механику, познакомил.
– Ну, что будем делать? – спросил я.
– Местный? – спросил он.
– Да!
– Это хорошо. Поможешь мне антенны снимать.
– Какие… антенны? – Я удивился.
– Телевизионные.
– А… зачем?
– Ты туго, видно, соображаешь, – сказал механик. – Фильм-то про довоенное время!
– Ну и что!
– Что, что! Ну, и что хорошего будет, если зрители на крышах телевизионные антенны увидят? Додул?
– А-а-а-а-а! – сказал я.
– А поскольку ты местный, всех знаешь, сможешь, я думаю, всем объяснить: так, мол, надо.
Я похолодел. Зачем только я сказал, что я местный?
Никого совершенно не знаю, кроме конюха Жукова, и то вряд ли бы мог его уговорить!
А ещё – с незнакомыми!
Я и со знакомыми, честно говоря, ни о чем не могу договориться. А тут людей, которые меня и не знают, уговаривать снять антенны! А здесь сейчас и развлечений никаких нет, кроме телевизора! Люди старались – вон на какие высокие мачты поднимали антенны, и вдруг – снять! Тем более, я вспомнил, сегодня суббота, с утра уже телевизор все смотрят!
Ну, влип!
Отказаться! Сказать: не могу. Что не местный я вовсе, а приезжий – такой же приезжий, как и они! Что не знаю тут никого, и всё!
Я собрался уже сказать это механику, но понял вдруг: так и остальное всё рухнет.
Механик Зиновию скажет, что я ни на что не способен, Зиновий – Якову Борисычу… И так, можно сказать, вишу на волоске, и волосок этот, того гляди… Конечно, всегда можно найти причины уважительные, чтобы что-то не сделать. Но судят-то всех по результатам, а не по причинам, которые помешали!
Киногруппа, можно сказать, на меня надеется, что я помогу им быстрее съёмку начать, а что я – приезжий или местный – это, видимо, мало кому интересно.
Ничего! Надо когда-то решаться!
Наверно, секунды за две промелькнули все эти мысли.
– Ну, откуда начнём? – сказал механик. – Вот только эту улицу надо…
– Ах, только эту вот улицу?.. Вот отсюда! – сказал я. В первом доме, как мне рассказывал отец, жил комбайнер Булкин – лучший рабочий станции. Но по субботам он, слегка выпив, любил бегать за людьми с поленом.
Мы вошли в сени – и я увидел высокую, до потолка, поленницу! Я чуть не упал, но механик втолкнул меня в дверь.
Все, во главе с хозяином, сидели за столом и как зачарованные смотрели «Варвару-красу, длинную косу».
Мы поздоровались, и я сбивчиво рассказал о цели нашего посещения. Булкин долго смотрел на меня.
Потом, мотнув мне головой, вышел в сени.
«За поленом», – подумал я.
– Иди, – толкнул меня механик.
Я вышел. Булкин прижал меня к поленнице.
– Кино будешь снимать? – спросил он.
– Да, – рассеянно сказал я.
– Мне сделаешь роль?
– С-сделаю, – дрожа сказал я.
Хлопнув дверью, Булкин вышел во двор. Я растерянно вернулся в комнату. Потом я увидел, что с крыши перед окном стал сыпаться снег, потом стал обрушиваться большими кусками. «Варвара-краса» на экране вдруг задёргалась, потом стала бледнеть – и исчезла. Тёмные полосы быстро бежали по экрану. Стукнула дверь – и появился Булкин, ноги по колено и руки по локоть сверкали снегом.
– Ты что там сделал? – сказала жена.
– Антенну снял – товарищи вот просили, – сказал Булкин.
– А мы что теперь будем делать?
– Молчать! – сказал Булкин. – Кино – это искусство! Все обязаны ему подчиняться.
В следующий дом входить было уже легче. Тем более там действительно жила знакомая, папина аспирантка, Майя Николаевна, с ней-то я как раз знал, как разговаривать!
– Майя Николаевна! – сказал я. – Неужели вы, интеллигентная женщина, настолько уж любите телевизор? Футбол, хоккей! Никогда не поверю!
Расчет мой оказался абсолютно точным.
– Ну что вы, конечно, нет! – ответила Майя Николаевна. – У меня абсолютно нет на это времени. Георгий Иванович ставит такие высокие требования, буквально не остаётся ни минуты свободной!.. А Георгий Иванович в курсе?
– Конечно!
Механик быстро спустил во двор шест с антенной, я только держал лестницу, когда он влезал и слезал.
Дальше стоял бревенчатый дом. Папа рассказывал мне, что это – самый старый дом в посёлке и живут в нем двое старичков, Василий Зосимыч и Любовь Гордеевна, которые работают на этой станции с самого начала. Дом стоял над самым речным обрывом; когда-то он, наверное, стоял дальше, но берег, очевидно, постепенно обрушивался…
Когда мы вошли на кухню, там была только Любовь Гордеевна. Близоруко натянув пальцем уголок глаза, она разглядывала нас. Потом вошёл Василий Зосимыч, с грохотом свалил дрова у плиты. Я вздрогнул. Я сразу подумал, что кого-то он мне очень напоминает… но вспоминать этого почему-то мне не хотелось.
Механик объяснил им, чего мы хотим.
– А надолго ли? – спросила Любовь Гордеевна.
– Да на пару дней! Слепые ведь, ни черта не видите, какая вам разница! – быстро сориентировавшись в обстановке, грубо сказал механик.
Я вспомнил вдруг, на кого так похож Василий Зосимович! На того старичка, у которого отобрали мы ёлку на платформе!.. Так похож… что вроде это он и есть!
От стыда я чуть не выбежал на улицу, но вместо этого почему-то взял себя в руки. Тогда мне казалось, что порученное мне дело важнее всего!
– Через два дня… честное слово! – только сказал я им.
– А можно, я полезу? – сказал я механику, когда мы вышли.
– Давай, если не лень, – сказал он.
Мы установили лестницу, и я полез. Сначала снег сыпался с крыши за шарф, потом набился в рукава, потом в ботинки, но я лез. Я забрался на самый верх, к трубе, дом был не такой уж большой, но он стоял у обрыва, и я оказался вдруг на большой высоте.
Далеко внизу была замёрзшая река, посередине её виднелась колея, и кто-то ехал в санях, лошадь казалась величиной с муху.
Белые деревья еле различались на том берегу.
Дальше, за поворотом реки, виднелся чёрный квадратик – прорубь. Я стал смотреть антенну. Она была примотана к трубе, и железные тросы-растяжки шли к углам крыши.
Я взялся за них голой рукой – рука прилипла к мутному тросу. Дул ледяной ветер, слезились глаза.

Я слез к углу крыши, вывинтил штырь с резьбой, на который зацеплялась растяжка и который был ввинчен в кольцо, вделанное в крышу. Потом, осыпая снег, перелез на другой угол, вывинтил второй штырь. Потом перелез на другую сторону, во двор, и вывинтил те два крепления. Потом обнял трубу и размотал проволоку, приматывающую мачту к трубе. Высокая мачта стала крениться – я осторожно опустил её верхушку на крышу сарая.
Вместе со снегом я съехал во двор. Василий Зосимыч и Любовь Гордеевна так и стояли, глядя вверх.
– Вот так… всё ясно? – подражая механику, сказал я.
Руки саднило, лицо одеревенело, по щекам катились едкие слёзы. Но дело было сделано!
Дальше всё было вообще элементарно!
Ещё до этого люди выходили, заинтересованные, и вот уже собралась посреди улицы небольшая толпа.
– Чего это там?
– Да антенны убирают. Кино приехало. Кино будут снимать.
– А чем им антенны-то наши помешали?
– Да говорят, кино-то про довоенное время. Антенн-то тогда ещё не было, понял?
– А-а-а. Ясно. Ну, что ж, пойду, подготовлю всё, раз такое дело.
А я-то готовился к борьбе, и вдруг оказалось всё так легко!
Уже в полном упоении я переходил из дома в дом и только показывал людям, куда убрать антенны, чтоб их не было видно.
Через каких-нибудь два часа я стоял посреди улицы, смотрел: антенн по всей улице не было.
Всем домам по этой улице обломали, можно сказать, рога!
Потом мы вернулись обратно в киногруппу.
– Готово! – сказал Зиновию механик.
– А как наш юный друг? – спросил Зиновий.
– Этот? Нормальный парень… Хорошо мне помог.
Это ещё вопрос – кто кому помог!
– Ну, поехали, посмотрим, – сказал Зиновий. – Яков Борисыч, поедете смотреть точку?
Зиновий, Яков Борисыч и оператор пошли к автобусу.
– А мне можно? – спросил я.
– Садись, садись! – подтолкнул меня Зиновий.
Мы расселись в автобусе и поехали, но почему-то не на улицу, на которой снимали антенны, а вниз по извилистой дороге к реке. Автобус съехал на лёд и покатил посередине. Справа поднимался обрывистый берег.
– Стоп! – сказал вдруг Яков Борисыч.
Автобус остановился, все вылезли, подняли головы. Оператор вытащил камеру, поставил, пригнулся к глазку.

Над обрывом виднелись крыши домов – тех, с которых мы только что сняли антенны. Выше всех казался старенький дом Василия Зосимыча, потому что он стоял к обрыву ближе других Белый дым вертикально поднимался из труб. Все смотрели вверх, и белый пар струями поднимался между поднятых ворот ников.
– Ну что ж… годится! – сказал оператор, распрямляясь. – Годится!
Я ликовал. Ведь это я убрал антенны, которые могли всё испортить, именно я, пускай об этом никто почти не знает!
– Так. Где делаем прорубь? – Яков Борисыч вышел вперёд.
– А есть уже прорубь, – неожиданно для себя проговорил я.
Все посмотрели на меня.
– Там, за этим мысом, – я махнул.
– Поехали, – подумав, сказал Яков Борисыч.
Мы обогнули мыс и подъехали к проруби. Все вылезли снова, оператор вытащил свою камеру, треножник, согнулся, подвигал вделанную в камеру маленькую поперечную ручку.
На обрыве был виден дом Василия Зосимыча и ещё два дома с этой улицы.
В трёх шагах от нас дымилась чёрная прорубь.
– Нормально! – откидываясь, сказал оператор.
– Молодец, мальчик! – Яков Борисыч положил мне руку на плечо.
Мы сели в автобус. Я был горд. Я посмотрел на Зиновия – и он мне дружески подмигнул.
Вернувшись обратно, Яков Борисыч, Зиновий и оператор ушли в комнату совещаться. Я, ожидая их решения, ходил в коридоре.
Наконец Зиновий вышел.
– Ну… что? – спросил я.
– С тобой пока неясно… Надо поговорить.
– Так давайте – поговорим!
– Да? – Зиновий посмотрел на меня. – Ну, пошли. Мы вошли в комнату Якова Борисыча.
– Вот, Яков Борисыч, – сказал Зиновий, – предлагается на роль Стёпы.
Яков Борисыч долго смотрел на меня.
– Ну-ка… подвигайся чуть-чуть, – сказал Яков Борисыч.
– Как?
– Ну, станцуй что-нибудь! – сказал Зиновий.
– Вальс! – закричал я.
– Стоп, стоп! – закричал Яков Борисыч, когда я случайно чуть не сшиб телевизор.
Они с Зиновием пошептались.
– Ну, покажи что-нибудь… какую-нибудь мимическую сценку.
– Мимическую?.. Борьба с удавом! – Я стал показывать.
– Стоп!.. Стоп!.. – закричал Яков Борисыч. – С удавом ты вообще весь дом нам разнесёшь.
Они ещё пошептались.
– Ну, прочти что-нибудь.
– «Бородино»!
– Не надо! – сразу сказал Яков Борисыч.
Они снова шептались, потом Зиновий взял меня за плечи и вывел в коридор.
– Ну как? – спросил я.
– Понимаешь, – сказал Зиновий, – основная твоя сцена – с лошадьми. Боится он, что ты с лошадьми не справишься!
– Кто?.. Я?!!
Не одеваясь, я выскочил во двор, задыхаясь, добежал до конюшни, промчался мимо удивлённого Жукова, взнуздал и вывел из денника породистую Красотку, с перегородки залез на неё, проехал по коридору, ногой открыл обе двери и выехал на мороз.
Два круга я объехал рысью, потом заставил Красотку скакать и резко поднял её у крыльца, на котором, я уже видел, стояли Зиновий и Яков Борисыч. Яков Борисыч что-то сказал Зиновию и ушёл, хлопнув дверью.
– Молодец… далеко пойдёшь! – сказал Зиновий, кладя руку мне на плечо.
После обеда было собрание – и Яков Борисыч представил меня группе.
– Вот… прошу любить и жаловать… новый исполнитель роли Степана.
– А Чудновский?
– Чудновский отпал, – сказал Зиновий.
Я встал, насмешливо поклонился. Я не хотел показывать, что это такая уж для меня радость – участие в их фильме… не хотел показывать, но всё-таки, наверное, показал.
Мы вышли из Красного уголка с Зиновием.
– Да-а-а, – задумчиво говорил Зиновий, – всё-таки суровая это вещь – сцена в проруби!
– В какой… проруби?
– Ну, в какой, в какой!.. Которую ты нам показал!
– А какая там сцена?
– Обычная. Герой бросается в прорубь и тонет.
– А зачем? – Я разволновался.
– Ну, совесть его замучила. Понимаешь?
– А когда мне нужно будет это делать?
– Тебе? А кто сказал, что тебе? Это главный герой! А ты разве главный герой?
«Не я… Но все равно – зачем?!»
– А нельзя по-другому?
– Как по-другому? – недовольно спросил Зиновий.
– Ну, изменить. Чтоб он не гибнул…
– На что заменить? На борьбу с удавом? – Зиновий усмехнулся.
– Точно! – обрадовался я.
– Или, может, на «Бородино»? – сказал Зиновий. – Добегает до проруби, читает с выражением «Бородино» – и идёт обратно!
– Хорошо бы! – сказал я.
– Нет уж! – сказал Зиновий. – Будем снимать так, как в сценарии написано. Ты ведь и понятия-то ещё о жизни не имеешь! Понятия не имеешь о человеческих переживаниях!
– Имею! – вдруг сказал я.
Я собирался рассказать о том, как мы отобрали у старого человека ёлку, но остановился.
– Имею, – сказал я. – Однажды, летом ещё… смотрел я на улицу из окна. Вдруг – скрип! – «Москвич» резко останавливается, тормозит. Из него выскакивает водитель и двумя ударами – бац, бац! – того человека, который перед капотом «Москвича» оказался. Тот упал, а этот сел, дверцу захлопнул и уехал! А тот – поднялся так медленно и долго-долго пиджак отряхивал, глаз не поднимал. Боялся, что увидели все, как избили его.
– Так, – сказал Зиновий.
– А летом тоже… в Петергофе… садится в автобус девушка, очень некрасивая, с отцом. И думает, что все думают про неё – что все, мол, гуляют, кто с кем, а она – с отцом! И вот посидела она так неподвижно – потом вдруг достаёт, со вздохом, шоколадку, выдвигает из обёртки. Мол, если всё так плохо, хоть шоколаду поем.
Зиновий удивлённо смотрел на меня.
– Вот видишь! – наконец сказал он.
– Ну, так там… ничего нельзя уже поделать! А тут можно ещё сделать, чтоб он не тонул!
– Ладно, – сказал Зиновий, – не в своё дело не лезь. Лучше о себе подумай.
– А что – о себе? А какая у меня роль?
– У тебя тоже – будь здоров! Ты спасаешь лошадей во время пожара.
– Во время пожара? Я вспотел.
Вот это да! То – прорубь, то – огонь. Вот это день!
– Ну, хочешь, вот почитай – режиссёрский сценарий. Вот твой эпизод. – Зиновий протянул мне раскрытую длинную книжечку.
Я посмотрел – на обложке было написано:
Л. Макевнин
КРУТЫЕ МОРОЗЫ
Сценарий широкоэкранного фильма. Режиссёрская разработка Я. Б. Лейкина.
Ленфильм 1976
Я открыл на своей странице. Вот что там было:

Вот это да!
Я разволновался.
Нет… Так нельзя… Надо мягко, ненавязчиво всё узнать.
– Повезло тебе, – сказал Зиновий, – в сотом кадре снимаешься, в юбилейном!
– А сразу же что… я выскакиваю – и крыша сразу же падает? А не может быть…
– Нет. Ничего не может, – сказал Зиновий. – Не первый раз такие сцены снимаем.
– Но крыша обрушивается ведь. Вдруг…
– Никаких вдруг. Отдельно снимем, как ты там прыгаешь, отдельно рушится крыша. Может, даже в разные дни. Понял?
– А что ж – конюшня сгорит?!
– Ты что ж думаешь – мы эту конюшню жечь будем?
– А какую?
– Есть там в лесу старый телятник… достроим немножко – и сожжём!
Вот это да!
– А разрешили?
– Разрешили. Ну, что, хочешь со мной поехать? Куда? В Гатчину. С пожарниками договариваться.
– С пожарниками? Поеду!
Мы сели в «Волгу», выехали на шоссе.
– А вдруг – лес загорится? – спросил я.
…Своими «ненавязчивыми» вопросами я скоро довёл Зиновия до белого каления.
– Останови, Григорий Иваныч, – сказал Зиновий шофёру, – я высажу этого типа в лес!
Григорий Иваныч усмехнулся, но продолжал вести «Волгу» так же быстро.
– А нельзя… без этого? – снова спросил я.
– Без чего – без этого? Без твоей роли? – спросил Зиновий.
Я умолк.
Скоро мы въехали в Гатчину, поехали по улицам, подъехали к зданию с каланчой. Зиновий показал какой-то пропуск, мы прошли мимо часового, поднялись по лестнице.
– Жди здесь! – перед кожаной дверью сказал мне Зиновий.
– А можно, и я пойду?
– Нет уж!
Я остался в коридоре.
Надо же как бывает! И именно сейчас всё надо решать!
Сейчас Зиновий договорится с пожарными – и обратно будет уже не повернуть! Конечно, он говорит, что всё предусмотрено и съёмка такая проводится не первый раз, но всё-таки мало ли что с огнём может случиться?
Я вспомнил вдруг, что отец рассказывал про пожар зерносушилки. Пламя было такое, что рейсовый автобус, который должен был пройти мимо, остановился не доезжая и так стоял, боясь проехать.
Рядом стояла «скорая помощь», и там врачи по очереди делали искусственное дыхание рабочему, задохнувшемуся в дыму.
Оказывается, увидев, что из сушилки выбилось пламя, он в испуге выдернул шланг, который питал печь соляркой, из шланга вырвалась толстая струя солярки, всё вспыхнуло!








