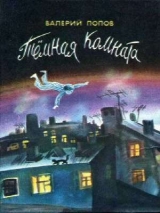
Текст книги "Темная комната"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Папоротники – самые древние растения на земле. Сначала шарик, потом он раскрывается, пальцы поднимаются всё выше, и наконец вся «ладонь» папоротника развёрнута!
Папоротниковые леса встречаются только на Борнео. (Надо съездить!)
ЭПИФИДИИ!.. Олений рог! Присасывается основанием к другому растению, отмирающие нижние листья служат почвой и удобрением! (Умно!)
Сухие, пожелтевшие и скрученные на кончиках вееры пальм! Туловище пальмы покрыто ярко-рыжими волосами, словно там неподвижно сидит мартышка. (Забавно.)
ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА. Финик – самая калорийная еда. (Питаюсь только финиками – решено!)
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО… (Хорошая штука!)
МОЛОЧАЙ – мясистая ядовитая путаница толстых зелёных прутьев. Используется для оград. Хранит влагу в виде белого сока, – там, где они растут, по девять месяцев не бывает дождей.
СЛОНОВЫЙ КАКТУС – листья толщиной с доску!
ОПУНЦИЯ! (Одно название чего стоит!)
ФИКУС – с листьями в виде бокалов. (Остроумно.)
АГАВА. (Бутылка!)
ХИННОЕ ДЕРЕВО. (Бр-р!)
ТАКСИКАРА – дерево-артиллерист! Стреляет своими плодами на гигантские расстояния! (Ложись!)
Мелкими красивыми листьями покрывает камни ВЕНЕРИН ВОЛОС… растёт только в брызгах водопадов… (Неплохо устроился!)
ШОКОЛАДНОЕ ДЕРЕВО – ярко-жёлтые плоды.
АНЧАР.
БАНЬЯНА – одно дерево может занимать гектар.
ГЕВЕЯ-КАУЧУКОНОС… (Понимаю!)
Бамбук, банан – это так, мелочь, считается травой.
Тут ко мне привязалась оса – я спрятался от неё в зарослях лиан.
Потом я как-то отстал от экскурсии. Внимание моё привлекла маленькая дверь с манящей надписью: «Посторонним вход воспрещён!» Я вошёл туда. Оранжерея была низкая, душная, с ржавыми потёками на наклонных стёклах. Где-то вдалеке дребезжало радио. На железной кровати, развалившись, как человек, закинув ноги на спинку, спал кот.
Через эту оранжерею я вышел на улицу. Но и на улице была уже жара, как в оранжерее. На раскрытом окне первого этажа у ржавого подоконника лежали подушки.
Я достал из кармана монеты, направился к автомату газированной воды. Трёхкопеечная монета выскользнула из влажных пальцев, покатилась по кругу, собираясь, видимо, соскочить с тротуара. Я быстро наступил на неё – и она вдруг воткнулась ребром в мягкий асфальт. Я радостно захохотал. Колоссально! Никогда раньше не случалось такого!
И вдруг понял я: и наша жизнь старается, чтобы показать себя интересной, необычной, весёлой, чтобы понравиться другой цивилизации (через меня).
– Ну и дела развернулись! Ну и дела! – бормотал я.
Чтобы передохнуть, я ушёл с солнцепёка в холодную мраморную парадную. Там было прохладно, тихо, перед глазами в темноте поплыли кольца, похожие на полупрозрачные срезы лука.
Уже лёжа в кровати, я не спал, а всё думал: что ещё можно показать другой цивилизации про нашу жизнь? Воспоминания! Они ведь тоже годятся!
Я начал вспоминать, как мы прошлым летом ездили с мамой на юг. Я вспомнил, как поезд долго стоял в поле у светофора и вдруг машинист, потеряв терпение, выскочил, выхватил у крестьянина косу и начал косить.
Интересно, они – из тёмной комнаты – улыбаются сейчас так же, как я?
Выплыла ещё одна южная картинка. Я сижу, расставив ноги, на каменистом покатом берегу, выгребаю из-под себя сероватые круглые камни, они со стуком катятся вниз. Сначала выгребаются только сухие (на ладонях от них остаётся налёт мела), потом идут камни мокрые, тёмные. Среди них всё чаще появляются полупрозрачные сороконожки-мокрицы, упрыгивающие вдруг куда-то мощным прыжком…
На следующий день было воскресенье. Устав вспоминать, что я знаю ещё, я раскрыл старый журнал «Нива»… Пусть поработает за меня, а они пусть посмотрят, какая жизнь тут была раньше, до меня…
Печальная картина: «Дуэль».
Посреди какого-то амбара стоит раздетый по пояс брюнет с усиками, вытирая кровь со шпаги, а второй дуэлянт, откинув голову, лежит на руках друзей.
Картина: «Отбор жемчуга».
Скорбная, бедно одетая красавица перебирает изящными пальцами жемчуг в корытце, а над ней стоит страшная старуха и грозно смотрит. Перевернул сухую страницу.
«Краска для волос «Прима-Индиан»! Быстро, прочно и натурально окрашивает волосы в чёрный, тёмно-русый и русый цвета».
Да ну!
Я отбросил журнал. Журнал этот хихамары, я думаю, могли прекрасно найти и посмотреть без меня… Но они почему-то связались со мной, им нужно зачем-то знать, что знаю именно я… а что я знаю такого, чего не знает никто?!
Я вспомнил вдруг, как года в полтора я ходил по двору на качающихся ногах, шаровары подгоняли меня, раздуваясь, как паруса. В руке я нёс стульчик с круглыми шишечками над спинкой, в другой руке бутылочку с соской и сладким чаем. Примерно за полчаса я добирался до угла двора, освещённого солнцем, ставил прочно стульчик, садился и, закинув голову, пил чай.
Вот… это помню, наверное, только я, но важно ли это?
Потом я вдруг вспомнил совсем недавнее, и снова, как и тогда, обида колыхнулась во мне.
Был адский холод – тридцать два градуса. Я шёл мимо школы, и пар, естественно, валил изо рта. Наш завуч Зоя Александровна увидела этот пар и решила почему-то, что это дым!
Помню, меня вызвали на педсовет и долго требовали, чтобы я бросил курить. В конце концов пришлось дать такое обещание – хотя я в жизни до этого не курил!
Осталась обида и вспомнилась сейчас.
Сперва я хотел остановиться: зачем хихамарам знать, что не всё у нас так уж радостно? А потом махнул рукой: пусть знают всё, что я знаю.
На кухню, где я сидел в одиночестве, вошёл отец. Шутливо сморщившись, как это он любил делать, он посмотрел на меня, потом сел рядом со мной.
– Чего ты тут пришипился, а? – улыбаясь, проговорил он.
Я вспомнил тут, что слово «пришипился», в смысле «притаился», говорят почему-то только в нашей семье. Когда я однажды употребил это слово в школе, все долго хохотали и не могли успокоиться. Было и ещё несколько слов, которые я слыхал только дома. Например: «чувяки», «наничку» (в смысле «наизнанку»). Наученный горьким опытом, я этих слов почти уже не употреблял и почти забыл. Скоро вырасту взрослый и вообще их забуду – и значит, что-то, присущее только нашей семье, исчезнет навсегда.
– Пап, а откуда мы приехали? – спросил я.
– А ты что, забыл, что ли? – обрадовавшись, что можно поговорить (последнее время мы всё молчали), заговорил отец. – Из Казани мы приехали, когда тебе года ещё не было! Совсем не помнишь ничего про Казань?
Что-то я помнил, смутно… как в плетёной коляске на полозьях еду с горы. Тёмное небо, белый снег. Было это со мной или причудилось? Уже не отличишь! Сами пренебрежительно относимся к своим воспоминаниям, к своей жизни, а потом ещё жалуемся, что нам скучно!
– А я рассказывал тебе, как я в молодости головой стекло разбил? – весело спросил отец.
– Нет! Не рассказывал! – сказал я.
– Однажды, это до тебя ещё, мы в Алма-Ате жили, пошёл я на почту посылку получать. Сунулся я в окошко, протянул квитанцию. Почтальонша говорит мне: «Сюда пройдите», – я пошёл вдоль барьера. Она остановилась вдруг, стала посылки разбирать. А я решил почему-то, что и здесь окошко, сунулся, вдруг слышу – звон.
Мы с отцом захохотали. Вот, оказывается, как. И такой факт из отцовской биографии мог бы бесследно исчезнуть, не поговори мы сейчас! И как многое, если подумать, исчезает, а ведь жизнь каждого человека неповторима!
– А… войну ты помнишь? – спросил я.
– Крайне смутно, – улыбнулся отец. – Ведь я же за год до войны родился.
– И что, был когда-то таким же, как я?
– Даже меньше! – улыбнулся отец. – Во всяком случае, когда война шла, гораздо моложе был, чем ты сейчас!
– Ну и помнишь что-нибудь?
– Одну только картинку. На площади пушка стреляет с высоко задранным дулом – и мы, ребята, тут же сидим, на скамейке. Как командир руку поднимет – мы смеёмся и уши ладонями закрываем, чтобы не оглохнуть. Вот это помню, а больше ничего.
– Но как же вы рядом с орудием сидели? Ведь если бы противник ударил, от вас бы кусочки полетели.
– Вот этого не знаю, – сказал отец. – Что сидели – это я помню, а как и почему – не скажу.
Мы помолчали. Вошла мать.
– Чего это вы тут пришипились в темноте? – спросила она.
– Да так… вспоминаем тут жизнь, – сказал отец. – Свет не зажигай, пусть так.
– И ты жизнь вспоминаешь? – улыбаясь, спросила мама. Рука её опустилась мне на голову.
– Ага. И я.
– И есть что вспоминать?
– Ага.
Я любил, когда мы так сидели в темноте и вспоминали, но мы не делали этого почему-то уже давно, года четыре или пять, я почему-то стал стесняться рассказывать что-либо родителям.
– А я рассказывала тебе, как мы с отцом чуть не угорели однажды? – спросила мать.
– Нет, не рассказывала! А когда это было?
– Давно, когда тебя не было ещё!
– А где же я был тогда?
– Вот это неизвестно… Нигде! – улыбнулся отец.
– Так вот, – вспомнив о своём, заговорила мама. – Лет по двадцать было нам тогда, работали мы на селекционной станции, обогревались печкой. И вот однажды проснулась я, чувствую – задыхаюсь. Поднялась и сознание потеряла!
– Ну… и как же вы?
– Ну, тут и я проснулся! Мог бы и не проснуться, между прочим! – сказал отец. – Встал и тут же упал. Только мой длинный рост нас спас: падая, я головой окошко разбил! Морозный воздух пошёл, как-то мы отдышались. Выползли потом на крыльцо и остаток ночи там просидели.
– Холодно было?
– Да… холодновато. Но в дом возвращаться страшно было. Так и сидели, дрожа, до утра! – отец засмеялся.
– Да-а! – сказал я отцу. – Мастер ты, головой стёкла бить!
– Ну! – отец гордо выпятил грудь. – Мастер спорта! А если б не разбил я стекло тогда… глядишь – и тебя бы на свете не было!
Потрясённый этой простой мыслью, я молчал.
– Да брось ты на ночь глядя ужасы рассказывать! – улыбнулась мать.
Меня подмывало рассказать им всё: о тёмной комнате, о страшных снах, о той нагрузке, что легла на меня. Мы молчали. Раздался звонок. Отец открыл.
– Дружок твой к тебе пришёл! – проговорил отец, и они с матерью ушли.
– Ну как ты? – шёпотом спросил меня Гага.
– Тяжело, честно говоря, – признался я. – Если действительно целая галактика на меня смотрит, то тяжело!
– А почему ты решил, что целая галактика? – проговорил Гага. – Может, один всего, такой же малахольный, вроде тебя? Грустно ему стало, он и связался с тобой!
– Один, говоришь? – я помолчал. – А может, ни одного? Может, это всё придумали мы? Обычная комната, ничего в ней нет! Страшные сны и раньше мне снились, – вспомнил я… – Врачей на осмотрах и прежде я удивлял… Может, и нет ничего такого, всё мы придумали?
– …Испугался! – проговорил Гага. – Так я и знал, что ты испугаешься.
– Чего пугаться-то? – разозлился я. – Чего нет?
– Ах, так? – Гага обиженно поднялся. – Ну пошли тогда туда… в тёмную комнату!
Я вздрогнул.
– Нет! Ни за что! Если хочешь – иди, а с меня хватит. Я уже достаточно хлебнул с этой комнатой! Всё!
– Значит, возвращаемся к убеждению, что всё обычно и неинтересно? – усмехнулся Гага.
– Да! – сказал я. – Лучше уж спокойно и неинтересно, чем в напряжении таком, как я живу!
– Ну хорошо. Спокойной тебе ночи тогда! – иронически проговорил Гага и ушёл.
Но, как видимо Гага и хотел, ночь эта получилась не очень спокойная.
Почти сразу же мне приснился сон: я стою с протянутыми вперёд руками в полной темноте и Гагин голос (его самого не видно) тихо бубнит мне на ухо, что вот он получил новую квартиру, но окон в ней пока нет и света – тоже.
– Пока можно только потрогать её руками… хочешь? – говорит Гага. – Пошли!
Двигая руками перед собой, я иду по этой комнате, которая оказывается вдруг бескрайней, бесконечной!
– Сюда иди… сюда, – слышится Гагин голос всё тише. Второй сон был вроде бы простой: мне приснился наш второй двор, в который я давно уже не заходил: кирпичные, выщербленные стены, заросли чертополоха и крапивы, огромные катушки из-под кабеля, на которых мы так любили в детстве кататься. Всё это было освещено солнцем и почему-то вызвало во сне такой прилив счастья, что я проснулся в слезах.
Войдя в класс, я сразу же заметил, что Гаги нет. Сердце как-то булькнуло, застучало. Я вспомнил его лицо в момент нашего расставания у меня на кухне… потом мне вспомнился сон, и я разволновался ещё сильнее.
– Где дружок-то твой? Всё открытия делает? – подошёл к нашей парте Маслёкин.
– Нет, серьёзно, что с ним? – глядя на часы (без одной минуты девять), спросил Долгов.
– Да проспал, наверно! – беспечно ответил я. – Вчера до часа ночи… приёмник паяли!
– Интуиция мне подсказывает, что он вообще не придёт, – почему-то шёпотом проговорил Долгов.
– Почему это? – спросил я.
– Извини, но по вашим лицам давно было видно, что вы что-то серьёзное затеяли! Может, вообще самое серьёзное из всего, что вам в жизни предстоит сделать, – сказал Долгов. – Но вот что вы с друзьями не делитесь – это плохо!
– Да чем делиться-то? – «непонимающе» сказал я.
– Ну-ну! – злобно проговорил Долгов. – Давайте-давайте! То-то я гляжу, вас пятьдесят процентов уже осталось!
– Что значит – пятьдесят процентов? – заорал я. – Ты, соображаешь, что говоришь, – «пятьдесят процентов»?! Говорю тебе: проспал Гага, сейчас придёт. Да и сам подумай-ка трезво: ну что может произойти в наши дни? Холеры в наши дни уже нет! Даже дорогу по пути в школу не переходим! Так что оставь свои шуточки при себе! Всё в полном порядке у нас!
– Поэтому ты так раскричался, – проницательно усмехнулся Долгов.
– С ума сходят люди! – умудрённо проговорил Маслёкин. – Вместо того чтобы джинсы себе приличные раздобыть – исчезают куда-то, а тут волнуйся за них!
– Ты-то волнуешься?! – закричал я. – Да тебе хоть… луна с неба исчезнет – ты не почешешься! Ведь тебе ничего не нужно, кроме кассетника? А что такое электрон, знаешь?!
– Знаю, ясное дело! – зевнул Маслёкин.
– Никто этого не знает. Никто, ясно тебе?
– И… Игнатий Михайлович? – потрясённо проговорил Маслёкин.
– И он не знает, представь себе!.. А что такое бесконечность?
– Это… новая дискотека такая? – проговорил Маслёкин.
– Дискотека! – проговорил я. – Бесконечность… это то, на чём самые великие люди… головы ломали! Ведь должна же Вселенная кончаться где-то?
– Должна, – согласился Маслёкин.
– Но за этим концом, за этой стенкой… что?
– Не знаю…
– Вот именно! Если бы ты знал, то давно уже президентом Академии бы стал! Ну… видимо, за стенкой этой еще что-то?
– Видимо, – кивнул Маслёкин.
– А за этим «чем-то» что-то ещё?
Маслёкин кивнул.
– Ну и как же всё это кончается? – проговорил я. – Не думал?
Маслёкин медленно покачал головой.
– Так что, – проговорил вдруг он. – Гага… в бесконечность, что ли, ушёл?
Все оцепенели вокруг. Правильно говорят: «Устами младенца глаголет истина». Раздался звонок.
– …А где Смирнов? – оглядывая класс, спросил Игнатий Михайлович.
– Он отсутствует! – опередив дежурного, вскочил я. – Он, наверное, заболел! Можно мне навестить его?
– Что… прямо сейчас? – Игнатий Михайлович изумлённо посмотрел на меня, и мой вид его, вероятно, напугал. – А что с ним?
– Он в бесконечность упал! – пробасил Маслёкин, пытаясь всех рассмешить или хотя бы поднять настроение.
– Он дома сейчас? – спросил Игнатий Михайлович.
– Да, – сказал я, всей душой надеясь, что это именно так.
– Ну иди, – сказал Игнатий Михайлович.
Я выскочил из класса. На широкой мраморной лестнице чуть было не столкнулся с директором – он испуганно отстранился и посмотрел на меня с удивлением.
«Рухнула моя школьная карьера!» – мелькнула мысль.
Я вбежал в наш двор, глянул на стекло тёмной комнаты (оно красиво отражало белое облачко), поднялся по Гагиной лестнице, походил, остывая, на площадке… если всё в порядке – тьфу-тьфу! – нечего своим видом сеять панику!
Осторожно позвонил. Раздалось бряканье замков – и по лицу Гагиного отца я сразу понял, что худшие предположения подтверждаются.
– Нет? – сразу спросил отец и тут же махнул рукой: – Ну ясное дело.
Мы вошли в их комнату. Мать, подняв голову, поздоровалась со мной.
– Ты в школу заходил? – спросила мать. Я кивнул.
– Да ты соображай хоть, что спрашиваешь! – закричал Гагин отец. – Ведь крюк-то не поднят на двери, как он мог в школу уйти, если крюк на двери не поднят? Может, и не впускала ты его вчера вечером?
– Да что я, ненормальная, что ли? – закричала Гагина мать. – Спала уже, услышала звонок, пошла, подняла крюк, впустила его. И снова крюк опустила.
«Что они говорят? – подумал я. – У них сын пропал, а они повторяют – крюк, крюк!»
– Так значит… он в квартире где-то сейчас? – подсказал я.
Мать вздрогнула. Отец гневно отмахнулся рукой.
– Где в квартире-то? Скажи лучше, что не впускала его вчера, не удосужился появиться твой сынок! А теперь выгораживаешь его, а зачем? – Отец в основном нападал на мать, я как-то оказывался тут ни при чём.
– Да впускала я его!
– Прекрати! – Отец грохнул по столу.
«Да-а… понимаю теперь, почему Гага так в тёмную комнату стремился!» – подумал я.
– Вот вы говорите «крюк», – осенило вдруг меня. – А как же сосед ваш, кочегар, к себе попадал, когда поздно приходил?
– А это уж не наше дело! – ответила мать. – Мы закрывали дверь на крюк и ложились спать! Как он там попадал – не наше дело.
– Так, выходит, ещё какой-то вход в вашу квартиру имеется?
Отец и мать Гаги испуганно застыли.
Чувствовалось, мысль о том, что как-то можно пробраться в их квартиру, их пугала гораздо сильнее, чем исчезновение сына.
– Так где ж ход-то? – засуетилась мать. – В его комнате, что ли?
– Ну да! – сказал отец. – Видно, из кочегарки есть ход, прямо в комнату его. Мы-то спокойно думали себе, что он в кочегарке ночует каждый раз, а он преспокойно к себе в комнату пробирался!
– Но ведь к себе же! – робко проговорил я.
– Так у нас же общая квартира! – грозно проговорила мать. – Если он сам тайком проходил, – значит, и дружков каких угодно мог приводить!
До них пока что не доходила мысль, что их сын мог уйти этим ходом, их целиком занимало то, что кто-то мог войти в их квартиру. «Да-а! Понимаю Гагу!» – ещё раз подумал я.
– Жаль, что кочегар этот непонятный… комнату свою, наверно, запер… а то поглядели бы мы, что это за ход! – с угрозой проговорил отец. – Да и не одни, а с милицией да с понятыми! – добавил он.
«Ну и люди! – подумал я. – Совсем уже забыли о том, что сын их исчез!»
– Да не закрыта вовсе комната его, – буркнул я, пытаясь дать им понять, куда исчез их Гага, но они коршунами впились в меня.
– А ты откуда знаешь?! – хором проговорили они. – Сам, стало быть, через лазейку к нам в квартиру проникал? Говори! – Они схватили меня за плечи.
– Нет, через лазейку в квартиру не проникал! – пытаясь усмехнуться, выговорил я. – Но вот через квартиру в «лазейку» пытался проникнуть.
– А! – Гагин отец отмахнулся от моих слов как от бессмысленной болтовни (для них важно было лишь то, что касалось проникновения в «их» квартиру). – Надо квартуполномоченного вызвать, да заколотить комнату его, да запечатать! Чтоб никому неповадно было ходом этим пользоваться!
– Но там же… Гага! – выговорил я. – Как же он вернётся?
– В дверь пусть возвращается, как все люди! – сказала мамаша. – А лазейками только воры пользуются, с которыми он, видно, связался! – Она почему-то злобно глянула на меня.
Дальше спорить с ними было бесполезно.
– Так что в школе сказать, где Смирнов? – спросил я.
– Скажи, из дому убежал! – сказал Гагин папаша.
– Прощайте! – сказал я, вышел из их комнаты и быстро и бесшумно пошёл к комнате кочегара. Тихо, стараясь не скрипнуть дверью, вошёл туда, остановился перед распахнутой дверью в тёмную комнату.
«Так. Кое-что понятно, – подумал я. – Не доказано ещё, имеется ли в тёмной комнате выход в другие галактики, но что она тайной лестницей соединяется с подвалом – это теперь понятно. Так что Гага, вернее всего, не в другом времени и пространстве пребывает, а просто в подвале заблудился. Тоже не такое уж приятное дело, но всё же лучше в подвале заблудиться, чем в бесконечности!»
И я вошёл в тёмную комнату… Долго и медленно ходил там, вытянув руки, нашаривая ногой путь перед собой, и вот нога моя вдруг оступилась, голова встряхнулась, зубы лязгнули… Так! Действительно – углубление в полу! Первая ступенька! Стоя на ней одной ногой, я присел, стал другой ногой нащупывать следующую ступеньку… страшно было опускать свою собственную ногу в неизвестность! Есть! Вторая ступенька неожиданно оказалась чуть сбоку, лестница спускалась и поворачивалась, была, видимо, винтовой. Я спустился на вторую ступеньку, на третью. Сердце стучало в горле. Я спускался в сырость и в холод… в подвал… или куда-то в новую неизвестность?
Как я уже, кажется, говорил, время в темноте изменяется. Сколько я спускался по этой лестнице? Не знаю! Казалось, очень долго.
Наконец я вступил на ровный – теперь уже каменный – пол. Ура! Значит, действительно есть лестница и комнаты в подвал. Самая большая радость: когда возникает что-то вдруг в твоей голове, поначалу кажется дикостью, а потом вдруг подтверждается! Я теперь понимал, какое ликованье испытывает учёный, когда один на всём свете вдруг представляет что-то, а потом это что-то находит, именно такое, как представлял!
Так и с лестницей – сначала я придумал её, а потом она действительно обнаружилась, в полной тьме!
Я пошёл вперёд по тёмному коридору. Коридор этот, как я чувствовал по запаху, был уже знакомый, почти домашний, – тот самый, что вёл от кочегарки к тёмному залу. Я шёл уже быстро и небрежно, почти не протягивая руки вперёд, – ну что может быть неожиданного в этом коридоре, можно сказать, уже родном? А вот и родная бездна: повеяло оттуда холодом, волосы зашевелились.
Взял я фонарик в зубы, повис на краю обрыва… Тогда-то мы хоть с верёвки прыгали – всё-таки не так высоко! Пошарил – может, найду нашу верёвку? Не нашёл! Ну что ж, хочешь не хочешь, а надо прыгать! Я разжал пальцы и полетел вниз, волосы развевались!
Приготовился в воду плюхнуться, заранее сжался от холода, но вместо того трахнулся вдруг ступнями о каменный пол! Весь скелет перетряхнуло!
«Вот так! – подумал я. – Ушла отсюда вода! Другая геологическая эпоха тут наступила. И я это открыл! Большой успех юного учёного!» – Я стал от радости хохотать, и со всех сторон гулкое эхо пришло: значит, не бесконечный этот зал, имеет стены! Это ещё больше приободрило меня!
Пошёл вперёд. Приятно: твёрдый камень под ногами, иногда в темноте блеснёт маленькая лужица. Потом вдруг увидел перед собой круглую колонну, долго смотрел на неё, потом понял: та самая труба с крышкой-люком наверху, на котором мы отдыхали, когда плыли!
Дальше двинулся, пешком идти гораздо быстрее оказалось, чем плыть. Вот и стена передо мной поднялась. Поискал по стене, нашёл впадины, которые мы вырубили, вот они: всё знакомое и родное!
Но где же тут Гага? Куда исчез?
– Га-а-а-га-а-а! – я завопил.
Только эхо, и то далеко не сразу, ответило мне… Куда же запропастился он, тут вроде и заблудиться-то негде?!
Полез по стене вверх. Всё привычно уже.
Взобрался, передохнул.
Дальше коридор пошёл, тоже уже знакомый, со знакомым уже запахом: холодом пахнет, запустением, пылью.
И как и помнил я, за поворотом свет показался: тёмный прямоугольник, обведённый лучистой щелью… дверь!
Добежал до неё, толкнул – она со скрипом открылась! Всё, как и в прошлый раз, – даже неинтересно! Над дверью высокая крепостная стена нависает, впереди – узкая полоска песка, ивовые кусты у воды. Переплыл воду на плавающем столе, как тогда, когда мы с Гагой сюда пришли…
Но где же он? Куда исчез?
Посмотрел я на «окна в землю» – старые оранжереи, на фундамент старого дома, заросший цветами, – всё так же, как и тогда… Но где же Гага сейчас, вот загадка!
И стёкла, и кирпичи многозначительно молчали.
Я дальше пошёл, на небольшую горку поднялся и там трамвай увидал – обыкновенный трамвай тут ходил, номер 11!
И, дождавшись обыкновенного этого трамвая, я сел на него и минут через десять входил уже в наш двор.
Гагина мать смотрела в окно на меня, и по лицу её я понял, что ничего не изменилось.
Я пошёл к себе домой, в прихожей посмотрел в зеркало – и ахнул! Вот, оказывается, почему все в трамвае смотрели на меня с таким изумлением! Поседел! Совершенно поседел! Я провёл ладошкой по голове – и поднялось белое облачко… штукатурка! Вот оно что!
Я собрался было пойти в школу, ещё можно было поспеть к последнему уроку, но потом решил всё-таки остаться. Ведь если Гага появится, – в первую очередь, ясно, ко мне придёт!
Я походил нервно по комнате, уселся к столу. Учёба (я, конечно, извиняюсь) не лезла в голову. Я переложил себе на стол толстую зеленоватую пачку журналов «Нива», стал, усмехаясь, – всё-таки есть что-то смешное в прошедшем времени! – читать рекламные объявления, окружённые рамочками и виньеточками, – читать сейчас что-либо более серьёзное я не мог.
«Известна ли вам парфюмерия «Идеал»?
«Незнакома, – подумал я. – Но охотно познакомлюсь!»
Ниже – распущенные волнистые волосы красивой девушки служили рамкой такого объявления:
«Перуин» идёт навстречу желанию всех людей иметь РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ и освобождает людей от столь тягостного выпадения волос».
Замечательно!
«Бритвы отличной шлифовки и лучшей стали. Безопасные бритвы «Стар». Полные бритвенные наборы! Иллюстрированный каталог высылаю бесплатно».
«Пока ещё не бреюсь, – подумал я. – Но буду иметь в виду!»
«Гематоген д-ра ГОММЕЛЯ!
Слабые или уставшие в учении дети, нервные и переутомившиеся, легко раздражающиеся! Аппетит увеличивается, душевные и телесные силы повышаются, вся нервная система усиливается!»
Вот это для меня в самый раз!
«Лучшее средство для истребления крыс и мышей!»
Вот это ни к чему!
«САМОКРАСЯЩИЕ ГРЕБЁНКИ «ФОР» красят волосы в любой цвет. Стоимость – 2 р. 50 коп.».
Вот такие штуки хорошо бы иметь! На одном уроке я появляюсь абсолютно чёрный, на другом – ослепительно рыжий! Бешеный успех, в том числе и у Ирки Роговой!
«Машинка для МАССАЖА ЛИЦА изобретателя Генриха Симмонса».
Тоже неплохо иметь такую вещь! Тебя вызывают к доске, а ты деловито так говоришь: «Одну минуту! Сейчас я только закончу массаж лица!»
Огромная узорчато-фигурная цифра «4», к ней пристроена надпись. Получается, стало быть, следующее:
«Уже 4 поколения опытных хозяек стирают мылом А. Д. Жукова».
Нет, нынешние поколения хозяек, насколько мне известно, мылом Жукова не стирают!
Ниже – красавец с усами до ушей и подпись:
«Остерегайтесь подделок! УСАТИН А. ГЕБГАРДТА!
Даёт всяким усам удивительно изящную форму и сохраняет глянец и мягкость. Даже самые маленькие усы делаются большими и густыми. Флакон стоит 1 руб.».
Да-а… не слабо! Появись я с такими усами в школе – это была бы сенсация!
«За этими и другими покупками обращайтесь на склад ТОВАРИЩЕСТВА ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ провизора А. М. Остроумова. Караванная, 16».
Тут я выронил журнал, расклеенные странички рассыпались.
Караванная, 16! Это же наш дом! Наша улица называлась раньше так – Караванная! По ней, видимо, шли караваны и везли товары!
Самокрасящие расчёски! Флаконы с «Усатином»!
И ещё – я прочитал на поднятой с пола странице:
«Гармонии однорядные»!
«Пишущие машинки „Идеал″».
«Атласы звёздного неба».
«Пианино фабрики „Оффенбахер″».
Интересно, из верблюдов состояли караваны или не только из них?!
– Бабушка! – Я побежал с листочками журнала на кухню. – Оказывается, в нашем доме был склад «Товарищества парфюмерной фабрики провизора А. М. Остроумова»!
– В нашем доме много чего было! – невозмутимо проговорила бабушка, снимая пену с бульона.
– Но как же! – закричал я. – Этого же никто не знает! Я первый это открыл!
– Да, может, кто-нибудь и знает, но, вернее, забыли уж все! – вздохнула бабушка. – Что пять-то лет было назад – многие не помнят, а тут – целых восемьдесят лет прошло. Уж некому и помнить!
Ну, колоссально, что это я узнал! Куда же Гага запропастился? Я бегал по двору, пытаясь что-то разглядеть в окнах тёмной комнаты, но там, как и обычно, была тьма.
Тут я разглядел ещё одну удивительную вещь в нашем доме: окно первого этажа, за которым жили Маслёкины, было вовсе не окном, а дверью до самой земли, которую Маслёкины, правда, никогда не открывали. Понятно теперь, что это за дверь: как раз через неё провизор Остроумов продавал желающим «Перуин», «Гематоген доктора Гоммеля», «Самокрасящие гребёнки „Фор”», «Машинки для массажа лица», «Усатин А. Гебгардта».
Во двор входили кавалеры с усами жиденькими и короткими, а выходили с пушистыми чёрными усами до ушей!
Вот она, эта волшебная дверь! Ещё одно открытие! И не с кем поделиться! Ну где же Гага?
Около двенадцати я лёг спать, но всё вздрагивал от малейшего шороха – вдруг Гага из места своего пребывания даст сигнал? И действительно, вдруг кто-то коротко, отрывисто постучал по трубе отопления. Я резко вскочил, прислушался. Но стук этот больше не повторился… Видимо, это не он. Мало ли кто может задеть по трубе? Тот же двухлетний братец Маслёкина часами барабанит по батарее, собираясь, как и сам Маслёкин, сделаться ударником в рок-группе.
Было тихо. Я пригрелся под одеялом, засыпал. Уже в полусне я вдруг вспомнил, как в возрасте лет двух, засыпая у этой же батареи, казавшейся тогда мне огромной, и слушая таинственное бульканье в ней, представлял себе, что в трубах, идущих к батарее, живут рыбки и долго стоят в длинной очереди в трубе, чтобы попасть наконец в батарею и порезвиться, поплескаться на просторе.
Уже засыпая, я думал, передавать про рыбок хихамарам или не передавать – ведь на самом деле рыбок там, ясное дело, нет. Но ведь и хихамаров, конечно же, нет, пришла успокоительная мысль, и я совсем уже погрузился в сон.
Во сне я снова оказался в подвальном коридоре, у винтовой лестницы, поднимающейся в тёмную комнату. Постояв, я вступил на первую ступеньку, потом на вторую. В руке я держал почему-то свечу, и пламя её, когда я пошёл, качнулось ко мне. Я заслонил свечку рукой – ладонь стала красная, почти прозрачная. Было очень страшно, но слегка успокаивала мысль, что это всё-таки сон, в крайнем случае можно проснуться.
Я шёл по винтовой лестнице, поворачиваясь, и вдруг голова моя оказалась в комнате, ярко освещённой луной. Вот она наконец-то, эта комната, наконец-то я ясно её вижу, хотя и во сне!
Глядя на стены, смутно различимые в лунном свете, я шёл по комнате, и вдруг сердце моё прыгнуло как лягушка и дико заколотилось. Ужас сковал меня – и он был особенно силён потому, что я не понимал его причины. Произошло что-то страшное, но что – я сразу понять не мог. Я посмотрел на руки, на ноги, ощупал лицо – всё вроде бы нормально. Я повернулся к окну и оцепенел: на небе был другой месяц! Когда я только вошёл в комнату, месяц был повернут серпом вправо, как дужка в букве «Р», – это обозначало, что месяц растёт. Теперь же серп был направлен влево, буквой «С», – это означало, что месяц сходит.
Я вернулся с колотящимся сердцем к тому месту в комнате, в котором я заметил это изменение, сделал шаг назад – снова «Р», шаг вперёд – снова «С».








