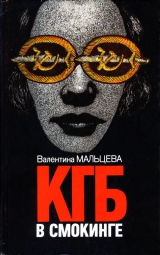
Текст книги "КГБ в смокинге. Книга 2"
Автор книги: Валентина Мальцева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
19
ПНР. Шоссе
Ночь с 5 на 6 января 1978 года
Пржесмицкий явно преувеличивал свой оптимизм. Задолго до посвящения в «непосвященные» и явно несостоявшиеся агенты КГБ я всегда умела остро чувствовать тревогу, которую испытывали окружающие. Ощущала ее физически. Помню, как-то на студенческой вечеринке, где разговоров и смеха было гораздо больше, чем съестного на колченогом столе (что вообще характерно для тех прекрасных лет), я сидела рядом с эффектной, не по-советски одетой и размалеванной девицей, которую привел один из моих шалопаев-сокурсников. Девица явно не «въезжала» в суть происходившего, я видела, что остроты и каламбуры собравшихся были ей просто неинтересны. Но самое любопытное заключалось в том, что от нее исходили какие-то токи. Вначале у меня начался зуд в левом боку, а еще через несколько минут левое плечо стало буквально ломить от боли. Ничего не понимая, я искоса взглянула на соседку, но увидела только сжатые до толщины копилочной прорези губы и напряженный подбородок. Когда боль в плече стала невыносимой, я под каким-то благовидным предлогом пересела и вскоре начисто забыла неприятный эпизод. А спустя несколько дней узнала, что в ту же ночь эта девица повесилась в ванной родительского дома. Какая-то банальная история: неразделенная любовь, женатый отпрыск знатного семейства с Кутузовского проспекта, беременность на пятом месяце…
Теперь у меня болело не только плечо, но и затылок, запястья и спина. И я знала, что это не от нервотрепки или недосыпа. Зловещая атмосфера тревоги и неопределенности буквально витала над головами пассажиров «татры». Если бы мои странные попутчики ругались матом, передергивали затворы пистолетов и вообще демонстрировали признаки активной и даже враждебной деятельности, все было бы не так страшно. Но в машине царила мертвая тишина, как будто мы были одной убитой горем семьей, возвращавшейся с похорон близкого человека. Мы ехали по глухой и совершенно безлюдной трассе уже больше пяти часов. Редкие встречные машины с ревом проносились мимо и тут же растворялись в метельной мгле. Временами нас заносило, но водитель уверенно выправлял руль. Майор все чаще поглядывал на часы, но не произносил ни слова.
После того как в лесу «сошли» два пассажира, в «татре» стало значительно просторней. Однако даже в плавучей тюрьме сухогруза «Камчатка» я чувствовала себя более комфортно, нежели в салоне этой странной машины, мчавшейся в неизвестность.
Пржесмицкий, очевидно, исчерпавший во время нашей беседы в лесу месячный запас красноречия, молчал, как памятник Пушкину на одноименной московской площади. Вшола, теперь сидевший справа от меня, по-детски вздыхая, спал. Водитель, который так ни разу и не открыл рот, тоже не вносил разнообразия в замкнутое пространство салона.
– Милиционер родился, – тихо вздохнула я.
– Что? – полуобернулся Пржесмицкий.
– Это в России так говорят. Когда молчание продолжается больше пятнадцати секунд.
– Вы хотите убедить меня в том, что Россия – родина болтунов?
– Взгляните на себя в зеркало, пан Пржесмицкий. Разве вы похожи на человека, которого в чем-то можно убедить?
– Вы очень устали, пани, – вздохнул он. – Потерпите немного. Скоро мы будем на месте.
– Может быть, уточните, на каком именно? В порядке, так сказать, международного обмена и доброй воли.
– Вы думаете, если я вам отвечу, мы доедем до этого места быстрее?
– Хотите, я скажу, откуда родом ваши родители, а может быть, и вы сами?
Пржесмицкий перекинул согнутую руку через спинку сиденья и уже с интересом поглядел на меня:
– Скажите.
– Из какого-нибудь украинского местечка. А может, даже из Черновцов. Так что у меня есть для вас пикантная новость, пан Пржесмицкий: вы, извините, еврей…
Возможно, мне это только показалось, но бетонный затылок водителя слегка шевельнулся. Тем не менее на меня это наблюдение произвело совершенно ошеломляющий эффект.
– Что, действительно похож? – вдруг хмыкнул Пржесмицкий.
– А не должны быть похожи? – спросила я.
– А кто в таком случае вы, пани?
– А то вы не знаете?
– Вы полагаете, я должен знать?
– А вы хотите, чтобы я поверила, что вы устроили пальбу на мирном советском сухогрузе и вечерние автогонки с тайными похоронами исключительно потому, что увидели через иллюминатор мое лицо и сразу признали во мне родную сестру, считавшуюся пропавшей без вести?
– Мою сестру сожгли в Треблинке, – тихо сказал Пржесмицкий. – Ей было восемь лет…
– Извините меня.
– О чем вы, пани? – Пржесмицкий пожал плечами. – Вашей вины тут нет.
– Простите меня еще раз… – я чувствовала, как горят мои щеки.
– Вы еврейка?
– По матери.
– Еврейка, – уже утвердительно кивнул Пржесмицкий. – Ваша мать жива?
Я молча кивнула.
– Вы единственный ребенок в семье?
– Да.
– Нас, к счастью, было двое… – Пржесмицкий взглянул на светящийся циферблат наручных часов. – Но сестру свою я не помню. Так что мы с матерью остались одни.
– А ваш отец?
– Вам что-нибудь говорит такое географическое название – Катынь?
– Н-не думаю.
– Ну да, конечно… – по губам Пржесмицкого скользнула горькая усмешка. – Об этом в ваших учебниках истории не пишут. Короче, пани, мою сестру сожгли эсэсовцы, а отца расстреляли ваши коммунисты. Он был офицером. Польским офицером. Хотя его мать – тут вы правы, пани – родилась на Украине.
– Коммунисты вовсе не мои, пан Пржесмицкий.
– Да уж, – хмыкнул мой собеседник. – Что не ваши, это точно. У меня не так давно была возможность убедиться в этом.
– И теперь, значит, вы воюете против всего мира?
– А кто вам сказал, что я воюю? – он отвернулся к окну, словно потеряв интерес к беседе. – Воюют по приказу. А я – человек убеждений. Следовательно, я не воюю, а дерусь.
– И за меня тоже?
– Получается, что так…
– Но почему? Вы же меня не знаете.
– Я не могу ответить на ваш вопрос, пани, – не отрываясь от окна, сказал Пржесмицкий. – Впрочем, вы достаточно умны и наблюдательны, чтобы понять все и без моих разъяснений…
Он вновь умолк, и я поняла, что наш диалог прервался окончательно. «Вы достаточно умны и наблюдательны…» Какой женщине не было бы приятно услышать такое, да еще от совершенно нормального, смелого и дельного мужчины? Но не в машине ведь, из которой в полночный час в темном лесу сгрузили двух покойников, а где-нибудь в теплом и со вкусом обставленном месте, под тихую и нежную музыку, с чашкой ароматного кофе в руках…
Мне было о чем поразмыслить, хотя от бессонницы и пережитого страха я чувствовала себя основательно отупевшей. А чего еще можно было ожидать после полуторамесячного шпионско-бандитского сериала с короткими перерывами на романтическую любовь и посещение фешенебельных ресторанов, сериала, который не то что смотришь по телевизору, забравшись с ногами в теплое кресло, а проживаешь собственной шкурой? Как и, главное, на что реагировать, когда едешь в одно место, почему-то оказываешься в другом, мечтаешь очутиться в третьем, а тебя буквально выдергивают и силком перемещают в четвертое? Вот и выходит, что в принципе нормальное выражение «череда драматических событий» превращается в некую бутафорию, в эрзац, в банальность с фальшиво-театральным оттенком, которую я всю жизнь ненавидела…
– Простите, пан Пржесмицкий, у меня еще один вопрос, – быстро проговорила я, боясь нарваться на ставшее привычным «Заткнись!».
– Слушаю, пани… – Пржесмицкий сделал легкое движение, словно собирался обернуться, хотя на самом деле он только шевельнул плечом: типичный рефлекс интеллигентного от природы мужчины, который так и не научился (даже когда без этого просто не обойтись) хамить женщине.
– Я знаю, что после таких вопросов люди вашей профессии почему-то сразу хватаются за оружие…
– Не припомню, пани, чтобы я сообщал вам что-то о своей профессии, – с некоторым напряжением в голосе откликнулся майор.
– Подумаешь, – я беспечно пожала плечами. – Наверняка вы не слесарь. Но позвольте мне закончить. Так вот, пан Пржесмицкий, вы и ваши люди случайно не из ЦРУ?
– Очень странный вопрос для подданной СССР.
– Почему?
– Мне показалось, что вы задали его с надеждой.
– С чем бы я его ни задала, вопрос прозвучал. Ответите или будете и дальше изображать из себя майора Вихря?
– А это еще кто? – удивился Пржесмицкий.
– Герой советско-польской литературы. Военноприключенческий жанр. Можете не отвечать, заранее знаю: не читаете, не интересуетесь. Так, значит, вы не из ЦРУ?
– А это имеет для вас какое-то значение? – очень спокойно осведомился Пржесмицкий и, не дожидаясь ответа, сухо отрезал: – По-моему, главное для вас – знать, что мы не из КГБ. То есть что самое страшное для вас позади. Почти позади…
– Вы чем-то обеспокоены?
– Господи! – взорвался наконец Пржесмицкий. – Да вам-то что до этого?
И тут произошло невероятное: водитель плавно притормозил, потянул на себя рукоятку ручного тормоза, повернулся к Пржесмицкому и произнес человеческим голосом, но на непонятном мне языке, слово, которое я впоследствии часто вспоминала:
– Игану…
20
Москва. Лубянка. КГБ СССР
Ночь с 5 на 6 января 1978 года
Электронные часы, вмонтированные в стену над подарочным барельефом, изображающим донбасских горняков со знаменами и отбойными молотками в руках, показывали тридцать пять минут третьего. До рассвета, а значит, и до начала нового рабочего дня, было еще далеко. Однако, проведя бессонную ночь в служебном кабинете, шеф советской внешней разведки Юлий Воронцов никак не мог заставить себя вызвать служебную машину и отправиться домой, чтобы хоть немного отдохнуть перед неизбежной встречей с Андроповым. То, что произошло в Польше за последние шесть часов, не внушало ему серьезных опасений. Он испытывал только легкую досаду, как человек, загнавший занозу в палец и не имеющий под рукой ни иглы, ни пинцета, чтобы удалить ее.
Тем не менее заноза раздражала, не давала покоя.
Отправив на борт «Камчатки» срочную шифрограмму о прекращении работы с Мальцевой, начальник Первого управления намеревался уже, как и подобает всякому добросовестно потрудившемуся человеку, уехать домой, на Кутузовский, но, включив мимоходом телевизор, попал на только что начавшуюся трансляцию одного из решающих хоккейных матчей в очередной серии советско-канадских встреч и… решил, как говорится, раз в жизни позволить себе небольшую роскошь. К середине первого периода наши забили три шайбы, пропустив всего одну, и неукротимый Фил Эспозито уже показывал красноречивыми жестами судье-американцу, что он с ним сделает в самолете.
В перерыве Воронцов размышлял о предложенной председателем КГБ схеме завершения грубо проваленной голландской истории. Схема выглядела достаточно гибкой и в очередной раз подтверждала неоспоримую привилегию генералов в штатском: сражаясь за себя, за свою политическую карьеру, Андропов как бы автоматически прикрывал и их. Естественно, так было всегда. Даже при хитроумном плейбое и пижоне Шелепине. Даже при узколобом комсомольце Семичастном. Но, заполучив в кресло председателя КГБ такого изощренного стратега и умницу, как Андропов, высшие чины Лубянки поняли наконец истинный смысл выражения «у Христа за пазухой». Поэтому огорчения генерала Воронцова, связанные с предательством Мишина и исчезновением Тополева, носили не личный, а, так сказать, корпоративный характер. Такие проколы, как захват американцами личного помощника председателя КГБ СССР, могли дорого обойтись самому Андропову, чьи политические амбиции отнюдь не были секретом для его ближайшего окружения. Следовательно, опасность угрожала и всем тем, кто при хорошем раскладе мог бы взлететь вместе с ним на вершину власти или – при плохом – остаться без головы.
Воронцов знал, как относится к нему большой шеф. Иначе и быть не могло: председатели КГБ приходили и уходили, кто-то взбирался еще на несколько ступеней вверх, кто-то прозябал в провинции или просто исчезал из виду, а начальники наиболее важных, стратегических управлений Лубянки менялись исключительно редко. И дело не только в том, что магистрам такого ранга трудно найти замену. Лишь единицы среди членов Политбюро – избранные, посвященные, многократно проверенные и выжившие в невидимых закулисных битвах – знали истинный масштаб информированности деятелей калибра Воронцова, применительно к которым само понятие «отставка» воспринималось как нонсенс. Скоропостижная кончина – да. Включение в состав Политбюро в качестве кандидата или даже члена – да. Но только не отставка. Ибо существует непреложное правило для любой государственно-политической системы, какой бы авторитарной или демократичной она ни была: по-настоящему информированный человек может уйти только в небытие…
С десяти вечера Андропов, уехавший на дачу, не давал о себе знать. Воронцова это не удивляло: тревожащая нештатная ситуация была практически урегулирована. Андроповская схема, согласно которой майор Матвей Тополев объявлялся предателем, перекинувшимся в ЦРУ с целью опорочить славные советские органы, автоматически снимала ответственность за этот грубый прокол с чинов Лубянки и как бы перепасовывала его на половину больших политиков и профессиональных дипломатов. Показания Мишина также не имели теперь принципиального значения, ибо офицер разведки, не выполнивший приказ своего начальства и пустившийся в бега, – вне закона в любой стране. Даже в той, с которой, вполне возможно, уже сегодня сотрудничает этот подонок. Единственная загвоздка заключалась в устранении столичной журналистки, так внезапно, а главное, несвоевременно ставшей свидетельницей ряда весьма неприятных для Андропова и его службы эпизодов…
Автоматически зафиксировав, что он впервые за этот бесконечный вечер определил для себя устранение Мальцевой как «загвоздку», Воронцов нахмурился. Коль скоро он уже все равно задержался на Лубянке, не мешало бы увидеть своими глазами сообщение из Гдыни о том, что приказ, закодированный в отосланной шифрограмме, благополучно и без лишних свидетелей исполнен.
Второй период прошел в вязкой, взаимоизнуряющей игре, а к концу третьего канадцы рассвирепели и счет стал равным: пять-пять. Чем закончился матч, Юлий Андреевич так и не узнал, потому что в дверь кабинета неожиданно постучали.
Полковник Васильев, начальник шифровальной службы Управления внешней разведки, вошел и застыл у высокой резной двери.
– Ну?! – нетерпеливо мотнул головой Воронцов. – Из Гдыни?
– Так точно, товарищ генерал! – отрапортовал Васильев. Не дожидаясь новых приглашений, он подошел к столу Воронцова и положил перед ним перфорированный лист шифрограммы с припечатанной внизу дешифровкой.
Охватив суть информации буквально одним взглядом, Воронцов молча кивнул, отпуская Васильева. Как только за ним закрылась дверь, генерал схватил трубку внутренней связи, набрал три цифры и коротко бросил:
– За Щербой послать. Немедленно!
Через пятьдесят пять минут у длинного полированного стола, за которым Воронцов проводил совещания отделов, сидел относительно молодой человек атлетического сложения, в строгом черном костюме и при галстуке.
Воронцов положил перед ним шифрограмму, сел напротив и вопросительно взглянул на подчиненного:
– Ну, что скажешь?
– Это не американцы, товарищ генерал-лейтенант.
– Не их стиль?
– Не их.
– С другой стороны, – Воронцов смотрел поверх головы собеседника, словно разговаривая сам с собой, – никто, кроме американцев, не был заинтересован в этой акции.
– Почему?
– Все концы – у них. Тополев в Лэнгли, это уже ясно. Следовательно, только они понимают, насколько важна для нас эта милая дама…
– Польская сторона в курсе дела?..
– А куда денешься? – вздохнул Воронцов. – Ловить-то гостей придется им. Узловые перекрестки уже перекрыты… Ладно, записывай… – Генерал поднялся из-за стола. – Первое: отделу проанализировать вероятные маршруты группы. Предпочтение – основной и проселочным дорогам, ведущим в сторону Щецина. Плюс – план профилактических мероприятий на всех направлениях: число людей, характер перекрытий, экипировка, состав групп и так далее. На все – тридцать минут…
Щерба поднял глаза от блокнота:
– Вы полагаете, они хотят уйти через ГДР?
– Оптимальный вариант… – Воронцов почесал переносицу. – В запасе у них – часа три-четыре, не больше. Куда попилишь в таком цейтноте? Через всю страну, на Чехословакию?
– А морем?
– Береговая охрана поднята по тревоге. На «Камчатке» поработали крепкие профессионалы. Морем вряд ли пойдут: шансы почти нулевые.
– А что им даст Щецин, товарищ генерал-лейтенант?
– Порт… Граница с ГДР… Убежище на некоторое время… Возможно, есть еще варианты. Просчитывайте!
– Понял.
– Ты вылетаешь в район поисков в течение часа. С ВВС вопрос уже прокашлян. К прочесыванию, как рассветет, подключится Войско Польское. Но имей в виду: общее руководство операцией – на тебе. Вопросы есть?
– Никак нет, товарищ генерал-лейтенант!
– И еще одно, Анатолий: мне никто не нужен. Ни один человек из этой группы.
– Понял.
– Тогда ступай…
21
ПНР. Шоссе
6 января 1978 года
…Мы стояли с выключенным мотором на глинистой обочине узкого шоссе, испещренного безжалостно вдавленными следами от мощных гусениц то ли тракторов, то ли, скорее, тяжелых танков, и нас надежно прикрывали с двух сторон высоченные ели, увешанные сережками сосулек. Метель утихла. Над нами простиралась мертвая, гнетущая, какая-то бесконечная тишина, и даже лесные птицы еще не подавали голоса. Как отличался этот мрачный пейзаж в темно-зеленых тонах от ярких картинок на обложках «спутниковских» брошюрок с призывами посетить Польскую Народную Республику, на которые я, кстати, так и не откликнулась: в студенческие годы не было денег, потом – тех же денег и настроения, а еще позже – интереса и опять-таки денег. Воспитанные в духе интернациональной солидарности, все мы, даже самые неглупые из нас, воспринимали довольно однообразное течение жизни в «странах народной демократии» в свете популярного анекдота шестидесятых-семидесятых годов о болгарском слоне – младшем брате слона советского. Да и кто мог судить нас за столь невинно выраженные имперские амбиции, если повсюду – в Москве, Будапеште, Улан-Баторе и любом, куда ни доскачешь, райцентре – на протяжении десятилетий мы видели одно и то же: трибуны с руководителями, колонны с транспарантами и очереди с авоськами.
Сейчас Польша, в которую судьба окунула меня, словно в черный омут, уже не вызывала игривых ассоциаций. Она страшила меня. Всем нутром я чувствовала враждебность этой мерзлой тьмы, подернутой едва заметными проблесками приближающегося рассвета…
Я ощутила несильный, но внятный толчок где-то под сердцем, сбросила с себя оцепенение и подняла голову.
Дитя и в чем-то, как все москвичи, жертва большого города, я действительно не могла понять, почему вокруг так тихо. До меня легче доходила ситуация, расчлененная на смысловые блоки: да, в глухом лесу утром должно быть тихо. Лесные дороги даже у классиков дышат безмолвием. Рассветную зарю люди встречают затаив дыхание. Но почему молчала, как погребальный катафалк, большая черная машина со вполне еще живыми пассажирами, я понять не могла. Почему – если уж она остановилась – из нее никто не выходит? Почему не стучат открываемые и захлопываемые двери? Почему не слышны оживленные, монотонные или хотя бы полусонные разговоры? Оба на передних сиденьях – Пржесмицкий и водитель, – одновременно, словно давно и упорно репетировали эти движения, вытряхнули сигареты из мятых пачек прямо в уголки губ, щелкнули зажигалками и выдохнули совокупное облако дыма. Вшола открыл глаза и, не меняя позу, смотрел строго в затылок Пржесмицкому, словно на нем были написаны инструкции о правилах поведения в лесу.
– Что он сказал? – спросила я, чтобы почувствовать, что я не одна в машине.
– Кто? – не оборачиваясь, спросил Пржесмицкий.
– Ваш водитель.
– А что он сказал? – пожал плечами Пржесмицкий. – Он у нас вообще не разговаривает.
– Он сказал «игану».
– Не обращайте внимания, пани, – вздохнул Вшола. – Это он со сна.
– С какого еще?..
– Тсс! – прошипел Пржесмицкий, и я моментально заткнулась. У этого странного человека была удивительная, очевидно, врожденная способность очень точно придавать звукам те или иные оттенки. Тогда, во время первой остановки в лесу, его интонации как бы подсказывали мне: расслабься, не дергайся, радом с тобой друзья. Когда позже, в машине, он отвечал на мои расспросы, в голосе его звучало вежливое безразличие, и только упоминание о сестре выдало его внутреннюю боль. Сейчас в коротком «тсс!» ощущалась такая острая тревога, что мне сразу захотелось, как при выезде из порта, лечь на ребристое дно «татры» и попросить Вшолу набросить сверху плед. Понятно, что делать этого я не стала, но уши, как говорится, навострила.
В «татре» опять воцарилась тишина, однако спустя несколько секунд я осознала, что она вовсе не была абсолютной, – где-то вдалеке раздавался чуть слышный мерный рокот. Это мог быть и шум водопада, и гул камнедробилки, и… За мгновение до того, как я поняла природу этих звуков, Вшола выразил ее одним словом:
– Грузовики…
– Думаешь, несколько? – не отрываясь от ветрового стекла, спросил Пржесмицкий.
– Точно, что не один.
– Откуда они здесь? – он посмотрел на водителя, но тот бесстрастно пожал плечами.
– Мы опоздали на каких-то десять минут, – тихо сказал Вшола.
– Какая разница, на сколько именно! – Пржесмицкий надел шляпу и с совершенно неуместным кокетством лихо заломил поля, потом посмотрелся в боковое зеркальце. – Главное, что опоздали.
– Назад? – спросил Вшола.
– Поздно. Думаю, за нами уже идут.
– В лес?
– Смысл?
– Какой-то выигрыш во времени.
– Прочешут.
– Что будем делать?
– Что и собирались… – Пржесмицкий вытащил пистолет и клацнул затвором, после чего черная штуковина таинственно исчезла где-то в рукаве его плаща. – Поехали!..
В этот момент мысли мои были очень далеко – и во времени, и в пространстве. Лет пять назад я принимала в редакции одного очень неприятного, очень неопрятного и очень талантливого автора. Девочки рассказывали, что судьба у него не сложилась, что он – запойный алкоголик, непризнанный гений, мизантроп и так далее… Помню, у меня тогда были какие-то незначительные замечания к его рукописи, мелочи в общем, на которые – теперь я это понимала хорошо – и внимания обращать не стоило. Но я была молода и тщеславна, и чем талантливей казался мне человек, тем больше хотелось утвердить себя в его глазах. Надо отдать должное автору: он держался в рамках приличия минут десять, терпеливо выслушивая мои рацеи о том, что такое хорошо и что такое плохо в современной эссеистике. Прервал он поток моего красноречия очень своеобразно: вдруг резко положил огромную, с черными ногтями, ручищу на свою рукопись и сказал тихо, но внятно: «Ненавижу баб в журналистике. Они все воспринимают не головой, а жопой!..»
Господи, как же он был прав! В голове у меня еще не отложился короткий диалог Пржесмицкого и Вшолы, а мелкая, противная дрожь уже сотрясала все мое тело, начиная с того самого места, которое так прямо и грубо назвал человек с переломанной судьбой…
Нормальная женщина (а я столько лет причисляла себя к этому благородному, хотя и вечно ущемленному сословию) в преддверии неминуемой стрельбы и сопутствующих матюгов должна была бы тут грохнуться в долгий обморок и очнуться лишь после того, как отгремят выстрелы, отшумит эхо боя и прекрасный офицер Советской Армии нежно возьмет ее на руки, прижмет к своим орденам и медалям и тихо скажет в самое ухо: «Все кончилось, товарищ Мальцева. Мы возвращаемся домой!» Я же только плотно прижала ладонью губы, чтобы дрожь, перекинувшаяся на лицо, не превратилась в оглушительное клацанье зубов. Страшно было до одури, до тошноты. Я понимала, что все мы в этой несуразной «татре» вместе с водителем-молчуном мчимся навстречу коллективной погибели. И не по плану, а как раз наоборот – по причине полного его отсутствия. Машина стремительно неслась сквозь ровный строй польских елей и сосен, и никакой самый завалященький обморок не приходил мне на помощь…
Краешек холодного, бесцветного солнца опасливо, словно нос хулигана в девчачьем туалете, высунулся за моей спиной. «А это значит, – сообразила я, – что мы едем строго на запад. А скажи-ка нам, ученица восьмого класса Мытищинской железнодорожной средней школы имени героев-панфиловцев Мальцева Валентина, какая братская социалистическая страна раскинулась на запад от Польши? ГДР, Иван Тимофеич! Правильно, Мальцева, ГДР. А они суверенные, эти самые Польша и ГДР? Еще какие, Иван Тимофеич! Сувереннее, можно сказать, не бывает! Значит, Мальцева, и государственная граница между ними имеется? А как же, Иван Тимофеич! Что это за суверенность такая, ежели без границ? Без колючей проволоки с электрическим током! Без вспаханной полосы и злобных овчарок! Правильно мыслишь, девочка! А кто же охраняет границу? Пограничники, Иван Тимофеич! Понятно, что не вагоновожатые! Ты мне скажи, какие пограничники? Польские, Иван Тимофеич! Польские и немецкие. Каждые – со своей стороны. А что они защищают? Завоевания социализма, Иван Тимофеич! От кого? От врагов. Дура ты, Мальцева, хоть у тебя и мать еврейка! Если оба эти государства – братские страны народной демократии, то от кого же в таком случае им свою общую границу защищать, а?..
И ведь прав он, старый сухарь и тайный антисемит Иван Тимофеич Горянко, который, по его собственному признанию, географию начал изучать в войну, „с ППШ в руках“. Граница здесь действительно должна быть спокойной. Потому-то мои молчальники и двинулись в эту сторону. Но кто же их опередил? Что за грузовики там впереди? Кого они ищут? Нас? Меня? Но я лично ничего полякам не сделала. Да и немцам тоже. Зато эти…»
«Эти» сидели так, словно им приказали замереть. Каждый занимался своим делом. То есть водитель вел машину, а Пржесмицкий и Вшола молчали.
– Пан Пржесмицкий… – это были мои первые слова после его страшного «тсс!».
– Да, пани?
– Вы не ответили на мой вопрос.
– У вас их столько, что я просто не успеваю.
– Что за слово и на каком языке сказал ваш водитель?
Я увидела, как затылок Пржесмицкого медленно багровеет.
– Видите ли, пани, – осторожно начал Вшола, явно пытаясь разрядить ситуацию, – в свете того, что всем нам предстоит в ближайшие несколько минут, ваш вопрос… э-э-э… не совсем актуален.
– Вы хотите сказать: неуместен?
– Именно это, пани, я и хотел сказать, спасибо.
– А что нам предстоит в ближайшие несколько минут, пан Вшола?
– Как вам объяснить… – Вшола уставился в уже совершенно сизый затылок Пржесмицкого, словно взывая о помощи. Но майор молчал, очевидно приберегая свое красноречие для более подходящего случая.
– Объясните так же вежливо и интеллигентно, как вы умеете, пан Вшола, – грубо польстила я соседу. – И вообще, я уже несколько часов мучаюсь, пытаясь вспомнить: где я могла вас видеть?..
Мне не нужны были никакие ответы, мне вообще все было ясно: нас искали, преследовали, нас уже почти взяли. Какая разница, кто именно перестреляет этих трех мужиков и меня за компанию с ними – поляки, немцы или мои гуманисты-соотечественники?! Единственное, чего я хотела в те минуты, – это разговаривать, общаться, не чувствовать себя в одиночестве. К моему удивлению, приступ страха почти прошел, я чувствовала себя гораздо увереннее. В какой-то момент мне даже показалось, что опасения моих попутчиков преувеличены: таким тихим, спокойным и – по мере того как все вокруг светлело и наполнялось жизнью – безмятежным выглядело шоссе, сжатое стенами густого зелено-белого леса.
– Вы очень мужественная женщина, пани… Вэл, – не оборачиваясь, буркнул Пржесмицкий.
– Откуда вы знаете это имя? – быстро спросила я.
– Вы состоите из сплошных вопросов.
– Так откуда?
– Мне его назвал один человек. Он сказал, что это имя – пароль.
– Пароль для чего?
– Пароль, с помощью которого я могу обрести ваше доверие.
– А кто этот человек?
– Вы его не знаете и не можете знать, – вздохнул майор.
– А зачем вам мое доверие, пан Пржесмицкий?
– Вы – женщина, пани…
– Логично.
– А познакомились мы при несколько… странных обстоятельствах. Счет шел на секунды. Могла возникнуть ситуация, при которой нам была бы необходима ваша помощь… Но вы вели себя весьма достойно.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
– Вы можете дать мне оружие? – тихо спросила я.
Пржесмицкий резко обернулся.
– Зачем?
– У меня такое ощущение, что все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. Я права?
– Отчасти.
– Яснее, пожалуйста. Это очень важно.
– Это касается нас, но не вас, пани.
– Не понимаю…
– Очень скоро мы натолкнемся на патруль, – вдруг быстро заговорил Пржесмицкий. – Я не знаю, кто это будет – пограничники, полиция, армейские части или контрразведка… Прорываться через них – затея, лишенная смысла. С таким же успехом можно пробивать головой бетонную стену – одни шишки и никакого удовольствия…
– На что в таком случае вы надеетесь?
– Я и пан Вшола – офицеры польской контрразведки…
– А я – приемная дочь Михаила Андреевича Суслова.
Вшола прыснул.
– У нас крепкие документы, пани, – не реагируя на мою реплику, продолжал Пржесмицкий. – Учитывая тот факт, что причина такого рода мероприятий в доселе спокойном месте мне известна, то это, вполне возможно, сыграет нам на руку…
– С вами очень приятно беседовать, пан Пржесмицкий, – я безуспешно пыталась придать своим словам хотя бы относительную благожелательность. – Все так понятно, так исчерпывающе…
– Они ищут вас, пани.
– Вы знаете, я догадалась.
– А мы вас уже нашли.
– Ага. И везете почему-то в сторону ГДР. Может, вам напомнить, уважаемый пан: я живу не в Дрездене, а в Москве… И везти вы меня должны – если, конечно, действительно являетесь польскими контрразведчиками – прямо в противоположную сторону. И желательно не с комфортом, а в наручниках…
Водитель резко затормозил, от чего я по инерции полетела вперед и больно ударилась лбом о его мощный затылок.
Пржесмицкий, не обращая внимания на странный маневр водителя, сдвинул шляпу на затылок и запустил пятерню в ту часть темени, где когда-то у него росли волосы, и, может быть, даже густые. Вшола смотрел на меня взглядом, в котором читалось искреннее восхищение. Что касается моей реакции, то я опять испугалась: признаваться самой себе, что я оказалась сообразительней трех профессионалов-мужчин (а что они профессионалы, я после ковбойских игрищ на камбузе «Камчатки» не сомневалась), было не так приятно. Куда больше меня бы успокоила их высокомерная или снисходительная усмешка: дескать, что с нее, с бабы, возьмешь?
Но они вдруг задумались.
Все трое.
Тишина в салоне «татры» воцарилась роковая. Такая тишина сопутствует рождению не одного, а целого взвода милиционеров. И чем дольше они молчали, тем страшнее мне становилось.








