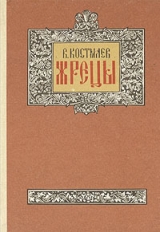
Текст книги "Жрецы "
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Но ведь он сам спросил... Как же нам не ответить?! – возразила ей девушка.
– Кругом горе, Рахиль! Куда ни взглянешь – везде оно.
– Я думаю о Рувиме. Где он? Сил у меня больше не хватает. Куда я пойду? Куда я денусь? Боже!
Девушка, уткнувшись в грудь старухи, тихо сказала:
– Мне тоже надо умереть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петр не любил Филиппа Павловича. С самого раннего детства он был свидетелем постоянных ссор между отцом и матерью, и всегда ему было жаль мать. Он был убежден, что она права, а отец неправ. Не нравилось ему и то, что отец был жаден к деньгам и жесток с людьми.
Это помогло Петру отнестись к известию о смерти отца мужественно. Он пошел в Преображенский собор в Кремле и отслужил панихиду о "рабе Филиппе и рабе Степаниде", но и это делал как-то больше из чувства долга, чем по велению сердца. Слушая заупокойные стихиры, думал о новой службе, о губернаторе, о полковом командире, о своей вотчине, о походе на мордву... Голова мутилась от забот. Жаль и эту девушку! Как с ней быть? Может ли он долго скрывать ее у себя? Конечно, нет! Ведь это же с его стороны преступление!
После панихиды Петр и Марья Тимофеевна сели на скамью в кремлевском саду и повели разговор о Филиппе Павловиче.
Марья Тимофеевна не могла удержаться от того, чтобы не осудить покойного за его жестокий нрав, вспомнила о тех притеснениях, которые она испытала от него.
– На хлеб не давал мне ни полушки, а чем было жить? Скуп и даже до крайности был покойник. Бог с ним! Выгонял меня не раз из дома. Осрамил передо всеми. – Старушка всхлипнула. – Не хотела я тебе говорить, да уж все равно... Все равно мне скоро умирать...
И вдруг она прошептала:
– Поп Иван Макеев... Пьяный был у меня тут... Духовник он покойной твоей матушки... Плакал он. Каялся...
– В чем? – поинтересовался Петр.
– Боюсь, и ты выгонишь меня, сироту!.. Разгневаешься на меня. Господи! Прости ты меня, батюшка, грешную!..
– Да говори же, в чем дело?
Старуха прошептала в ухо Петру:
– Не своею ведь смертью скончалась твоя матушка...
Старушка заколотилась в беззвучном рыданье. Седые волосы ее растрепались, лицо сморщилось еще больше, покраснело. Дождавшись, когда она немного успокоилась, он снова сказал:
– Говори, не бойся!.. Я не отец! Только благодарность мою заслужишь.
При слове "отец" старушка вдруг, как бы очнувшись, глядя мутными глазами на Петра, сказала, что Степаниду уморил сам Филипп Павлович со своею домоправительницею Феоктистой. А уморил за то, что поп Иван, ее духовник, донес ему все, в чем она каялась ему на исповеди.
– В чем же она каялась? Ну, ну, говори! – торопил старушку окончательно потерявший самообладание Петр Филиппович.
– Она грешила... Грешила с другим... О, господи! И зачем только я сказала тебе... Глупая!
– Дальше! Дальше!
– И что ты, батюшка, Петр Филиппович... сынок-то ты не его, а чужой...
Задыхаясь от волненья, он встал со скамьи и вышел на улицу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С больною головою, разбитый и скучный, поднялся Петр на следующее утро. Первое, что ему бросилось в глаза, – приказ по Олонецкому драгунскому полку, куда он был прикомандирован.
"По вся утра и вечера, по пробитии зори, – гласил приказ, – по силе военного артикула, ротным командирам перекличку своим ротам поименно чинить и репортовать, яко же и ночью, трем дозорам по всем квартирам в ротах ходить, осматривать – все ли на квартирах; а по одному офицеру в каждой роте в ночь объезжать всю роту и смотреть – все ли на квартирах ночуют, токмо не в одни часы, дабы солдатство не могли те часы знать, и обо всем репортовать полковым командирам, а им по команде ко мне повседневно..."
Дело в том, что солдаты здешнего гарнизона стали слишком своевольничать и разбегаться, а потому военное начальство и разослало свой строгий приказ всем владельцам домов, как по Нижнему, так и по Кунавину, дабы посадские люди знали военные порядки, коим обязан подчиняться солдат, и чтобы никто не прикрывал после переклички ушедших со своего квартирного постоя солдат.
– Проходу не дают, домовые! – ворчала старушка. – Денег клянчут... К бабам и девицам лезут... Господь бы бог избавил от них... Милостивый батюшка, когда же порядок-то будет у нас?
Вечером Петр скрепя сердце пошел к Друцкому. В губернаторском доме гремел хохот, слышались голоса многих людей. Петр сказал ординарцу о себе. Тот исчез, а вскоре из губернаторских покоев вышел, слегка пошатываясь, высокий сутулый человек в военном мундире.
– Ага, явился... Целуй меня!
Петр чмокнул незнакомца в щетинистую ланиту, догадавшись, что перед ним сам нижегородский губернатор князь Даниил Андреевич Друцкой.
– Раздевайся и за мной! Пришел в самый раз.
К Петру подскочил ординарец, стащил с него шинель.
– Получена о тебе промемория... Радуюсь и веселюсь, встречая столь знатную особу.
Петр промолчал. Между тем Друцкой, вводя его в просторную палату, наполненную множеством гостей, нараспев провозгласил:
– Прилетела вольна пташечка
Из-за моря, моря синего!
Петр Филиппович прозывается,
Сын Рыхловского!
Говорит, а сам приседает в такт с бедовою улыбкою. Затем, указав на Петра с нарочитою церемонией, он поклонился гостям, сделав изысканный поклон, и сказал:
– Итак, приемлю смелость, мои господа, покорнейше просить вас любить и жаловать сего дорогого гостя, прибывшего к нам из великолепной столицы с берегов Невы для учинения многих преславных баталий... Понеже сие государево веление, предоставим ему лучший рацион за нашей трапезой и наиболее парадное место за столом нашим.
Все поочередно подошли к Петру и низко ему поклонились со словами: "Добро пожаловать!"
– По сему случаю произнесем же хвалу всему воинству ее императорского величества. Отец Кондратий!..
Все наполнили свои чарки. Петр увидел поднявшегося из-за стола длинного белобрысого попа, сонного, будто он только что проснулся. Мутными глазами он обвел присутствующих и уныло, однообразно забасил:
– Царь Давид вопрошал единожды – доколе грешницы восхвалятся – и затем духом пророческим рассудил: по лукавствию их погубит господь бог...
Все поочереди тоже поднялись со своих мест, держа в руке чарку.
– ...бог карает людей... – тянул поп, – кои, будучи сильными, непобедимыми, хвалятся в упоении собой...
Все переглянулись. Друцкой надулся, слушая попа, и вдруг сказал грубо:
– Благодарствую, отец Кондратий! Не тем сподобил еси нас! Слушайте же, господа! Восхотим счастливого царствования и здравия всепресветлейшей державнейшей государыне нашей и самодержице всея России Елизавете Петровне на многие времена! И пожелаем доблестной непобедимости российскому воинству в ратных подвигах во славу отечества во вся часы и минуты... Искреннейше и всеподданнейше изопьем сию чарку за всеобщее отечества благоденствие – до дна!
Отец Кондратий был так смущен своей отставкой, что не успел даже наполнить себе чарку, а посему и пригубил ее пустую.
Петр вспомнил при взгляде на всю эту пеструю компанию прочитанные им недавно стихи одного пииты:
Развратных молодцов испорченный здесь век.
Кто хочет защищать его – тот скот, не человек.
Он стал разглядывать сидевших за столом людей. Вот плешивый, воплощение подобострастия приказный, сидящий напротив. Рядом с ним два попа – две унылые бородатые тихони, уставившиеся бессмысленными взглядами в чашу с капустой. Попы были очень схожи между собой: оба нечесаные, красноносые и неопрятно одетые. Трое каких-то посадских все время заглядывали в рот губернатору, стоило ему начать говорить. Они краснели, отдувались, беспокойно ерзая на скамье. Плечо к плечу с губернатором начальник тюрьмы, синий, жилистый человек с надменным взглядом и с невероятно оттопыренными губами. Его лицо под взъерошенным париком весьма походило на морду ежа, выглядывающую из-под шапки колючек.
Губернатор познакомил Петра с двумя полковыми командирами. Один Олонецкого, другой – Владимирского драгунских полков.
– Вот ваше начальство! – указал Друцкой на командира Олонецкого полка – полного румяного старика, встретившего Петра довольно-таки неприязненным взглядом.
– Отрадно видеть таких воинов в своих эскадронах... Прошу любить и жаловать... – проговорил он сухо, своим притворством напомнив Петру старичка в желтом камзоле (из Сыскного приказа).
– Россия оружием своим, отличною храбростью, неустрашимостью и мужеством сынов своих приобрела всеобщее уважение и славу, – сказал Друцкой. – Посмотрите на оного офицера! Нельзя не видеть, до какой высшей степени совершенства доведены войска и весь состав военной службы у нас.
Седой полковник оглядел Петра с ног до головы прищуренными глазами, с усмешкой на губах.
– Благоволите заутра явиться в полк для надлежащей репортации! сказал он.
Друцкой, подав полковнику бокал, рассмеялся:
– Вознаградим урон потерянных минут.
И налил всем близ сидящим гостям также по чарке вина, в том числе и Рыхловскому.
Остальные, увидев это, поспешно налили себе вина сами. Оживились и священнослужители. Отец Кондратий рукавом зацепил кувшин и едва не свалил его. Когда соседи ахнули от испуга, он всей тяжестью повалился на скамью.
Этого попа пришлось все-таки удалить из палаты, ибо он напился до того, что, глядя в упор на губернатора, запел: "Со святыми упокой!".
Князь Друцкой подошел к Петру и сказал, улыбаясь:
– Философ Зенон, присутствуя на одном пиру, был спрошен Птоломеевыми послами: не передаст ли он чего их царю? Он ответил: "Скажите ему, что вы нашли человека, который умеет молчать". Я думаю, если бы послы Птоломея обратились с подобным вопросом к вам, пришлось бы вам ответить оное же.
После этого он выразил свое сожаление по поводу смерти Филиппа Павловича, назвав его "достойнейшим сыном отечества". Петр спросил его о подробностях убийства. Губернатор по секрету сказал: "Баба погубила. Мордовка. Разбойница!"
Подали ужин. Один из попов стал рассказывать о том, как молится мордва христианскому богу.
– Для домашнего моленья господу богу оная мордва приобретает образа со многими ликами святых и не смущается она тем, что лики тех святых за многочисленностью – мелки и неразборчивы. Одно ее обольщает – обилие ликов, дабы единою свечою можно было бы сразу озарить наибольшее число небесных святителей, во избежание излишней траты денег на свечи. При этом мордовский богомолец стремится и свой собственный лик к самой свече пододвинуть, считая, что освещенный лик виднее господу богу, нежели лик, обретающийся во мраке.
Губернатор покатывался со смеха. Гости ему вторили.
– У меня в приходе, – продолжал поп, – мордва молится и по-русски и по-мордовски. Нашему богу – по-русски, своим – по-мордовски. Я спросил их – зачем они так делают? Они ответили: "А так будет надежнее, отец: ежели до вашего бога не дойдет, то дойдет до нашего, а ежели не дойдет до нашего, то дойдет до вашего..."
Опять взрыв пьяного хохота.
Друцкой искоса посмотрел на Петра. Письмо от Шувалова, переданное ему самим же поручиком, говорило о том, чтобы губернатор следил за этим офицером, особенно за его разговорами о дворце и царице. Утром прибыл в Нижний заплечный мастер из московского Сыскного приказа для обучения нижегородских малоопытных палачей. Он привез с собою также и секретный пакет, в котором сообщалось о неблагонадежном поведении Рыхловского в Москве. Губернатор уже знал, что делать.
Повернувшись лицом к Рыхловскому, он повел речь о крестьянстве, ругая мужиков за невежество и нерадивость к труду. Упомянул о каком-то бунте под Алатырем. Будто бы он "раздавил сей бунт в трое суток". Рассказав об этом, он спросил Петра: не пришлось ли ему столкнуться дорогою с хамским отродьем, с мужичьем?
Петр ответил:
– Проехал я много деревень и селений. И не согласен я, что наш народ, погруженный в крайнее невежество, не различим от бессловесных скотов. Это – совершенная ложь. Остроумием и находчивым разумом бог не обидел простой народ. Вот взгляните... – Петр вынул из кармана "прошение в небесную канцелярию" и положил на стол. – Это писание, подсунутое мне тайно в карман моей шинели на постоялом дворе двумя беглыми мужиками, коих я считал эстонцами...
Друцкой прочитал листок и задумался:
– Плохо, когда мужик смеется... Губернатору ли не знаком этот смех?! Видел я однажды на дыбе смеющегося мужика... Я хотел на него крикнуть, но у меня язык отнялся. Страшно! Моим повелением его сняли с дыбы... Спрошенный, чему он смеется, он ответил: "Забьете меня, кто же моему господину оброк заплатит?" – "Так чего же тут смешнего?" – "А то, что, бия мужика, – сказал он, – вы его в долг вводите. Когда же мы с вами расплатимся-то?!" – Тут мужик замолчал. Я велел его опять вздернуть на дыбу, но так и не добились мы от него, что обозначает сказанное им. Дворяне, священство, посадские люди смеются – это одно, а мужик смеется другое.
Губернатор насупился. Он заявил Рыхловскому:
– На тебя, друг мой, великая надежда. В губернии неспокойно. Уничтожь разбойников всех до единого, а у мордвы захвати зачинщиков... Епископ Сеченов отправляется в те места, в Оранский монастырь... Ты должен действовать с ним заодно.
Губернатор очень ругал терюханина Несмеянку Кривова. Отзывался о нем как о главном зачинщике.
– Если к тому будет удобный случай, арестуй его и в кандалах отошли в Нижний, в мое распоряжение... Мы его тут обласкаем. Несмеянка – скрытый вор, хам, снедаемый муками честолюбия и возомнивший о борьбе с властью российской короны... Упорен и коварен он до безумия... Так донесли о нем мои сыщики.
Пока шла беседа между Друцким, двумя полковниками и Рыхловским, губернаторские гости уже давно перепились. И кое-кто тайком утек из-за стола домой. Другие тут же, за столом, и уснули.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петр вышел из кремля на площадь в глубокую полночь. После душной, пропитанной табаком и винными парами губернаторской палаты, на воле он почувствовал себя много бодрее и свежее. С площади он не пошел домой, а решил немного побродить по берегу.
Таяли звезды над Волгой, чуть мерцали бурлацкие костры близ воды. У Петра на душе был неприятный осадок от первого знакомства с нижегородским начальством.
Над лесами Заволжья брезжил рассвет.
По дороге домой, на Почайну, чтобы не увязнуть в грязи, Петру приходилось то и дело придерживаться за изгороди палисадников, лепившихся около маленьких деревянных домишек, прыгать через лужи, рискуя временами скатиться вниз, в глубокие прибрежные овраги. Но чем ближе подходил он к дому, тем больше его тянуло туда. Его печали как-то утратили свою остроту. И все оттого, что в доме у него поселилась эта девушка. Он не мог скрыть от себя этого и не хотел...
XV
В келье настоятеля Оранского монастыря отца Феодорита было тихо и чисто. В углах – иконы, на стенах – клобуки, епитрахили, плети, батоги, розги, шелепы, цепи. Оторвавшись от своего писания, игумен глядел в окно восхищенно.
Не более как с неделю появились зеленые почки на березах. Стало веселее на душе. Приятно пахло талою землею из лесов. Зашмыгали в прутняках синицы, горихвостки, зорянки. Их чириканье и песни радовали слух.
"О светило небесное! В своей красе превыше ты всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не токмо в веке сем, но и в грядущем!.." – причитывал про себя отец Феодорит, сокрушенно вздыхая.
И невольно приходили ему в голову мысли, что недаром язычники поклоняются солнцу, стихиям и деревьям и устраивают моляны на воле, среди березовых и дубовых рощ, и недаром заклинания свои бросают они в небесную высь. Ему уже начало казаться теперь, что православие много теряет от того, что богослужение проходит под тяжелыми серыми сводами, в духоте и унынии.
"Однако нам ли хулить наши догматы?" – спохватился архимандрит, отгоняя от себя крестным знамением "грешное суемудрие".
До красоты ли земной теперь, когда от нижегородского епископа Сеченова пришло приказание ему, отцу Феодориту, составить описание всех чудес, совершившихся у иконы Владимирской божьей матери во вся времена от лет основания обители и до последнего дня?!
"Милосердый боже! – думает про себя Феодорит, – подай свою милость и помощь своего единомудрейшего духа на обе стороны, дабы добросердечному читателю моего труда в чудеса уверовати и епископу мудрому угодити!"
Дело не весьма легкое – облечь в кружева божественных речений, в узоры убедительной летописи все те рассказы и слухи, которые родились некогда в стенах монастыря для утешения народа. Своим умом, своими руками справится ли мужик с голодом, с мором, с болезнями и многими несчастиями? А если не справится – кто тогда ему поможет: царь? дворяне? начальство? Но не они ли тянут с мужика и последнее? И не они ли бегут от мужика, отгораживаются от него заставами в то время, как деревни охвачены мором? И не они ли перестают кормить заболевшего крестьянина, лишая его своего внимания, как неспособного работать на них?
"Кроме нас – кто же утешит подлый люд?! – думает Феодорит. – Кто успокоит его? Кто примирит его с горькою судьбиною?!"
Чудеса показывают, – якобы выше царя, выше дворян, выше начальства есть невидимая, недосягаемая уму человеческому сила, которая приходит на помощь мужику в минуту горечи и опасности. Таким образом, смерд будет знать, что он не совсем одинок, что кто-то и где-то о нем заботится, оберегает его.
Чудеса примиряют несчастных с их тяжелою долей, обнадеживают. А теперь тем более необходимо о них говорить, писать, ибо епископ Димитрий прислал в Оранский монастырь секретнейшую промеморию, уведомляя, что в скором времени церковь должна двинуться в поход на языческую мордву и что описание чудес надо составить как можно скорее, немедленно размножить и раздать по всем селам и деревням, где проживают новокрещенцы и языческая мордва, а также и русские крестьяне.
Языческая мордва – постоянное препятствие на пути у монастыря и у дворян. Другим богам молятся и по-другому пользу монастыря и вотчинную понимают. Надо, чтобы все одному богу молились и одинаково покорно следовали христианским заповедям. Сие для всех удобнее.
Что солнце?! Что весна и зелень берез, рассаженных ровными рядами перед окнами келий? Может ли быть радостная жизнь и покой у братии Оранского монастыря, когда под боком живут язычники, ненавидящие иноков, угрожающие им смертию и пожогами и к тому же – укрывающие у себя разбойников и беглых, незнаемых людей?
Чауадаоа паеараваоаеа (едва перо не сломал, – так под приливом усердия налег на него отец Феодорит). "В лето от сотворения мира 7143 1635 г. от рождества христова бысть чудо на освящении церкви пресвятой богородицы Владимирския. Нижнего Новгорода девичьего монастыря Зачатия пресвятые богородицы монахиня, именем Венедикта, болезнова сердечною болезнию двадцать шесть лет, моляся богородице, здрава бысть и иде в монастырь свой, радуяся"...
Оа ватаоараоама чауадаеа пришлось весьма и весьма подумать. Как на грех, вся летопись чудес чудотворной иконы из головы вдруг куда-то вылетела. Феодорит подошел к шкафу красный, расстроенный и выпил кружку хмельной браги.
Усевшись снова на свое место и взяв решительно громадное гусиное перо, он опять почувствовал, что зря напрягается, утруждая свой ум, чудеса, о которых он был наслышан, окончательно исчезли из памяти и не за что ухватиться. В таких случаях затора в течении мыслей он призывал к себе на помощь своего расторопного казначея, иеромонаха Сергия, бойкого и "зело хитрого" старика.
Явившийся на зов настоятеля отец Сергий низко поклонился, коснувшись пальцами руки пола:
– Смиренно жду приказания вашего благочиния, аз – раб Сергий.
– Присовокупи, отче, к оной синодике некоторые чудеса, совершившиеся в нашей обители и известные доселе тебе, а если неизвестные, то наслышанные тобою.
Отец Сергий, перекрестившись, уселся на скамью. Глаза его, возведенные к потолку, стали задумчивы: седая, узкая, предлинная борода пышно взбилась на коленях, будто ворох кудели.
– В великой России был в те годы сильнеющий мор – смертоносная, можно сказать, язва напала на людей, – однообразно повел свое повествование отец Сергий. – В оное время в Оранской сей праведной пустыни иеромонах, монахи и клирики почти что все померли. Осталось только три человека: строитель сего монастыря, сам преславный муж Павел Глядков, ушедший из мира в мордовские дебри благочестивейший дворянин, потом – монах Ефрем да работник белец Андрей Константинов. Этот работник, по наущению диавольскому, задумал лишить жизни строителя Павла, якобы в отместку: зачем тот построил обитель на крестьянских и мордовских землях и батрачить заставляет на монастырь многие села и деревни. Глядков Павел не раз ему говорил, что сам царь Михаил Федорович дал пустыни указ на владение сей землей, на которой построена церковь и келии старцев, и что пришел же он к этому по внушению свыше и отказал в разных челобитиях на принадлежащую русским крестьянам и мордве землю. Но работник, белец Андрей Константинов, не внял гласу благоразумия и, тайно взяв нож, отправился к строителю в келию для расправного дела. Но едва дошел он до дверей кельи, как чья-то невидимая рука неожиданно воспрепятствовала ему, сильно, кулаком, ударив его. Он с испуга бросился бежать из монастыря, пришел в мордовскую деревню Бурцово и рассказал там, что-де в Оранской пустыни жители все умерли, кроме строителя Павла да монаха Ефрема, а у строителя в келии лежат-де триста рублей денег. Узнав это, мордва собралась из деревень, взяла с собой и воров же и подошла к монастырю в ночное время, разбойнически, месяца октября в двадцать пятый день.
Старательно записывавший слова отца Сергия Феодорит вдруг положил перо, продолжая со вниманием слушать своего казначея.
– ...Раскинувшись станом под горою, дабы не могли приметить их живущие в монастыре, они посылают двоих человек узнать: нет ли в монастыре постороннего какого народа. Те люди, пришедши к воротам, обманом стали просить хлеба, объясняясь, будто бы они люди русские, идут из Москвы и не знают, что им делать с голода и где взять.
Феодорит почесал под бородой, причмокнув.
– Как же это так – мордву не узнали по диалекту? Глупые монахи!..
Отец Сергий развел руками в немалом смущении:
– Знамо, глупые... несмысленые!.. А те и говорят им: будто бы и хлеба они три дня не вкушали; будто бы и выпросить, и купить они нигде его не могли. Жители монастыря, по своей простоте, не зная их лукавства, дали им хлеба. Они же, возвратясь к своим товарищам, находившимся под горою в засаде, рассказали им, что в монастыре пусто и никого нет. Тогда вся мордва и воры скопом подступили к монастырским воротам. Но вдруг ворота сами собой отворяются и выходит против них множество ратного народа и погнали во след хищников, в смущении обративших тыл, и, догнав, истязали их. Так богородица свыше помогла беззащитным сохранить свою обитель от мордвы. Работник же Андрей Константинов, в то время идучи дорогой, злою умер смертию и погиб без погребения.
Иеромонах Сергий кончил свой рассказ, но, вместо благодарности, он увидел на лице игумена явное выражение досады.
– Подумай, старче, – сердито произнес Феодорит, – как же мы будем чудесами нашими привлекать к себе мордву, порицая ее и даже говоря о наказаниях и истязаниях, которые она якобы претерпела от пресвятой владычицы богородицы? И не только мы мордву не привлечем к себе, но тем самым наиболее отринем ее от себя... И не поверят нам люди, ибо на грабежи мордва не ходила и не ходит, и хотя вспомогает разбойникам, но сама не ворует и не убивает... Это мы и сами по вся годы видим у себя в Оранках и окрестностях.
Смущенный словами своего начальника, старец Сергий стал робко оправдываться.
– Но то было без мала сто лет тому назад... Мы могли того и не видеть... – старец запутался и, не зная что говорить, умолк.
Феодорит начал сердиться.
– Ох, старче, старче!.. Не тронь людей, потворствующих старине! Мордва гордится тем, что она на всей нижегородской земле некогда была владычицей... Она считает русских наихудшими из воров, захватившими якобы ее землю, а ты льстишься изобразить, как некая кучка мордвы вознамерилась сто лет назад убить и ограбить двух монахов и ушла, не ограбивши их... Обиднее сего ничего нельзя и придумать, и притом же сваливаешь ты сию неудачу их на пресвятую богородицу, отвращая тем самым от нее как язычников, так и новокрещенцев из инородцев. Понял ли? Подобную ересь произнести могут лишь безбожные, злонамеренные уста...
Старец Сергий теперь уже смекнул, в чем дело, и чистосердечно покаялся к своем недомыслии:
– Един ум здравствует, два благоприятствуют. Мудрость светозарная ваша одолела мое заблуждение. Только недруги могли бы внушить мордве оное чудо... Признаю. Аминь!
Феодорит, глядя торжествующе в смущенное лицо своего старого казначея, подумал: "Аминем врагов не отшибешь и добра не наживешь".
Отец Сергий снова приободрился.
– После того, ваше преосвященство, извольте, я расскажу вам об ином чуде, о самом явном случае проявления благости богородичней...
– Дерзай!
– В деревне Палицыной жена, именем Пелагея Симонова, оком не видела и звенело у нее в ухе полтора года. Моляся богородице, – исцеление получи, славя бога и пресвятую владычицу. Вот и все.
Феодорит не писал. Он снова насторожился, относясь, видимо, с недоверием к словам своего казначея. Выслушав, повторил:
– Оком не видела и звенело в ухе? – И покачал головой усмешливо. "Звенело в ухе" – не лишнее ли есть?.. Велико ли это несчастие для человека, страдающего наивысшим убожеством – слепотою?!
Вздохнул и записал рассказанное Сергием чудо, не упомянув ничего об ухе. ("Мало ли у кого звенит в ухе, особенно после пития?")
На третьем чуде их вдруг перебил влетевший в келью настоятеля послушник. Он, еле дыша от быстрого бега, выкрикнул в ужасе:
– Епископ едет!..
Феодорит и Сергий в испуге вскочили со своих мест.
– Где ты видел?
– В лесу... Со стороны Дальнего Константинова...
Настоятель и казначей опрометью вылетели в сени. На дворе уже метались чернецы, выбежав с метлами и лопатами наводить порядок в саду и на дворе.
– Звонаря! Звонаря! – завопил Феодорит, выпучив свирепо глаза. – Бей в колокол!..
Но не успел он прокричать эти свои слова, как на колокольных вышках уже многозвучно зазвенела игривая легкая медь. Она смешивалась с низким ленивым гудом больших семисотпудовых колоколов...
– Хоругви! Иконы! – продолжал исступленно кричать игумен, выбравшись на волю.
И тут вышло, что он уже опоздал: по дорожкам сада, пыхтя и ругаясь между собою, монахи волокли на переднюю дорожку, к "святым воротам" священные стяги и хоругви, громадные иконы и прочую утварь, необходимую для крестного хода...
"Не пришел ли час ратных подвигов монастырской братии? Не знамение ли – приезд епископа, возвещающее начало похода святой церкви на язычников?!"
Об этом в смятении размышлял Феодорит, по-праздничному облачаясь при помощи послушника в лучшее облачение и надевая на себя подаренную ему епископом малиновую в золоте бархатную ризу...
XVI
Трудно себе представить что-либо величественнее раскинувшейся по лугам и перелескам весенней Волги, и нельзя спокойно смотреть, как подкрадывается она по зеленеющим Дятловым горам, не щадя храмов, домишек и амбаров, к белоснежному красавцу кремлю. Притихли бойницы и соборы. Река идет на них, полноводная, сильная, гордая. Ни один царь, ни один губернатор и полководец, ни один архиерей – никто не властен остановить ее вольного, неотразимого напора. Но сбудет половодье, и она опять спокойно и ласково отразит в себе небо, и солнце, и звезды, и башни, и деревья, и застынет в этой близости к людям и зелени – кроткая, покорная.
Петра и Рахиль тянуло сюда, на пустынный берег позади кремля, здесь наедине они любили беседовать. Во всем мире Рахиль имела теперь только двух человек, которых можно не бояться, – старушку Марью Тимофеевну и Петра. Только они желали ей добра, заботились о ней, берегли ее. Петр офицер, дворянин, был даже соучастником ее тайны, он помогал ей скрываться от полиции. Как же не доверяться им? Смерть отца сильно изменила девушку. Она стала серьезна, глаза ее – задумчивее, глубже; страдание придало им выражение мужественности, но для Петра они были приветливыми, ласковыми. Лицо ее осунулось, побледнело, и резче обозначились черные брови.
Теплый вечерний ветер, запах талой земли, мирное насвистывание пичужек в красноватом от заката прутняке, водная ширь, а за ней темные заволжские леса, – разве не говорит все это о праве на жизнь? И разве плохо здесь двоим, в стороне от людей, беседовать, усевшись на стволе сваленного бурею дерева? Голос Петра звучал дружески мягко и грустно:
– Я знаю! Нелегко будет мне... Я офицер, а ты гонимая властью иноверка. Не льщу я себя надеждой, не хочу я хвастаться подвигом, а более того – боюсь показаться навязчивым. Союз нашей дружбы питается превратностью и бедствиями нашей судьбы. Два счастливца, хотя и часто видятся, но не чувствуют друг к другу ни малой привязанности; двое несчастных при первой же встрече понимают один другого. В счастье они были только знакомцы, в несчастье – они друзья. Вот я смотрю на Волгу и забываю все на свете. Рахиль, видишь, как низко опустилось небо над лесами, оно сомкнулось с землей. И кажется, будто идти уже некуда... Все пути закрыты, но – нет!.. Там, дальше, опять жизнь, дороги открыты, места много... Пускай и тебе не кажется жизнь конченой, Рахиль... Не падай духом!
– Но ты говорил о препятствиях! – робко возразила Рахиль.
Обрывками кошмарного сна промелькнули у Петра воспоминания о недавнем: питерское и московское надругательство над ним, встреча с нижегородским начальством. Он представил себе огромные пространства России и свое полное одиночество в этой пустыне и, как брат, как друг, прижался к девушке. Стало тепло, уютно обоим.
– Мне кажется, я родился для того, чтобы встретиться с тобою, сказал Петр. – Никакие препятствия не помешали этому.
Рахиль с затаенной радостью слушала Петра, и самой ей хотелось сказать ему то же самое, но не могла она решиться и сказала другое:
– Подобных мне – много. Ты служил во дворце, ты видел лучше, богаче, красивее, умнее меня. Ты видел даже царицу.
Слова Рахили были неожиданны.
– Царица?!
– Да! Ты ее видел?
– Жил рядом, караулил.
– Но как же мог ты уйти из дворца и попасть к нам в Нижний? Ведь там счастье и веселье, здесь горе и бедность. – Рахиль покраснела. Она давно хотела вызвать Петра на откровенность.
– Уметь пользоваться изобилием ничего не стоит, но тайна, которую из этого извлекает мудрый, состоит в том, чтобы быть счастливым также и в злополучии...








