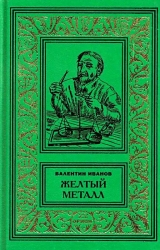
Текст книги "Желтый металл. Девять этюдов"
Автор книги: Валентин Иванов
Жанры:
Природа и животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
3
Неоспоримым преимуществом Бродкина над Трузенгельдами, Мейлинсонами, Брелихманами и другими было то, что пока те повторяли зады, Бродкин создал себе состояние сам.
Потомок теснившихся в местечках нищих поколений мельчайших торговцев, рабочих, батраков, ремесленников, факторов, извозчиков, забитых «своими» капиталистами куда больше, чем национальными стеснениями, установленными законами империи, Владимир Бродкин, будь он пограмотнее, мог бы сказать о себе словами тоже не слишком-то блиставших грамотностью баронов, герцогов и князей Наполеона Первого: «Я сам свой предок!»
Для Бродкина старое время не мерцало в далекой дымке, как для Трузенгельдов, Брелихманов и других, собственными мельницами, пароходами, стадами скота, поземельными владениями, хотя бы и купленными на чужое имя.
Старое время рода Бродкиных высовывало чахлое лицо в рамке нищеты, привычного, на грани дистрофии, хронического недоедания и личной безопасности на грани погрома, никогда не грозившего Трузенгельдам. Итак, все и всякие Трузенгельды в «старое» время действовали в благоприятной для частного обогащения обстановке капитализма. А Владимир Борисович Бродкин пустился по пути личного стяжания вопреки обществу, вопреки всем установкам Советского государства.
Телом Бродкин был брюзгло-жирен, от плохого обмена. Прежде незаурядно-красивые черты лица, – старики говорили, что молодой Володя Бродкин походил на известного «мессию» сионизма конца прошлого столетия, – пухло раздулись, рот с опущенными углами хранил застывше-недовольное выражение.
– Что слышно? – продолжал разговор Бродкин.
– Все по-старому. Опять, Володя, есть металл. Брать будешь? – предложил Трузенгельд.
– Сколько есть?
– Четыре килограмма.
– Гм… Четыре… килограмма? – переспросил Бродкин. – Об этом золоте я уже слыхал. Там, гм, было больше…
Чорт же его разберет, этого Бродкина! Каждый раз, каждый раз, когда Трузенгельд являлся с предложением сделки на золото, Бродкин подносил что-либо подобное: он всегда уже был «в курсе», этот коммерсант.
«Там было больше», – дьявольски-хитрые слова! Как решить, действительно Бродкин знал или нарочно притворялся всезнающим, чтобы легче разговаривать с Трузенгельдом? Трузенгельд хорошо помнил, как на самое первое предложение – это было довольно давно – Бродкин хладнокровно ответил: «Я уже слышал об этом деле».
Откуда и как мог Трузенгельд знать, сколько «там» металла на самом деле? Он не мог проверить Бродкина. Но Бродкин брал золото. Зачем бы он допускал маклера, если бы имел возможность договариваться с поставщиками непосредственно? Из осторожности? Беспокойный ум Трузенгельда не находил ответа.
– Больше – не больше, Володя, я предлагаю тебе четыре кило – и по двадцать восемь.
Опершись обеими руками на диван, Бродкин приподнялся и переменил положение. Теперь он привалился в углу, удобно вытянув ноги. Татарский халат разошелся на пухлой, почти женской груди, по-медвежьи обросшей густой шерстью. Не глядя на Трузенгельда, Бродкин рассуждал:
– В сущности, Миша, – он умел правильно выговаривать слова, когда хотел, – ты несправедлив к людям. Ты только носишь металл туда-сюда. По настоящей честности, тебе хватило бы полтинника (подразумевалось пятьдесят копеек с грамма). – А сколько хочешь ты заработать? Скажи, Миша, честно скажи, как старому другу? Скажьи?
Слово «скажи» Бродкин произнес очень мягко, и опять Трузенгельду послышалась насмешка.
– Что тебе за дело, Володья? – Трузенгельд невольно передразнил Бродкина. – Я имею дело с людьми, я договариваюсь, я рискую.
– Рискуешь? Э!.. Рискует тот, кто вкладывает капитал! Тот рискует по-настоящему, а маклер? Ф-фа! – И Бродкин дунул на ладонь, с которой вспорхнула воображаемая пушинка. – Раз – и маклер считает свои комиссионные. Он больше ни о чем не думает. Маклер собирает там, где не сеял, – изложил Бродкин одно из положений своей самодельной политэкономии.
– Я работаю на собственном капитале, – возразил Трузенгельд. – И этот металл мною куплен.
– Покажи! – Бродкин протянул руку с длинными мохнатыми пальцами.
– Что? Я буду носить, с собой в кармане? – парировал Трузенгельд.
– М-мм?.. – недоверчиво и вопросительно проворчал Бродкин и предложил: – Двадцать… – он косил глаза на Трузенгельда, – шесть!
– Ты хотел бы лишить меня и полтинника? – спросил Трузенгельд.
– Зачем, Миша!. Бери свой полтинник, иди с богом, не теряй времени.
– Двадцать семь и девяносто пять, – сбросил Трузенгельд пятачок.
Сторговались они через пылких полчаса, наговорив один другому немало колкостей и совершив десятки покушений на остроумие. А после соглашения о цене возникла проблема расчетов: Бродкин требовал кредита на неделю, Трузенгельд – расчета наличными.
– Ага, Миша, – торжествовал разгоряченный Бродкин, – я же тебе всегда говорю: ты только маклер, у тебя нет своего капитала, ты торгуешь воздухом, ты имеешь на моем капитале!
– Мои деньги сейчас в другом деле, – неудачно возразил Трузенгельд, защищаясь от тяжкого обвинения, а Бродкин вовсю пользовался ошибкой продавца:
– Та-та-та-та! Значит, один оборот ты делаешь на свои деньги, а другой на мои? Ах, ты!.. – Бродкин обратился к своей привычке ругаться сквернейшими словами. – Ты еще и не видел того металла, который мне предлагаешь, вот что! Что? Ты хочешь, чтобы я тебе выписал чек на Госбанк? Получай! – И Бродкин состроил Трузенгельду кукиш.
Трузенгельд вернул ругательства с процентами и предложил Бродкину два кукиша, но торг вернулся опять к цене.
Изощряясь в доказательствах, волнуясь, споря, будто бы дело шло о жизни и смерти, они разошлись вовсю и «жили» полностью. Бродкин забыл о больной печени, жестикулировал, бегал из угла в угол, выгнав комнатную овчарку Лорда, чтобы собака не путалась под ногами. Трузенгельд ковылял на месте, переваливаясь с длинной ноги на короткую и становясь то выше, то ниже.
Хватая друг друга за грудь, они одновременно хрипели, шипели, свистели, сипели, брызгали слюной.
И когда, наконец, сделка совершилась, Бродкин вместо крыльев обмахивал себя полами халата, а Трузенгельд вытирался салфеткой, сорванной в пылу схватки со столика.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Марья Яковлевна предложила мужчинам позавтракать. Бродкин ворчливо отказался выйти в столовую:
– Вели этой, как ее, подать мне сюда.
Домашние работницы менялись часто, и Бродкин подчеркнуто делал вид, что не может запомнить имени новой: шпилька жене, которая не умеет «обращаться с прислугой». Новая работница жила в доме лишь несколько дней. Перед расставанием с предыдущей между мужем и женой состоялось крупное объяснение. Не в первый раз Бродкин безуспешно внушал жене, что умные люди обязаны создавать себе в «прислуге» не врагов, а друзей, что «в наше время» особенно глупо не понимать такой очевидной вещи: выживать работниц каждые три месяца просто опасно! Но и прежде трудновато было бороться с проявлениями характера Марьи Яковлевны, теперь же, после переезда мужа в кабинет, и совсем невозможно: Бродкин, по его словам, «сдыхал от бабьего визга».
Смягчая крикливые нотки своего голоса, Марья Яковлевна угощала Мишу яйцами всмятку «от своих кур», макаронами с тертым сыром, селедочкой и сухим «Цинандали». Отдыхая после торга, Трузенгельд не спешил. День был будничный, но Миша располагал временем.
Трузенгельд состоял в одной артели главным механиком и одновременно начальником штамповочного цеха. Техник-машиностроитель, Трузенгельд был знающим, дельным специалистом, ценимым артелью, пользовался положительной репутацией в правлении и в городских организациях. Артель, выпуская ширпотреб, план перевыполняла, а себестоимость была ниже плановой. В успешной работе крылась заслуга и главного механика, который по обеим должностям и с премиальными законно зарабатывал свыше двух тысяч в месяц – ставку кандидата наук, что совсем не плохо для техника.
Первую половину дня Трузенгельд провел на своем рабочем месте, а сейчас никому и в голову не пришло бы проверять, куда ушел главмех: в городской или районный Совет, в правление или к кому-либо из смежников. Разве случится авария…
Как это выяснилось в дальнейшем, Михаил Федорович действительно к своим служебным обязанностям относился добросовестно.
Мужчина крепкий, телосложения нормального, если не думать о короткой ноге (впрочем, Марья Яковлевна и не собиралась танцевать с Трузенгельдом), Миша в последние годы привлек благожелательное внимание Мани. И это внимание росло по мере ухудшения здоровья мужа. Миша был моложе мадам Бродкиной на пять лет, но в ее глазах это не было недостатком, наоборот. Она чувствовала себя совсем молоденькой, хотя прошло двадцать лет со времени ее первого, жгучего увлечения красавчиком Володей Бродкиным. Теперь Володи не было, – был желчно-раздражительный, больной Владимир Борисович. Не было и Манечки Брелихман – вот этого-то она и не знала и не чувствовала.
«На что дурище зеркала?» – такой саркастический вопрос Бродкин иногда задавал, но лишь себе самому. Он следовал завету: «Посоветуйся с женой и поступи наоборот» в расширенном виде – не только не советовался, но и не дразнил ее.
После завтрака Марья Яковлевна поднялась к себе наверх, – ей было необходимо «посоветоваться» с Мишей, – и заперлась с ним в спальне, чтобы беседе не помешали.
Мягкие пуфы, тумбочки, зеркала, обои из Ленинграда, составленные кровати из ореха, несколько настоящих картин, подписанных художниками не знаменитых, но известных имен. Спущенные занавески создавали приятную полутьму.
Деньги Бродкина… О них думал – не думал, но и не забывал Мишенька Трузенгельд. Не будь бродкинских денег, не было бы и Миши в этой спальне. Такова точная, деловая формулировка отношения Трузенгельда к бывшей Манечке Брелихман.
Раздобревшая, краснолицая, крикливая, грубо-чувственная Бродкина считала себя обаятельной. Не один Миша – льстили ей и Мейлинсоны и Гаминские. Но те просто говорили любезности богатой женщине, а Миша исходил из коммерческого расчета. Если не дни, то наверняка недолгие годы Бродкина были сочтены. Его жена была скорой наследницей большого капитала. Бродкинские деньги… Но сколько их и где они, кроме стоимости дома, обстановки и ценностей «на виду»?..
Могла ли ответить Манечка? Но таких опасных вопросов Миша не задавал. Боже упаси! Ни намека. Любовь, самая пылкая любовь. Муж жил и жил, могли явиться конкуренты.
– Я слышал, молодой Мейлинсон приехал к старикам из Москвы, – сказал Миша. – Этот оболтус опять будет шляться сюда?
– Дурачок, – басисто ворковала Маня. – Ты что? Собираешься меня ревновать к ребенку? Ему едва восемнадцать. Школьник. И ведь я-то тебя не ревную.
Миша сказал подходящий к случаю комплимент фигуре Мани, и Маня засмеялась довольным смешком. Возлюбленный ее удовлетворял во всех отношениях, и смерти мужа она не ждала. Муж ее ничуть не стеснял.
– У меня, глупенький, – женщине всегда приятно когда ее «красиво» ревнуют, – к тебе дело. У Бетти скоро щенки. У меня просили двоих, а у нее меньше пяти не бывает. Я хочу поскорее распродать щенят, а то на собак так много уходит…

Миша обещал, и он исполнит. Трузенгельд цветов своей возлюбленной не подносил, но щенков сбывал. Наравне с другими услугами…
2
Бродкинские деньги… Их хозяин поглощал в кабинете одинокий диэтический завтрак: макароны, но без сыра и масла, кусок вареной рыбы без соли, немного сухого, тоже без масла, картофеля, жидкий чай со специальным печеньем. Достаточно, чтобы жить и быть сытым, но довольно противно на вкус. Больной тщательно соблюдал диэту.
Он знал, о чем «советуется» жена в своей спальне с Мишей. Зная Марью Яковлевну, он мог представить себе «совещание» во всех подробностях и относился к подобным вещам с полнейшим безразличием.
Трузенгельд – это было даже неплохо. Свой человек, голова на плечах есть, с характером, неглупый, право же, совсем неглупый, дельный, язык подвешен. Ах – всех им чертей в спины! – он забыл намекнуть Трузенгельду, чтобы тот повлиял на эту бабу в отношении домработниц. Сейчас толстая дура прислушалась бы…
Переменись обстоятельства – и Бродкин мог себя представить в роли Трузенгельда. Деньги нужно уметь брать всюду. Случись с ним что-либо, и эта идиотка пропадет, как овца, именно из-за денег. Мишка поднимет бродкинских детей и не обидит Маню. А что он будет наставлять «бочке» рога – это естественно: он моложе, а она через пяток лет станет совсем старухой. У умных людей все шито-крыто, больше ничего не требуется.
Завтра вечером – с золотом в Москву. Заодно он покажется своим профессорам.
Бродкин знал свою болезнь. Превозмогая малограмотность, он даже почитывал кое-что медицинское. Болезнь редко излечимая, состояние тяжелое, но нужно тянуть. Свыкшись, он позволял себе размышлять о возможной смерти как делец: деньги обязывают думать обо всем. Но по-настоящему он не верил в свою смерть. Медицина делала колоссальные успехи. Говорили об излечениях, невозможных еще лет десять тому назад, а ныне обычных, о поразительных операциях. Нужно тянуть. Главное, – тянуть время, жить, дождаться дня, когда наука доберется и до его, Бродкина, болезни.
И еще дождаться времени, когда состояние можно будет пустить в дело. Бродкин считал, что он не делал и не сделает ошибок, которые допустили все эти бывшие Брелихманы, Гаминские, Мейлинсоны, Каменники и прочие. Они с их приемами – хлам такой же, как их хваленое «старое время».
У часовщика заняты пальцы, в какой-то мере – внимание, а мысль свободна. Всю свою сознательную жизнь, что бы он ни делал (а Бродкин много и молчаливо отсидел над часовыми механизмами), он глубоко, настойчиво и с увлечением размышлял о движении денег и о способах их «размножения». Своим умом он додумался до главной ошибки бывших богатых людей: по его мнению, их капиталы были малоликвидны, омертвлены. Мельницы, заводы, земля, товарные обороты создают для владельцев престиж богатства, но в нужную минуту оттуда не вытащишь капитал. Поэтому все эти богачи, за ничтожными исключениями, оказались нищими сразу же после прихода большевиков к власти. «Национализированные люди», как их презрительно называл Бродкин. Нет, по его мнению, капитал должен быть в быстром обороте: продал – купил, купил – продал, и капитал вертится, как колесо автомобиля.
Бродкин мечтал… «Первые годы, какое это будет роскошное время! У кого будут возможности после уничтожения советской власти? У обладателей наличных. Их найдется немного, таких людей. Польется американский, европейский капитал. Но в двухсотмиллионной стране всем хватит места в «золотой период» возрождения частной собственности, всем, кто обладает наличными.
И в руках людей, знающих местные условия, капитал будет удесятеряться, расти, как шампиньоны, – любимые грибы Бродкина. Он сам собирал их во дворе, за погребом. Грибы росли над тем местом, где был надежно захоронен «основной капитал» Бродкина, запаянный (часовщики умеют паять) в цинковые банки.
Стоимость дома, всего «видимого имущества» Бродкина, и оборотные средства, находящиеся под рукой, в целом относились к подшампиньонному «капиталу», как, например, нормальные банковские проценты за два года относятся к среднему остатку текущего счета – десятая или пятнадцатая часть.
3
Владимиру Борисовичу Бродкину не приходилось слышать о пушкинском «Скупом рыцаре». Но если бы кто взял на себя труд растолковать ему этот художественный образ (труд невеликий – Бродкин был понятлив), то Владимир Борисович воспринял бы «Скупого» единственно как маньяка, мечтателя-идиотика. Сидеть на горах денег и лишь грезить о своих возможностях, как вынужденно грезит он, Бродкин! Сумасшедший «Скупой», разве кто или что мешало ему пустить в полный оборот властное золото! Еще один тип дураков этого самого «прошлого времени», чтоб ему холера! Нет, отнесите ваши сказки, знаете куда?!. Он человек практичный.
Возможно, сиденье на золоте уродовало психику богача, но, конечно, не так, как у «Скупого рыцаря». Представьте себе самочувствие, скажем, свиньи, супоросость которой длится сверх всяких сроков, – годами. Брюхо растет, и нет никакой возможности, никакого средства отделаться от мертвой тяжести драгоценного брюха. Более того: нет ничего дороже этого брюха, и все делается лишь для него.
Вы скажете – прогрессирующая опухоль сознания человека, не в свой час родившегося: Бродкин опоздал лет на сто или, вернее, родился не в той части света?
Не совсем так. Бродкин жил своим временем и, как умел, следил за временем. Никогда больше он не вмажется в ту политику, которая, в лице окаянной памяти Флямгольца, чуть было не задела его в сорок первом году. Тогда он был молод и глуп. Он воображал, что неплохо будет наладить дружбу с Гитлером. Пусть Гитлер душит всех этих разноплеменных интеллигентов, всю революционную шваль, беспокойную, живущую «идеями», – тех, кто так много способствовал совершению русской революции еще задолго до явления на свет Владимира Борисовича Бродкина.
Ошибка… Политика? Заниматься политикой?! Э, политика для дураков, для старых шляп вроде ветхого Фроима, нежного папаши Мишки Трузенгельда. Не-ет, явись к нему сегодня агент любой разведки, и Бродкин сдаст его «куда нужно» со всеми потрохами.
Рассматривая свои длинные, сужающиеся к концам пальцы в пучках черных волос, Бродкин размышлял о некоторых, по его мнению, намечающихся тенденциях советской жизни. Разрешается собственность… Бродкин, конечно, хорошо понимал разницу между собственностью личной, которая допущена, и собственностью частной. Можно иметь дом и дачу и даже вторую дачу, скажем, в Сочи, Сухуми, купить автомобиль, нанять шофера. Это не частная собственность, она не дает дохода, хотя не возбраняется продавать свои фрукты, овощи, те же куриные яйца. Но, быть может, советская власть сделает еще маленький шажок и разрешит чуть-чуть и частную собственность? Бродкин допускал, что власть вдруг да и «образумится».
И так, и так, и так – жить стоило для будущего, а не для прошлого – в смысле его невозможного возвращения. Ах, проклятая печень!..
4
Действительно, Миша Мейлинсон зашел вечерком с визитом и передать привет от мамы – «длинноносой Рики», как ее звали у Бродкиных.
«Подрастает славный мальчик», – подумала Марья Яковлевна. После нынешнего свидания с Трузенгельдом у нее появились насчет Миши Мейлинсона так называемые игривые мысли. Говорят, что небезопасно, глупо указывать женщине на своего возможного соперника.
Желторотый молодой человек, уже напускавший на себя воображаемую «взрослость», никак не подозревал, что эта «толстенная бабища», как он и его приятели непочтительно именовали мадам Бродкину, могла бы иметь на его счет кое-какие намерения.
Тем временем Марья Яковлевна кокетливо щурила глазки, шутила со свежим мальчишкой, интересовалась его «сердечными делами». Про себя же она как бы примеривала Мишу Мейлинсона, примеривала на роль, подозревать о которой неопытный юнец никак не мог. Кончилось тем, что Бродкина отказалась от мальчика по совокупности ряда соображений, в числе которых был и риск огласки. Марья Яковлевна никак не желала разрыва с Трузенгельдом. Боясь обидеть своего возлюбленного, Бродкина была ослеплена самомнением, что свойственно многим, а ей особенно. Иначе говоря, выражаясь коммерческими терминами, она завышала цену своей пленительности и забывала о значении капитала своего мужа.
К вечеру Владимир Борисович почувствовал себя лучше и вышел к семье в столовую. Не показывая вида, он поразвлекался «выкручиваниями» своей жены перед желторотым Мейлинсоном, приходившимся каким-то троюродным братом Михаилу Трузенгельду. А потом пришла пора для дела. Бродкин отвел юношу к себе в кабинет и стал расспрашивать о московской жизни:
– Как дела с ученьем? Учись, я учился мало: работал. А у тебя есть возможность. А как жизнь вообще? За девочками бегаешь? Правильно, не теряй времени. Я с шестнадцати лет никому проходу не давал. Слышно, Рика Моисеевна купила-таки квартиру?
– Да, мы купили у владельцев хорошую комнату. За Рижским вокзалом, пятнадцать метров, с отдельным ходом, кладовой. В общем треть владения, – деловито объяснил Миша Мейлинсон. – И три минуты ходьбы от троллейбуса.
– За сколько?
– За десять.
– Мгм… – согласился Бродкин. «Десять тысяч? Расскажите моей бабушке!» Но мальчишка не должен быть в курсе таких дел, и Бродкин не собирался смеяться вслух.
Мишина мать, дочь старого Мейлинсона, была замужем за своим двоюродным братом, тоже Мейлинсоном. Перед войной они жили на западе, в Гомеле. Муж Рики был убит на фронте в сорок втором году. «Тогда Мише было восемь лет, теперь ему восемнадцать» – подсчитал Бродкин и продолжал расспрашивать:
– А ничего нет оттуда?
Молодой человек понял вопрос. Он привык к тому, что словами «оттуда» и «там» обозначали ветвь Мейлинсонов, эмигрировавшую в 1920 году и ныне преуспевающую в одной южноамериканской республике. Несмотря на давность, связь с родственниками не прерывалась.
Южноамериканский Мейлинсон приходился младшим братом старому котловскому Мейлинсону. Следовательно, его дети были двоюродными братьями и сестрами Рики Мейлинсон, а Миша – его внучатным племянником.
Преуспевающий Мейлинсон-младший! Умный человек успел ликвидировать дела, не считаясь с убытками от быстрой ликвидации, не то что старший, и вложил капитал в доллары, а не в дурацкие «займы Свободы». В Южную Америку Давид Мейлинсон проехал через Харбин и вскоре, прибыв с деньгами, «заимел» свое дело.
– Оттуда? – переспросил Миша Мейлинсон, понизив голос.
– Говори, не шепоти, – ободрил его Бродкин. – Ты, благодарение богу, не в коммунальной квартире.
– Не знаю, – рассказывал Миша. – Вы знаете, мама в последние годы боится переписываться. Недавно она куда-то ходила и рассказывала, что оттуда было письмо. Но домой его не приносила. Там все здоровы, дела идут хорошо. И Гриша (это был внук Мейлинсона-младшего и троюродный брат Миши) уже женился на американке. Он старше меня на два года. Он, – Миша Мейлинсон завистливо вздохнул, – американский гражданин!
– А когда это было, письмо? – спросил Бродкин.
Юноша подумал соображая:
– Незадолго до того, как мы оформили нашу комнату.
Бродкин, узнав все, что мог узнать, перестал задавать вопросы и заговорил о другом:
– Если будет время, я через пару-тройку дней повидаю твою маму. Я завтра еду в Москву. Напиши мне ваш новый адрес и телефон, на всякий случай.
– А как ваше здоровье? – еще раз спросил вежливый Миша, хотя он уже и осведомлялся, войдя в дом.
– Все то же. В Москву еду показаться моим профессорам, как всегда.
Передавая листок с адресом и телефоном, Миша объяснил:
– Этот телефон не в нашей квартире. У нас еще нет телефона; мама хлопочет, ей обещали. А около этого телефона мама часто бывает.
– Этот телефон я знаю, – заметил Бродкин.








