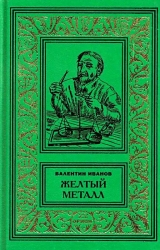
Текст книги "Желтый металл. Девять этюдов"
Автор книги: Валентин Иванов
Жанры:
Природа и животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Часть четвертая
ПУТИ-ДОРОЖЕНЬКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
На Комсомольской площади Владимир Борисович Бродкин уселся в такси так, как это делают привычные москвичи, которые не спрашивают водителя, свободен ли он, не пытаются по-провинциальному сначала узнать, сколько будет стоить проезд, чтобы взвесить свои скромные ресурсы на фоне столичных удобств. Бродкин запросто открыл дверцу, втиснулся неловким пухло-жирным телом на сиденье рядом с водителем и распорядился:
– К Цэдэса.
Бродкину спешить было некуда. Он отлично мог бы добраться до места сначала на четвертом троллейбусе, потом из центра на тринадцатом. Мог бы он, обойдя вокзал, по кольцевой линии метро доехать до Новослободской и там сесть на восемнадцатый автобус. Пусть эти маршруты потребовали бы лишних десять-пятнадцать минут, зато в кармане останется рублей двенадцать. Бродкин не был охотником бросать деньги на ветер. Но сейчас ему хотелось лишь одного: поскорее принять лекарство и лечь, во что бы то ни стало лечь!.. Печень разыгралась не на шутку. Приступ. Болезни вызывают досадные дополнительные расходы.
У Бродкина с собой были небольшой пузатый чемоданчик и круглая плетеная корзиночка из лозняка, зашитая сверху холстинкой. С такими корзиночками ходят по грибы, по ягоды. С трудом повернувшись, Бродкин поставил корзиночку на свободное заднее сиденье, а чемоданчик, хотя его это и стесняло, оставил у себя на коленях.
Вверх и направо мимо высотного здания, черти бы его побрали вместе с проклятой печенью, – скорее бы! Толчея машин. Зеленые ящики грузовиков, лягушачьи задки «Побед», горбатые спинки «Москвичей» с колесом на горбу, черные «ЗИМы» и «ЗИСы». Над их толпой высокие спины троллейбусов со щупальцами-ножками. Зисовский автобус пялил на Бродкина пустые глазницы в очках, а у Бродкина перед глазами все шло кругом. Чортов шофер не так поехал, ведь у Орликова всегда затор!
И на Колхозной затор. Опять, опять жди… Наконец-то вниз, к Самотечной! Тут легко повернуть вправо вдоль бульвара. Вот и площадь; на левой руке пятиконечный театр в колоннах.
– Дальше… Я скажу где, – проскрипел Бродюин сквозь стиснутые зубы. Стрелка на циферблате автомобильных часов показывала, что прошло всего четырнадцать минут. Хорошо, что он взял такси! Цэдэса уже позади.
– Остановитесь здесь. Нет, на том углу. У тротуара.
Мелкие бумажки были приготовлены: ведь у водителя может не найтись сдачи. Бродкин расплатился и вылез. Неудобные дверцы у этих машин…
– Вы забыли! – крикнул водитель.
Эта чортова корзинка, она доведет до ярости! Ворча и охая, Бродкин перешел очень узкую улицу. Арка в фасаде, за ней знакомый запущенный двор. Нужный Бродкину дом, трехэтажный, старый, кирпичный, стоял в глубине. Ну, еще несколько усилий! Бродкин прошел вдоль забора. Теперь на третий этаж. Экая паршивая лестница, с крутыми ступенями, чтоб ей провалиться! Наконец-то и дверь, обитая холстом. Бродкин постучал ногой, так как обе руки были заняты.
Каждый раз, когда перед ним отворялась эта дверь, Бродкина посещала одна и та же мысль; и сейчас, несмотря на острые приступы боли, он подумал: «И это они называют «отдельная квартира»! Тоже мне люди!..»
Конечно, не каждому дано иметь собственный особнячок с двором, садом, огородом, погребом и прочими надворными постройками, находящийся хотя и не в Москве, но все же в городе крупном и культурном, ставшем университетским еще задолго до революции.
Отдельная московская квартира старшей сестры Владимира Борисовича Бродкина вытянулась в одну линию без помощи коридора. От входа крохотная кухонька с загородкой-чуланчиком для ванны, три шага – и первая комната, еще четыре – вторая, и все тут. Когда бывали открыты дверь из кухни в первую комнату, а из первой – во вторую, то квартира просматривалась с порога вся.
– У нас анфилада, как в старых царских дворцах, – шутил племянник Бродкина.
Странная планировка квартирки вовсе не была результатом подражания дворцам. Какие там дворцы! Просто-напросто в некую дальнюю эпоху, до появления сестры Бродкина на этой улице, кто-то сумел сделать из одной квартиры две, выкроив с помощью так называемого «черного» хода эту самую анфиладу.
Кажется, приступ болей кончался сам собой. Как это бывало обычно, Бродкин почувствовал облегчение сразу. Поздоровавшись с сестрой, которая была старше его лет на восемь, Бродкин дал ей корзиночку:
– Тебе от Маши.
В корзиночке прибыли знаменитые яйца от бродкинских кур, тщательно переложенные сеном.
– Как Лева? – осведомился Бродкин о племяннике.
– На курорте.
– А Фаня?
– Фаня тоже.
– Это хорошо, – согласился заботливый дядя.
Но хорошо в его смысле. Бродкин не выносил своего остроумного племянника, не лучше относился и к племяннице. Всегда критически настроенные к каждому оттенку речи Бродкина, молодые люди не умели скрывать свое недоброжелательство. Они держались в рамках вежливости в обращении со старшим родственником, но Бродкин был способен отлично различать все тонкости отношений. Его вовсе не приходилось тыкать носом.
Эта ненавистная Бродкину молодежь пошла в отца а худое дерево не приносит добрых плодов. Анна Бродкина в Котлове никогда не бывала. Летом 1930 года она вышла замуж за приехавшего на каникулы к родителям в западный городок В. студента-медика. Брак по любви. Сама Анна той же осенью окончила местные зубоврачебные курсы. В разраставшемся и индустриализировавшемся В. хирург Исаак Осипович Кацман и прожил с женой довольно счастливо до страшного лета сорок первого года.
Врач Кацман был мобилизован на третий день войны и, получив предписание, куда-то выбыл. Он успел поручить семью вниманию товарищей, работников того завода, в поликлинике которого работал последние девять лет.
Друзья в последнюю минуту не забыли и о семье врача. Анна Борисовна Кацман с двумя малолетними детьми проделала скорбный путь на железнодорожных платформах с эвакуированными вглубь Средней Азии, побывала в Ташкенте, в Самарканде. Она сумела сохранить жизнь детей и, что было, пожалуй, потруднее, выжила сама. Работала, даже совершенствовалась, превратилась в стоматолога.
А Исаак Осипович исчез навсегда. О нем ничего, ничего!.. С дороги, в какую-то тоже последнюю минуту, он посильно помог своим, сумев прислать еще в В. аттестат части на военного врача Кацмана И. О. Аттестат, вырванный где-то в дороге, в суматохе первых организационных дней, сделался последней вестью. Больше совсем ничего: ни письма, ни слухов. Ничего!.. Попал в окружение. Другие попадали и выходили все же, а Кацман исчез.
Он появился в конце сорок четвертого года. Он воскрес в Указе о присвоении звания Героя. Посмертно…
Семье рассказали. В сущности, Кацман Исаак Осипович был одним из многих. Врач сформированного из «окруженцев» партизанского отряда, Кацман после разгрома отряда уцелел и оказался в одном из временно оккупированных украинских городов. Законспирированный, под чужим именем, сумев выдать себя за фольксдейче, он почти полтора года обманывал гитлеровцев, работал в больнице, держал в своих руках связи, под носом гитлеровцев устраивал в больнице раненых партизан. Он почти полтора года, как акробат, танцевал на тонкой проволоке, под которой не было предохранительной сетки. Семнадцать месяцев! С его мужеством и выдержкой он мог бы продержаться до освобождения Украины. Погиб, случайно опознанный предателем, человеком из В., знавшим его в лицо. Умер трудно, истерзанный гитлеровцами, озлобленными вдвойне и на советского партизана, и на фальшивого фольксдейче, на еврея, осмелившегося выдать себя за представителя высшей нордической расы.
2
– Ты прости, Владимир, сегодня я принимаю в поликлинике с двенадцати, – извинилась Анна Борисовна. – Если захочешь отдохнуть, я приготовила тебе постель Левы. Хочешь поесть – посмотри на плите и в холодильнике. Уйдешь – вот ключи. До вечера!
Оставшись наедине, Бродкин принял свои капли, разделся и прилег. Он подремал полчаса, спать не хотелось. Он отдыхал после приступа. Почувствовав себя вполне хорошо, встал и прошелся по комнаткам в одном белье – так прохладнее. Хорошо, что нет молодежи.
В крайней комнате, бо?льшей, где помещались Анна и дочь, висел большой портрет Исаака Осиповича. Бродкин не встречался с Кацманом при жизни.
– Да, лучше живому псу, чем мертвому льву, – глядя на портрет зятя, вслух произнес Бродкин сомнительное изречение, плод не мудрости, а упадка духа, тоски, сомнения и страха, – слова, бывшие данью дней скорби древнего жизнелюбивого поэта. Но Бродкин, как и ему подобные, принимал всерьез это малодушное восклицание.
Среди наспех захваченных в эвакуацию вещей нашлись две карточки мужа Анны Борисовны. С одной удалось получить хорошее увеличение. На этой фотографии Кацману было лет двадцать пять – двадцать шесть: он фотографировался вскоре после получения диплома врача. Волнистые и длинные волосы, зачесанные назад, казались темными. На самом деле Исаак Осипович был, как говорили, русый, даже светлорусый. Это и помогло ему разыгрывать фольксдейче. Он именовался у гитлеровцев Апфельбаумом – из немецких колонистов.
С портрета смотрело серьезное лицо, глаза имели какое-то мечтательное выражение.
«И с такой внешностью заморочить головы немцам! – думал Бродкин. – Да, тип…» – Уж он-то, Бродкин, узнал бы его за версту!
Для Бродкина внешность Исаака Осиповича была действительно типичной для интеллигента из евреев. Сюда Бродкин вкладывал всю свою злость к тем, кто, в нарушение здравого смысла, вместо денег старался в старое время делать революцию, вместо дел – сидел в тюрьмах и на каторге, кто погибал во имя «идей» – другое презренное слово. А ныне, когда революцию уже не нужно делать, появляется такой Кацман со своими коммунистическими кацманятами. Для блага человечества… Фа! Конечно он, Бродкин, малограмотный человек, на которого даже родная сестра, ставшая слишком умной, смотрит свысока, на самом деле умнее их всех, вместе взятых, в сто раз!
В изголовье кровати сестры, зацепленные браслетом за верхнюю перекладину, висели женские ручные часы. Забыла надеть… Бродкин взял часы и с профессиональным интересом часовщика приложил к уху. Ход есть, годятся, чтобы узнавать время. Простенькие, в металлическом корпусе. В этой квартире нет вообще ни одной «порядочной» вещи. Тоже мне, семья Героя!..
– Эге, – вдруг громко сказал Бродкин, – они-таки сумели поставить телефон!
Отлично, это избавит его от необходимости итти к автомату в комиссионный магазин за воротами или к соседям по площадке лестницы, как делали раньше сами Кацманы.
Бродкин набрал номер клиники и, узнав, что нужного ему профессора нет, позвонил в институт. После четвертой попытки он нашел профессора, договорился с ним о приеме. Бродкин был «интересным» больным: интересным в смысле формы заболевания и его течения. Бродкин уверял, что это привлекало к нему внимание специалистов: «На мне же можно заработать степень!»
Покончив с делом, нужным и как больному и для оправдания поездки, Бродкин позвонил по телефону, номер которого дал ему Миша Мейлинсон.
– Рика Моисеевна есть? – опросил он.
– А кто это говорит? – ответили вопросом на вопрос.
– Я ей привез поклон из Котлова.
– Из Котлова? От Миши? – живо заинтересовались с другого конца провода.
Вслед за тем Бродкин услышал отзвуки переговоров, и другой женский голос, знакомый, спросил:
– А кто это приехал из Котлова?
Бродкин назвал себя, отметил, что, здороваясь, Рика Моисеевна не назвала его по имени, и перешел к делу:
– Хотел бы сегодня же вас повидать.
– А как это устроить? – спросила Рика Мейлинсон.
– Как хотите. Могу приехать к вам. Называйте время.
– Нет, – возразила Рика, – давайте встретимся в садике перед Большим. Я выйду туда через десять-пятнадцать минут.
– Я далеко. Хотите, через полчасика?
Мейлинсон согласилась.
3
В садике перед Большим театром Бродкина уже ждали. Полная невысокая женщина лет сорока, с узким длинным носом, который в сочетании с круглыми выпуклыми глазами придавал ее лицу что-то сорочье (может и клюнуть и спорхнуть, судя по обстоятельствам), что-то беспокойное и вместе с тем дерзкое, Рика Моисеевна Мейлинсон прогуливалась по дорожке между скамьями, заполненными главным образом отдыхающими приезжими.
Днем садик перед Большим театром оказывается на перекрестке между двумя известнейшими центрами торговли: ГУМом и так называемым Большим Мосторгом, или ЦУМом.
Почему Рика Моисеевна выбрала это место? Бродкин без труда сообразил, давно, еще при первом свидании, что какие-то знакомые Мейлинсон, скорее друзья, жили поблизости, на Петровке или на Пушкинской, – словом, очень недалеко. Чтобы женщина смогла оказаться на месте уже через десять минут, ей нужно пройти шагов триста. Ведь у самой деловой из десяти минут семь уйдут на зеркало, пудру и губную помаду. Женщина – это вам не солдат!
Столь близкими к Большому театру знакомыми Рики Моисеевны Бродкин никогда не позволял себе интересоваться, а номер телефона он спросил у Миши Мейлинсона на всякий случай – не изменилось ли что? Телефон этот ему известен, не первая встреча.
При той встрече, первой, Рика Моисеевна подошла к Бродкину со словами:
– А я вас помню по Котлову.
Сегодня Бродкин сам узнал Мейлинсон, хотя когда котловский богач вступил на посыпанную чем-то красным дорожку, женщина прогуливалась к нему спиной. Он пошел за ней, дожидаясь поворота.
– Здравствуйте, Володя.
– Привет, привет, Рикочка.
– Вы видали Мишу? Как он?
Материнское внимание… Нужен ему этот сопляк!
Рика Моисеевна Мейлинсон по-своему нравилась Бродкину. Нравилось именно это беспокойно-сорочье выражение лица, нравились порывисто-резкие жесты, нравилась готовность стремительно действовать, сказывавшаяся в быстрой игре глаз, губ, бровей. Деловая баба, не то что законная жена, толстая дура Марья Яковлевна, урожденная Брелихман.
– Слушайте, собирается ваш Миша сделать вас бабушкой, или не собирается, мне-то что! – ответил Бродкин Рике. – Вы что, думаете, я приехал рассказывать вам его шуры-муры?
Хорошо поняв и шутку и намек, Рика ответила улыбаясь:
– Нет, не думаю.
Бродкин взял ее под руку, и они медленно пошли в сторону метро «Площадь Революции».
– Как там? – спросил Бродкин, упирая на слово «там».
– Нормально.
«С ней хорошо, всегда в двух словах», – подумал Бродкин и произнес вслух:
– У меня есть.
– Сколько?
– Четыре.
Они переходили Охотный ряд. Это требовало внимания. «В Москве становится невозможно много машин», – думал Бродкин. Разговор продолжился уже на другой стороне, когда они шли мимо Стереокино.
– По сорок, – сказал Бродкин.
Рика Моисеевна смолчала.
«Эге!.. – подумал Бродкин. – Неужели будет торговаться?»
Но Рика проронила:
– Согласна.
– Сегодня я не могу, – сказал Бродкин. – Буду у своего профессора.
Не поинтересовавшись здоровьем собеседника, Рика заметила:
– Сегодня и я не смогу.
Бродкин ожидал этого. Сегодня она истратит время на другое: теперь она знает, сколько нужно денег, и должна ими запастись где-то. Деловая штучка! Бродкин спросил:
– Когда же?
– Завтра утром.
– Хорошо.
– Приезжайте ко мне. Вы у меня еще не были, запомните адрес.
– Не надо. Я узнал от Миши.
Сорочье лицо не повернулось, а дернулось к Бродкину: сейчас тюкнет в самый глаз! Но Рика не клюнула, а спросила:
– Зачем вы его расспрашивали?
– Ш-ш-ш!.. – оборонился Бродкин. – Не ссорьтесь! Пришлось к слову. Он сам рассказывал о вашей покупке.
С этим они и расстались самым простейшим способом: кивок – и каждый пошел в свою сторону. Бродкин – в известную ему диэтическую столовую, где можно получить мясо, варенное на пару, любую кашку, бобы, диэтический хлеб, сухарики, овощи; Рика Моисеевна – куда-то «туда». Куда, Бродкин не знал. Знал бы, пошел сам. Посредники – это чума для настоящей торговли.
Бродкин размышлял: «Хитрейшая юбка! Дельна, что сам чорт! И все-таки баба. Видали, как вскинулась около своего щенка? Кошка!»
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Сегодня Анна Борисовна Кацман принимала в поликлинике с девяти часов утра и ушла из дому, когда Бродкин еще нежился в довольно удобной, хотя и не стильной кровати племянника.
Владимир Борисович позавтракал яйцами от собственных кур. Вчера сестра, как кажется, совершенно не оценила родственного подарка. «Школа Кацмана», – думал Бродкин. И Анна и кацманята были довольно равнодушны к еде. Это непростительно для людей, не вынужденных сидеть на диэте и не слишком-то стесненных в деньгах. По расчету Бродкина, заработка врача-стоматолога вместе с хорошими, думал он, стипендиями, которые получают дети Героя, должно бы хватать людям с такими потребностями. А уж путевки-то на курорты паршивые кацманята наверняка получают если не совсем даром, то с такой скидкой, что можно сказать – даром. При мысли о даровых путевках Бродкин ощутил совершенно определенную зависть: таковы были, есть и будут характеры богачей, если это не пустые кутилы, унаследовавшие деньги от родителей, а дельцы, сами созидающие свое состояние.
В этот приезд Бродкин все время ловил себя на мыслях о детях геройски погибшего Исаака Осиповича. Молодые люди отсутствовали. И, несмотря на отсутствие, они будто бы лезли из всех углов, они были еще неприятнее вдали, чем вблизи. Какое-то наваждение! А все же хорошо, что Бродкин один в квартире: можно действовать без маскировок.
В чуланчике-ванной Бродкин опустился на колени, точно хотел помолиться какому-то банному богу. Извернувшись, касаясь пола щекой, Бродкин победил сопротивление толстого живота и вытащил из-под ванны пакет, завязанный в кусок желтоватой подкладной клеенки.
Здесь было одно удивительно укромное местечко. Туда добирались, может быть, лишь в дни генеральных уборок, да и то вряд ли. Когда Бродкин приезжал в Москву с золотом, то здесь, под ванной, в семи метрах от портрета Исаака Осиповича, находился московский сейф Владимира Борисовича.
Здесь он хранил как бы символ общности душ – своей, Флямгольца, гестаповцев, хозяев Флямгольца и некоторых других, более современных последователей расизма, фашизма и гитлеризма, – невзирая на различные цвета волос, цвета глаз, цвета кожи и прочие расовые признаки.
Подобные мысли, но в иных формулировках, пробежали в сознании Бродкина, пока он, отдуваясь после усилий по извлечению сокровища, стоял на коленях у ванны, опираясь на ее край локтем.
– У-ах! Это что за чертовщина!
Бродкин уставился на пол. Где-то там, под ванной, торчал невидимый гвоздь, будь он четырежды проклят! Край свертка разорвался, и оттуда вытекал золотой песок.
Ругая последними словами ванну, сестру и справедливо не забывая самого себя, миллионер, лежа на брюхе, столовым ножом ликвидировал потерю. Крайнее неудобство места делало его старания форменной пыткой. Все, что можно было рассмотреть с помощью окаянных спичек, которые жгли пальцы, Бродкин высосал из-под ванны.
Глупая, неприятная история, из которой могло получиться совсем чорт знает что, не будь он один в квартире. Но пора одеваться и ехать к Рике.
Бродкин ходил с палкой, медленно. Он поднялся в вагон трамвая с передней площадки, как полагается инвалиду; кто-то уступил ему место. Бродкин передал деньги за билет и уселся, опираясь обеими руками на изогнутую ручку палки. Да, ничего не скажешь, в Москве уличный транспорт очень удобен.
Полузакрыв глаза, Бродкин посапывал в своем весьма и весьма поношенном сером костюме с мешками на коленях, со снабженными «рамкой» во время ремонта обшлагами рукавов, в мятой кепке. Мешочек был зашпилен в глубоком внутреннем кармане жилета и находился там в полной безопасности: в эти часы в трамваях и троллейбусах свободно. И хотя тяжелый мешочек сильно оттягивал карман, жилет и пиджак были так растянуты, так обвисли и потеряли форму, что Бродкин мог бы спрятать живого кота, не только что золото.
Бродкин размышлял о значении вчерашней встречи с профессором. «Все эти медики, – думал Бродкин, – начиная с фельдшера и кончая академиком, обращаются с больными, как с детьми, и не говорят правды». Как человек свободомыслящий и принимающий жизнь такой, какова она есть, Бродкин в свое время познал эту особенность медиков и не хулил их. Он научился наблюдать за врачами и без неуместных приставаний умел приходить к своим выводам, основываясь на характере задаваемых ему вопросов, на выражении лица, голоса, жеста. Как некоторые хронические больные, Бродкин «врос» в свою болезнь; в его пристрастиях бродкинские деньги и бродкинская печенка занимали чуть ли не равноправное положение.
Вчера Бродкин заметил, что «его» профессор будто бы чему-то удивился. Чему? Какой интересный вопрос! В анализах все было прежнее. Жалобы Бродкина тоже прежние. Если в анализах и нашлось что-то новое, чего Бродкин не понял, то уж свои и чужие слова он помнить умел. Профессор равнодушно выслушал сообщение об утреннем приступе. Может быть, он удивился хорошему состоянию больного? Бродкин помнил хмурое лицо профессора при первой встрече в позапрошлом году. Не идет ли дело на лад?
Профессор упомянул о недавнем съезде хирургов, произнес какие-то странные слова, точно все знают их кухню, – и вот что важно! – дал записку к своему знакомому, сказав просто:
– Покажитесь ему.
Бродкин не спросил профессора ни о чем, хотя первая мысль была: а не изобрели ли эти ученые бездельники наконец-то и для него, Бродкина, ту самую операцию, которую давно следовало им изобрести? Очень интересно! Уже давно Бродкин не чувствовал себя так хорошо, как сегодня.
Поскорее бы попасть на прием к этому хирургу. Член-корреспондент!
Налево вытянулись низкие здания Рижского вокзала. Эге, теперь не проехать бы! Бродкину была нужна пятая остановка после Рижского.
Трамвай взял вправо и вкатился на широчайший асфальтированный мост. И вместе с ним подвижной ум Бродкина пустился в погоню за новыми проблемами, грохоча колесами над станционными путями круговой электрички, – грохотал, конечно, не Бродкин, а трамвай. Бродкин же летал с беззвучной непостижимой скоростью по маршруту: Москва – Южная Америка – Москва. Полеты столь колоссальные, к антиподам и обратно, не помешали Бродкину выйти из трамвая на нужной остановке.
Узкая улочка под прямым углом открывалась на Ярославское шоссе. Сюда или нет? Бродкин не постеснялся расспросить. Москва не Котлов, хотя Котлов и не деревня. В Москве никому нет дела, куда и когда собрался Бродкин. Кто здесь знает его! Ясно, сопляк Мишка Мейлинсон хвастался, говоря о трех минутах хода, – это для его длинных ног. Но и Бродкин с его стариковской походкой на десятой минуте оказался где-то вблизи от цели. Заборы, почерневшие деревянные дома с большими бляхами номеров. На таких улицах легче искать нужный дом, а около новых громад тащишься действительно пять минут, пока рассмотришь номер. Бродкин остановился: вот и владение Рики. Вернее, ее треть владения. Бродкин прищурился: он не считал Рику бедной, но она не Владимир Борисович!
Дом небольшой, не старый – и то хорошо! От хозяйского глаза Бродкина не ускользнула свежая краска крыши, подновленный забор и новая среди старых ступенька на уличном крыльце.
Крыльцо не Рики, к ней – со двора. Дворовые постройки дрянные: пара кое-как слепленных сараюшек. А это, конечно, ход к Рике. Шесть ступенек – Бродкин считал, поднимаясь на тяжелых ногах к площадке под навесом. На двери синий почтовый ящик с налепленной бумажкой: «Кв. № 2 Р. М. Мейлинсон».
Изнутри «треть владения» представляла собой длинную комнату с двумя окнами по длинной стене. Вход через тамбур, чтобы помещение не так охлаждалось зимой. Все это Бродкин отметил по деловой привычке.
Рика Моисеевна усадила гостя у стола, помещенного в простенке: места в комнате было маловато. Завязалась беседа.
У подобных «деятелей» соблюдается какой-то предварительный ритуал, прямого отношения к делу не имеющий, но обязательный для приличия. Разговоры между дельцами на общие темы, быть может, удовлетворяют какие-то инстинкты порядочности.
Нельзя же всегда и сразу кричать: «Почем? Набавьте! Не могу! Даю! Беру! Деньги на кон!»
Рика, как хозяйка, устроила чай.
Вчера они торопились, и место для разговоров было не подходящее. Рика расспрашивала о семье Бродкина, об общих знакомых – «наши милые котловцы». Кое-кто ее действительно интересовал, в частности девушки из знакомых семей.
– Миша – ребенок, но именно в его возрасте бывают бурные увлечения, а ему нужно учиться еще так долго. Увлечения мешают.
Бродкин вспомнил, что сама Рика выскочила за убитого на войне Мейлинсона шестнадцати с чем-то лет от роду. Девчонке не терпелось… И Владимир Борисович, ухмыляясь, поддакнул:
– Ясно, девчонки опасны: как клопы впиваются. Чорт их дави, какая-нибудь может повеситься мальчишке на шею, что жернов.
Забыв собственную историю, Рика продолжала:
– Ах, Миша растет, являются запросы! Я, как мать, не возражала бы, появись у него дама. Девушки опасны, еще женит на себе…
Вспомнив «выкрутасы» своей жены в присутствии юного Мейлинсона, Бродкин засмеялся:
– Во-во! Оставьте его в Котлове, если юбок у вас в Москве не хватает. Получит и воспитание и практику на общую пользу. И… – Тут он впал в столь непринужденный цинизм, что Рика остановила гостя:
– Довольно, довольно! Вы дойдете бог знает до чего. Уж эти мужчины!
– Ладно, – согласился Бродкин. – Расскажите, что делается «там».
Для Рики Моисеевны Бродкин был «своим», то-есть человеком, от которого «там» не скрывалось. Мать Миши Мейлинсона пустилась рассказывать о новой даче, которую в известном курортном месте на берегу океана построил себе великий Мейлинсон-младший.
– Понимаете, там глубокая бухта, вода тихая, а за акулами во время купального сезона следят с вышек на берегу.
– Чорт с ним, с купаньем, а вдруг за акулами не уследят? – перебил Бродкин. Но о том, что в купальный павильон американских Мейлинсонов проведен водопровод, он выслушал с интересом:
– Океанская вода так солена, что после купанья приходится принимать пресный душ, – объяснила Рика.
– Душ – это еще туда-сюда. Без акул…
Рика упивалась возможностью рассказать о прелести и величии жизни своих южноамериканских родственников. Лучи славы заморского дядюшки согревали племянницу. Ей хотелось показать себя перед темным котловским богачом, расплывшимся перед ней грудой нездорового жира, в старом, грязном костюме, от которого откажется и скупщик старья. Небритый, в грубых пыльных ботинках – такого «типа» Мейлинсоны не пустят даже на порог своих южноамериканских владений. Получай, Бродкин!
Сорочье лицо Рики сделалось еще пронзительнее. Она повествовала с такими подробностями, будто сама побывала «там».
«Чтоб ее дьявол помял во сне! – думал Бродкин. – Либо она выдумывает, начитавшись книжек, либо… Распустила хвост! Ни один дурак не будет писать всей этой брехни в письмах, для этого нужно строчить целый день».
Рике Моисеевне было известно не об одной даче. Она рассказывала об «интересах» Мейлинсона-младшего в оловянных рудниках и в добыче удобрений для сельского хозяйства. Тут уж ничего не скажешь, для Бродкина все было увлекательно. Рассказ Рики превращался в нечто подобное окну, заглянув в которое Бродкин видел иной, соблазнительнейший мир, где текла жизнь именно та, до которой он мечтал дожить вопреки проклятой печени и проклинаемой власти. Владимир Борисович не испытывал к Давиду Мейлинсону зависти, которой, вероятно, была полна Рика. Бродкин завидовал обстоятельствам. Когда исполнятся желания, Бродкин шагнет дальше южноамериканского богача.
Тут Бродкин дал себе ответ на неоднократно задававшийся вопрос, и ответ был таков: и это золото и то, что он раньше сбывал Рике, каким-то образом относится к Мейлинсону-младшему. Оно перебирается за границу каким-то сравнительно безопасным способом. Такие подозрения были у Бродкина и раньше. Он не зря спросил Мишу Мейлинсона, нет ли вестей «оттуда». И поскольку вести были, Бродкин повез золото в Москву, не опасаясь отказа Рики.
Вдруг Бродкина кольнуло: «А хорошо ли, что так получается?» Ему вспомнилась смертельная опасность, пережитая из-за встреч с Флямгольцем. И Рика, быть может?.. Покачивая головой, Бродкин потерял нить Рикиной болтовни.
Есть у нее связь, есть!.. Что же, теперь ничего не поделаешь, связь есть, но он не должен знать о ней. А она не должна думать, что он догадался. И Владимир Борисович спросил:
– А скоро замуж, Рикочка?
И на уклончивый ответ заявил:
– Та-та-та-та! Чтоб такая женщина жила бы себе монахом? Об этом расскажите моей бабушке! А мне расскажите, кто этот счастливец?
В этом интересном месте их прервал стук в окно. Рика Моисеевна вышла и тут же вернулась со словами:
– Вот некстати! Пришел страховой агент и с ним кто-то из РЖУ. Меня зовут мои совладельцы.








