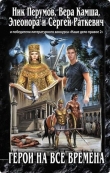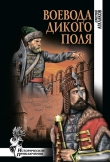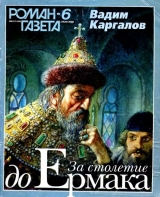
Текст книги "За столетие до Ермака"
Автор книги: Вадим Каргалов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Хорошо-то как! – говорили ратники, вылезая из своих шалашей на сытный дух мясного варева, омывая заспанные глаза в студеной иртышской воде – десятники в то утро людей не будили.
Варево хлебали неторопливо, с разговорами и шутками, разве что только песни не пели и в бубны не играли, а так – праздник праздником.
По христианскому обычаю, переодевались в чистые исподние рубахи. Два случая бывает, когда русский человек меняет исподнее без банного омовения: перед праздником и перед боем. Для истинного воина ратная потеха – тоже праздник…
Точили сабли и секиры, осматривали ручницы, натирали влажным песком шлемы и пластинки панцирей. Русский воин нарядным выходит и на праздничное торжество, и на бой.
Приятели менялись нательными крестами, нарекали друг друга побратимами. Тоже древний обычай русского воинского братства – быть в жизни и в смерти едиными.
Кто-то сказал, что будет этот бой последним, предадутся остяки в полную государеву волю и придет на Обь-реку великая тишина. Многозначительные слова «Последний бой!» пошли гулять по воинскому стану. Радовались люди: раньше-то шли вперед и вперед, а после этого боя надобно ли будет дальше ратоборствовать, может, к дому повернут воеводы, на Святую Русь?
Воеводы и сотники запросто подсаживались к кострам, сами заговаривали о том, что на Оби-реке, кроме Молдана, нет больших князей, должны замириться обские люди, если его взять.
Пищальники Левки Обрядина вытащили на берег легкие тюфяки, прилаживали к ним полозья: большие воеводы приказали тянуть наряд на гору, следом за ратью. Пороховое зелье и дробосечное железо пересыпали из тяжелых больших коробов в малые корзины с ручками, чтобы двое воинов могли носить огненный запас за каждым тюфяком. Крутились возле тюфяков доверенные дети боярские, назначенные идти вместе с пищальниками. Необычное предстояло дело, ранее невиданное, – с тюфяками, словно с ручницами, выкинуться в полевой бой!
Князь Курбский строго-настрого наказал детям боярским:
– За наряд отвечаете головой. Как выпалят – сомкнись впереди, остяков до тюфяка не допускай, рубись саблей, зубами грызи, но останови. По сторонам не смотри, воеводы сами подмогу пошлют, если надобно. Ваше дело – тюфяки беречь!
Григорий Поплева, Андрей Поршень, Григорий Желоб и другие княжеские дворяне поддакивать устали, а князь Курбский все наставлял, наставлял.
Видно, сам он был не вполне уверен, что поступает правильно, выдвигая тюфяки в чело полевой рати. Непривычно было так воевать, боязно. За потерянный наряд с воеводы спрашивали строго. Но Салтык говорил, будто бы в Диком Поле, куда хаживал он со служилым царевичем Нурдовлатом, тюфяки с собой возить привыкли и не единожды ошарашивали крымских людей огненным боем, малой кровью добывали победы. Может, и верно говорил Салтык, но ведь спросят дьяки в Москве: «Тюфяков и пищалей дадено было для похода столько-то, а сколько назад привезли?» Ему, князю Курбскому, ответ держать. Если даже поделят вину с Салтыком, то на обоих хватит – великая вина растерять наряд, никакие победы ее не искупят!
Может, раньше и не согласился бы князь Курбский с Салтыком, потому что привык думать: стародавнее, устоявшееся – лучше. Но больно уж круто ломается жизнь при нынешнем государе Иване Васильевиче, не знаешь, за что держаться, за старое иль за новое. Многие знатные, за старину ратовавшие, в опале оказались. Это в прошлые устойчивые времена опалы не больно-то опасались. Обидится опальный боярин – и к другому князю отъедет, и снова в милости. Ныне же ни у кого, кроме великого князя Ивана Васильевича, милости не найти. И недоостеречься страшно, и переостеречься – тоже. Нет ныне устойчивости, нет!
Взять этот самый сибирский поход. Разве так раньше в походы ходили? Положи всю чужую землю пусту, жги села и забирай пожитки, пленников с собой уводи, чтоб оскудел вконец неприятель, – и похвалы удостоен будешь! А ныне? Велено не кровопролитием искать новые землицы для государя, но миром. Нехристей, сыроятцев, идолопоклонные народцы не обижать без нужды! Господи, какие смутные времена наступили!
Трудно принимал князь Федор Семенович Курбский Черный новшества, но явно противиться не смел. И не только строгий государев наказ вынуждал князя смиряться. Все чаще казалось Курбскому, что есть в этих новшествах какая-то потаенная великая правда, которая не вмещается в границы привычного, и что Салтыку эта правда доступна, а потому он – сильнее…
Завтра радостный, прямой бой – лоб в лоб – с Молданом, без хитрости. По душе такой бой князю Курбскому. Скорее бы завтра!
Назавтра Федор Курбский действовал так, как привык, – отважно и бесхитростно. Большую рать, высадившуюся с судов на песчаный берег, он построил плотными рядами и двинул прямо в распадину. Впереди и по бокам – дети боярские в кольчугах и панцирях, с изготовленными ручницами, в середине – тюфяки на полозьях (каждый тянули веревками десятки ратников), корзины с огненным запасом. За детьми боярскими – устюжане, вычегжане, вымичи, великопермцы, длинные копья, как частый ельник, волнуются. Под княжеским стягом с ярославским свирепым медведем – сам Федор Семенович, а под другим стягом, с ликом святого Георгия на украшенном лентами древке, – священники Арсений и Варсонофий в златотканых ризах, кресты к нему воздели, благословляя воинство. Трубят боевые трубы, пронзительно взвизгивают сурны. Воеводы стучат в небольшие медные барабаны, поторапливая воинов. В конном бою такие барабаны обычно к седлам привязывают, но здесь в войске лошадей нет, барабаны несут в руках холопы, торопливо вышагивая рядом со своими господами. Оглушительно рокочет набат – огромный, украшенный медными бляхами барабан, который несут на шестах дюжие ратники; два оголенных по пояс послужильца князя Курбского непрерывно взмахивают тяжелыми деревянными билами.
Так, с ликующими трубными возгласами, веселым барабанным боем, лязгом оружия и тяжелым топотом многих сотен воинских сапог, всползала на гору рать князя Федора Семеновича Курбского Черного, и казалось, не было на земле силы, чтобы ее остановить…
Это истинно был час князя Курбского, неповторимые мгновения, ради которых стоило жить, смиряться перед необходимым, соглашаться с нежелательным!
Потом, в горькие минуты разочарований, Курбский часто вспоминал торжественное воинское шествие на иртышскую гору, и не утратами и разочарованиями вдруг представлялась ему прожитая жизнь, а ярким взлетом, вот таким изведанным счастьем!…
А ушкуи воеводы Салтыка тихо пробирались под самым обрывом, скрытые крутизной и прибрежным лесом от посторонних взглядов. Возле оконечности мыса Салтык приказал остановиться. Ушкуи тесно сгрудились, покачиваясь на волне.
Здесь был еще Иртыш, великая река Обь открывалась дальше, за мысом, но уже видно было, как текут, не перемешиваясь, две речные струи: бурая, иртышская, и темная, с синевой, обская.
Где-то высоко, над горой, громыхнули тюфяки.
Салтык молча кивнул кормщику Петру Сиденю.
Снова заскользили по речной ряби ушкуи, огибая мыс.
С обской стороны гора тоже была высокой, крутой, но кое-где среди деревьев темнели расщелины; к каким-то из них выводили тропы, о которых рассказывал вогулич Кынча. А у самой воды берег песчаный, пологий. Наполовину вытащенные из воды остяцкие обласы покойно лежали на нем, задрав острые носы. Людей возле обласов немного, – видно, большинство воинов ушли на капище к Обскому Старику. Теперь не промедлить бы…
Гребцы на ушкуях, надсадно хрипя, рвали весла. Ушкуи с протяжным шорохом вонзались в песок. А на берегу – никого. Убежали остяки, бросили свои лодки. Только возле самого большого и богатого обласа, покрытого не берестой, а нарядными оленьими шкурами, встали рядком с десяток лучников и урт в круглом медном шлеме.
Салтык мигнул Андрюшке Мишневу:
– Живыми бери!
С разбойным свистом, размахивая кистенями, кинулись к остякам Андрюшкины шильники, проворные мужики в коротких кафтанах, с нечесаными бородами. А с другой стороны к урту сысольцы бежали, раскидывая сапогами рыхлый песок.
Остяки уронили луки, закрыли ладонями глаза. Урт в медном шлеме громко и пронзительно закричал, ударил кулаком по спине одного, другого, но люди его стояли столбами, будто окаменели от страха.
Тогда урт повернулся лицом к реке, отбросил меч. Неторопливо, высоко поднимая колени, обтянутые чулками из скользкой рыбьей кожи, шагнул к воде.
Остановились шильники и сысольцы, смолкли голоса на берегу.
Урт медленно уходил в Обь, не подвластный уже никому.
По колени вода, по пояс, по плечи…
Всплыли и вытянулись по течению две косицы, переплетенные красными лентами…
Медленно ушел под воду медный шлем, но людям с берега долго еще казалось, что он тускло отсвечивает в глубине…
– Красиво помирает! – восхищенно-завистливо шепнул Федька Брех. – Мороз по коже пробирает, как красиво!
Но Салтык не разделял Федькиных восторгов. Возможное упорное противление остяков – вот что он увидел в безрассудно-геройском поступке урта. И еще раз подумал, что только огненным боем, силой и страхом обский народ не взять.
Почему ушел в реку урт? Из верности князю Молдану! Как в бога, верят остяки в своего князя! Хорошо это или плохо для государева дела? Как повернуть, может, и хорошо. Вера и верность могут сохраниться, если даже Молдан окажется пленником…
Брать надобно князя Молдана, непременно брать!
Кынча подсказывал:
– Против Молданова обласа начинается одна тропа, а дальше, за каменной осыпью, – другая.
Стоят полукругом Федор Брех, шильник Андрюшка, Тимошка Лошак, московские послужильцы Василий Сухов, Иван Луточна, Черныш, Шелпяк. Два засадных полка, по сотне добрых воинов, уже тронулись к тропам.
– Ты, Василий, со своими товарищами к дальней тропе иди. Тимошку с собой возьми! – распорядился Салтык. – А ты, Федор, с шильниками – ближней тропой.
Побежали начальные люди – догонять свои засадные полки.
Салтык залюбовался Тимошкой Лошаком: огромен, грузен, на плече палица чуть не в пуд, а бежит легко, стремительно, да еще и оглядываться на бегу успевает – обнадеживающе улыбается воеводе. Дескать, надейся, не оплошаю!
Дай им всем Бог удачу!
На удачу воевода Салтык надеялся не меньше, чем на трезвый воинский расчет. Удача на войне – великое дело. Случалось, и полки большие собирали, и думали-рядили с мудрыми советниками, и заранее предусматривали любую мелочь, но, если воевода неудачливым оказывался, все прахом! Салтык до сих пор был удачливым…
Самые тревожные и нестерпимо трудные минуты для воеводы, когда приказы уже отданы, когда воеводская власть будто растворяется в воинах и только от храбрости, старания и разумного уяснения воеводской воли воинами зависит, придет ли победа. Бессилен в такие минуты воевода, одно ему остается – ждать.
Салтык ждал, медленно прохаживаясь по влажному, облизанному речными волнами песку, с нарочитой беззаботностью помахивал прутиком. Но никто не смотрел на него. Ратники, оставленные возле ушкуев, стояли цепью ближе к горе, Салтык видел только их напряженные спины и запрокинутые головы: на вершину смотрели ратники, никто не оборачивался к реке. Видно, тоже тревожатся…
На большом обласе постукивали топориками люди Петра Сиденя. Не приглянулась Вологжанину остяцкая оснастка, велел перерубить уключины, поставить новые весла. Салтык решил везти Молдана на его собственном обласе, и Петр Сидень был поставлен туда кормщиком.
Добро пожаловать, князь Молдан, ждем не дождемся!…
Удача, конечно, оставалась удачей, но дело решил неистовый приступ князя Федора Курбского, неразумный остяцкий обычай спасать своих князей в ущерб остальной рати, разбойничья опытность шильника Андрюшки Мишнева.
Князь Федор Курбский развернул свою большую рать на поляне, прямо перед капищем Обского Старика, дерзко выдвинул вперед тюфяки и начал беспрерывную пальбу. Железная стена детей боярских то расступалась, открывая огнедышащие пасти тюфяков, то смыкалась снова, закрывая пищальников от остяцких стрел, и тогда вступали в дело остро жалящие ручницы. Русский строй неотвратимо надвигался на остяцкое разноголосое воинство. Долго противиться такому приступу не смогли бы и упрямые литовцы. Смешались ряды воинов князя Молдана, а самые слабодушные начали разбегаться.
Еще держались в челе остяцкого войска богатыри-урты, а телохранители подхватили под локти Молдана и двух молодых князей, сыновей Екмычея, и насильно поволокли через священную рощу, к потайной тропе.
Шильник Андрюшка Мишнев удачно выбрал место для засады: тропа делала крутой поворот и проваливалась в овраг с крутыми склонами; над вершиной оврага нависли огромные ели. Шильники быстро подрубили секирами несколько еловых стволов и, когда люди князя Молдана миновали засаду, обрушили подрубленные стволы поперек тропы. Засека надежно преградила путь дружинам уртов, которые отступали следом за своими князьями, только отчаянный вопль доносился из-за непролазной путаницы ветвей. Князя Молдана и немногих телохранителей, оказавшихся возле него, взяли, считай что, голыми руками, связали и быстро понесли на плечах к реке. Засадный полк никто не преследовал.
Первым на песчаном берегу показался Андрюшка Мишнев. Радостно размахивая руками, кинулся к воеводе Салтыку. Следом кучкой бежали шильники, подняв на вытянутых руках, как икону, спеленатого веревками старца в нарядном халате; красные замшевые сапоги старца покачивались безжизненно, как у мертвеца, ветер раздувал длинные седые волосы на голове.
– Молдан! – издали кричал Андрюшка. – Радуйся, воевода!
Князя Молдана, сыновей Екмычея, нескольких богатырей-уртов – тех, что показались понаряднее, – бросили через борт в большой облас. Кормщик Петр Сидень тут же велел отчаливать. Облас в окружении ушкуев с пищалями на палубах остановился поодаль от берега: слишком ценной была добыча, чтобы ею рисковать!
Воевода Салтык ждал, когда к реке выйдет остальная остяцкая рать, но рати не было: из прибрежных зарослей вываливались на песок разрозненные кучки лучников, урты в изодранных кольчугах, окровавленные, потерявшие свои круглые шлемы. Какая уж тут битва! Увидев суровый и молчаливый русский строй, преградивший путь к спасительным обласам и берестянкам, остяки бросали оружие.
Простых воинов, охотников и рыбных ловцов, Салтык приказал отпустить. Обезоруженных уртов посадили на ушкуи – под крепкий караул. Урты – знатные заложники, у каждого – родичи-старейшины, послужильцы, рабы. Целый двор собирался к большому князю Молдану, не скучно будет обскому владетелю!
Так сказал, довольно посмеиваясь, воевода Салтык, когда благодарил своих доверенных людей за добычу. А шильника Андрюшку Мишнева отметил особо:
– Если бы ты и больше нагрешил, за нынешнее славное дело – искупление грехов!
Глава 11 Сыновья Екмычея
Великий Торум невидим. Никто не слышал его небесного гласа. Даже шаманы не могли похвастаться, что он являлся им в пророческих видениях. Но обские люди почитают Торума больше всех других богов. Торум единственный и полновластный обладатель лесов и болот, рек и озер, ущелий и гор, зверей, птиц и рыбы – всего, что в совокупности составляет Землю. Торум хозяин всей сущей жизни.
Торум не вмешивается в людские дела. Люди кажутся ему ничтожными, как бурые лесные муравьи, копошащиеся вокруг своих муравейников. Но если Торум чем-либо недоволен, горе людям! На них обрушиваются всепожирающие таежные пожары и неожиданные наводнения, лютый голод и непонятные страшные болезни, которые сокращают и без того короткую человеческую жизнь. Сам же Торум вечен. Нет предела его могуществу.
В небесной юрте живут восемь больших духов, но девятого духа, Лунка, отца медведей, Торум изгнал за жадность и излишнее любопытство на Землю.
Лунк тоже отдален от людей, хоть изредка и показывается им, обратившись в медведя или иного большого зверя. У Лунка множество слуг, тоже духов, только поменьше, и называются они Лиль. Между малыми духами поделены все реки и речки, ручьи, озера, болота, рощи и холмы. А лесные духи Унт-Тонгк, внешне похожие на людей, но лохматые, как звери, – живут на каждом большом дереве. С малыми духами умеют разговаривать шаманы и передают их волю людям…
Так рассказывают седоголовые старцы, и кондский князь Екмычей им верил, потому что юрт духов Торума был похожим на обский народ, где тоже были и большие и малые люди.
Большого князя Молдана почитали, но мало кто видел его вблизи. Простым людям он казался недоступным, как небесный владетель. Только Екмычей, Лятик, Лаб, Чангил и другие такие же князья удостаивались внимания Молдана. Но и князья были далеки от жизни юртов. Охотники и рыболовы были под малыми князцами, под старейшинами паулов. Подобно духам Лиль, князцы и старейшины поделили обские берега, долины малых речек, охотничьи угодья, кедровники, даже на бортные деревья повесили личную тамгу – монас. Так было раньше, и, наверное, так всегда будет. Если людей собрать вместе, как они станут добывать себе пищу? Бестелесные духи и те живут отдельно…
Князь Екмычей зябко повел плечами, плотнее запахнул полы халата. Утро было прохладное, в месяц городьбы больших соров [73]73
[73] Август.
[Закрыть] начинаются первые заморозки. А угли в чувале уже остыли. Позвать раба, чтобы затопил?
Но Екмычею не хотелось нарушать плавного течения мыслей. Ранним утром, в тишине и одиночестве, думалось особенно хорошо. А подумать было о чем.
С обского устья прибежал гонец. Русские богатыри в железных рубахах разметали воинство большого князя Модана, а его самого увезли на большом обласе. В плен попали сыновья Екмычея, Игичей и Лор-уз, и множество достойных уважения уртов. Плач стоит в городках и селениях, родственники пленных приносят жертвы духам. Скоро князцы и старейшины придут к Екмычею, набьются в дом, как окуни и плотва в морду, станут спрашивать: «Как быть?» А что им ответит Екмычей?
Большой князь Молдан храбрый и гордый, он сразу пошел с уртами к Обскому Старику. А Екмычей старый и осторожный. Когда Молдан позвал его с собой, Екмычей сначала отправился к шаману.
Шаман у Екмычея был хороший, сильный, недаром люди прозвали его Олынг-игн, что означает Башковитый Старик. Шаман умел не только изгонять из тела болезни и просить духов об удаче на охоте, но и предсказывать будущее.
Олынг-игн шаманил для одного князя Екмычея, даже сыновья остались за порогом юрты. Гудел, надрываясь, большой бубен, звенели бронзовые колокольчики. Шаман скакал вокруг костра, трясся и завывал, катался по земле, выкрикивая непонятные слова.
Екмычей терпеливо ждал. Когда Олынг-игн возвратится из путешествия в страну духов, он все расскажет князю и получит в награду за пророчество молодого оленя.
Наконец шаман повалился на спину, бессильно раскинул руки. Екмычей склонился над ним, погладил мокрую от пота щеку. Шаман зашептал в самое ухо тихо, прерывисто:
– С неба опускается веревка… Ползу по веревке… Выше, выше… Звезды загораживают путь… Отстраняю звезды руками… Горячо… Печет ладони… Ледяная лодка… Плыву в лодке по небу… Веслом загребаю облака… По лунной дорожке, как по речке, спускаюсь в лодке с неба… Быстро спускаюсь… Вихрь пронзает меня… Крылатые духи несут лодку в подземную пещеру… Темно, темно… В костре синие холодные угли… Старая Ама, мать шаманов, говорит со мной… Говорит, быть беде, быть беде… Больше ничего не помню…
Шаман задергался в конвульсиях, из перекошенного рта потекла пена, глаза остекленели. Страшным был шаман, будто воплощение беды. И Екмычей решил: пусть к Молдану идут сыновья с немногими воинами, они молодые, быстроногие, а как убегать ему, старому князю?
Сбылись пророческие слова матери шаманов Амы. Молдан и сыновья Екмычея в плену, большие лодки русских воинов плывут по Оби, скоро будут здесь. Что делать?
За свою жизнь князь Екмычей не боялся. Городок его стоял неподалеку от реки, но в глухом лесу. Вал высокий, стены крепкие, у воинов много стрел с зазубренными железными наконечниками, смертоносные отказы [74]74
[74] Большое копье.
[Закрыть] и остро заточенные пальмы [75]75
[75] Большой односторонний нож на длинной рукояти.
[Закрыть], легко пробивающие самую толстую звериную шкуру. Даже войско, состоящее из одних богатырей, надолго задержится под стенами городка.
Но если и падет городок, самому Екмычею опять же ничего не угрожает. Только немногие, самые доверенные урты знают, что дом больших собраний, жилище князя, пуст. Екмычей с близкими родственниками, рабами и телохранителями ушел в потаенное селение, к которому через болота и урманы вела извилистая тропа. Селение Екмычея стояло на берегу лесного озера. Стража на тропе предупредит об опасности, и княжеская семья переплывет озеро на легких долбленках-хопах и спрячется в лесу. Погони можно было не опасаться: больше лодок на озере не было…
Отсюда, из безопасного места, Екмычей смотрел на людские тревоги как бы со стороны, отстраненно. Это для простых людей князь Молдан был вроде самого великого Торума, повелителя больших и малых духов. Екмычей признавал силу большого князя, но не преклонялся перед ним. Владетель неведомой за-каменной страны, пославший свои суда на Ась-Ан [76]76
[76] Река Обь.
[Закрыть], оказался сильнее Молдана. Почему бы не подчиниться ему и покорностью вернуть плененных князей и уртов?! Русские воеводы не останутся вечно в стране ась-як [77]77
[77] Ась-як – обский народ.
[Закрыть], они возьмут ясак и уйдут в свою землю. За плененных сыновей придется отдать большой выкуп, но Екмычей заплатит, сколько попросят. Наверно, так будет угодно богам, ибо, если боги не пожелали, они бы не пропустили русские суда через Камень…
Старый Екмычей превыше всего ценил неизменность жизни. Княжескую власть он воспринимал как нечто приятное, но одновременно слишком хлопотное, отвлекающее его от главного – от простых человеческих радостей в окружении детей, внуков, верных слуг, от удачной необременительной охоты в заповедных урманах [78]78
[78] Красный хвойный лес.
[Закрыть], надежно огражденных от чужих охотников белыми затесами с княжескими знаками. Счастье человека – в его собственном юрте, чужие заботы лишь отягощают голову, и меха, которые приносят охотники из подвластных князю паулов, не окупают эти заботы. Только неразумные мечтают о военных тревогах, мудрые живут тихо и устойчиво, как деревья в лесу. Бури проносятся над лесом, не касаясь корней, питающих жизнь. Так и русские суда – пробегут по великой реке, не подрубив корней обского народа. Если русские воеводы предложат мир, Екмычей посоветует принять его со смирением и верой в единственную справедливость содеянного. А может, и к лучшему это пришествие воинов в железных рубахах?! Как два оленя в одном урочище, сшибутся рогами тюменский хан и повелитель закатных стран… А обский народ останется в стороне от их схватки, будет пребывать в мире… Так и надо сказать седоголовым старцам…
Екмычей, кряхтя, поднялся с лавки, побрел к двери, потирая тыльной стороной ладони поясницу. В жердевом тебане [79]79
[79] Небольшая загородка из жердей перед дверью жилища, где помещались на ночь собаки.
[Закрыть] сидел на корточках гонец, который принес весть о поражении князя Молдана и теперь ждал решения Екмычея.
– Передай старейшинам, чтобы вышли на берег с подарками, – говорил Екмычей почтительно склонившемуся гонцу. – Пусть седоголовые старцы скажут русским воеводам, что князь Екмычей не хочет войны. Пусть воеводы возьмут ясак и вернут пленных князей. Пусть посол воевод придет в дом больших собраний, я сам буду говорить с ним.
Гонец убежал. Екмычей долго смотрел ему вслед сквозь жерди тебана. Молодой воин, быстрый воин… Не пройдет и двух варок [80]80
[80] Остяки определяли расстояние временем, необходимым для варки пищи (три варки, пять варок).
[Закрыть], как старейшины будут оповещены о воле князя.
По ступенькам, вырезанным в земле, Екмычей поднялся из жилища, привычно, по-хозяйски, огляделся. Берестяная крыша заглубленного в землю дома оказалась вровень с его глазами, над крышей покачивались лохматые еловые лапы. Хорошо, когда спину жилища прикрывает могучая толща леса. И щедрая зелень поляны, полого спускавшейся к озерной глади по другую сторону дома, – тоже хорошо.
Тяжкая надежность леса и светлый водный простор – такой представлялась Екмычею вся земля его юрта. И в подземном царстве тоже будут, наверно, лес и вода…
Большими серыми рыбинами приткнулись к берегу остроносые лодки-хопы. Костер дымится, пахнет от него дымком и рыбным варевом, воины в кожаных панцирях сидят кружком, копья воткнули древками в землю, а на остриях прозрачные стрекозиные крылья, как трепещущие блики солнечных лучей. Хорошо!
Ребятишки в штанах из скользкой кожи налима играют с лисятами. Чернобурых лисят, по обычаю обского народа, привязали веревками к колышкам и откармливали все лето, чтобы потом убить и сшить из шкурки шапку – каждому мальчику из своего лисенка. Как кто ухаживал за зверенышем, такой и будет шапка. А люди будут сравнивать, чья шапка лучше. Нет горше позора для мальчика, чем ходить в шапке с залысинами, с жидким неровным мехом. И отцу будет стыдно, и деду. Но Екмычей знал, что ему-то стыдиться не придется. Внуки росли здоровыми, послушными, старательными. Хорошо, когда у человека много внуков, которыми можно гордиться!
Женщины сидят на песке возле самой воды, пластают рыбу широкими ножами. Екмычей залюбовался, как ловко и быстро они швыряют рыбину на доску, одним округлым движением вспарывают брюхо, отсекают кишки и бросают в котел с кипящей водой – вытапливать рыбий жир. В другом котле, поменьше, где варился клей, тяжело поворачивались рыбьи пузыри. Клей из рыбьих пузырей дорого ценился, его покупали даже татары. Очищенную рыбу женщины надрезали вдоль хребта, распластывали, как большую лепешку, делали несколько неглубоких поперечных надрезов и передавали девочкам, которые уносили ее на помост – нором – вялить над огнем. На плетенке норома уже светлели длинные рядочки разделанной рыбы.
Сколько у него внучек, Екмычей не знал, по обычаю называя их всех одинаково: ими-баба [81]81
[81] Маленькая женщина.
[Закрыть]. Собственные имена девушки получат, когда придет время выдавать их замуж. А пока ими-бабы учились хозяйничать, помогали взрослым женщинам готовить и заготовлять впрок пищу, шить одежду, плести из крапивных волокон рыболовные сети.
Пожилые женщины присели в тени у стены дома. Здесь их почетное место – матерей многочисленного семейства, хранительниц домашнего очага и искусных мастериц. Женщины разминают в ладонях полосы ровдуги на зимние сапоги, сучат нитки из оленьих жил, вышивают красной и синей шерстью подолы рубах. Мелькают смуглые руки, украшенные татуировкой; изображения зверей и птиц шевелятся, как живые. Старательными женскими руками приумножается богатство рода. Повзрослевшие ими-бабы уходят в другие юрты, и за них присылают калым: оленей, медные котлы, ткани, оружие. В юрте Екмычея много трудолюбивых женщин и красивых девушек. Хорошо!
Женщины заметили старого князя, переполошились, поспешно закрылись платками: показать лицо свекру или старшему брату мужа считалось у обских людей неприличным. Екмычей удовлетворенно отметил, что женщины знают обычай и соблюдают его. Хорошо!
Над серой кучкой женщин поднялась высокая девушка в непривычно пестром полосатом халате, смело глянула на князя большими, широко расставленными глазами. Екмычей узнал ее: татарка Сулея, дочь мурзы Акила, новая жена младшего сына Лop-уза. Откуда ей знать обычаи обского народа, если даже женщиной еще не стала, ибо не познала брачной ночи. Сулею привезли в селение, когда Лор-уз уплыл с воинами к Обскому Старику. Впрочем, невестой ее тоже нельзя считать, ибо родичи уже приняли калым и отказались от нее. А какой был калым, какой большой калым!… Половину пятого десятка [82]82
[82] 45.
[Закрыть] оленей отдал Екмычей, девять медных котлов, почти новый панцирь, соболиные и беличьи шкурки… И еще пришлось посылать жадному мурзе облас с копченым мясом, рыбой, жиром и съедобными кореньями – в татарских селениях этим летом было голодно, хитрый мурза передал через вестника, что невеста сильно исхудала, стыдно посылать к благородному сыну князя Екмычея. Что было делать? Поворчал Екмычей, но облас послал…
Обременительным показался калым даже богатому Екмычею. Зато невеста была хороша: статная, с сильными плечами, гладкими круглыми щеками и гордым носом, длинные черные волосы уже по-женски переплетены в косу. От такой жены можно ждать здоровых и красивых сыновей. А что до обычаев обского народа, то женщины быстро научат. Вот и сейчас тянут Сулею за рукава накидывают на голову платок, гомонят недовольно. На Екмычея боязливо поглядывают: не сердится ли князь?
Но Екмычей не сердится. Покойно ему среди людей своего юрта, благостно. И знакомый лес гудит как-то умиротворяюще, и озерная вода шевелится под берегом тихо, бережно. Хорошо!
«Хорошо, если ты князь, если рабы и женщины делают за тебя всю черную работу, а люди из подвластных юртов приносят необходимое для жизни, – размягченно думал Екмычей. – Только неразумные ропщут на то, что великий Торум не всех наделил богатством и сытой праздностью. Так было и, наверное, всегда будет. Князьям – властвовать, богатырям-уртам – совершенствоваться в искусстве войны и копить силы для походов, охотникам и рыбным ловцам – проводить дни в неустанных трудах и добывать пищу и дорогие меха для князя и уртов». Если люди из юртов не отдадут требуемого, Екмычей пошлет воинов и заберет силой. Но и у князя есть обязанности, и главная среди них – забота о безопасности своих людей…
Екмычей помрачнел, быстро пошел по мягкой песчаной дорожке к костру, возле которого сидели кружком урты. Воины молча раздвинулись, освобождая князю почетное место с подветренной стороны, чтобы дым не ел глаза.
Молчит Екмычей, молчат воины, – по обычаю, первое слово принадлежит князю. Сильные руки, привыкшие держать копье и натягивать тугой боевой лук, могучие плечи, мускулистые необъятные груди, бесстрастные скуластые лица, величавая неторопливость движений… Урты, гордость и надежда рода!
Екмычей жестом подозвал раба, громко сказал:
– Пусть приготовят богатырскую пищу!
Урты многозначительно переглянулись: свежую оленину обские люди ели только перед походом или большим советом, когда старейшины обсуждали дела многих юртов. Но никто из них не спросил князя, почему вместо обычной рыбной варки воины будут лакомиться богатырской пищей. Мужчине не подобает суетиться и любопытствовать.
Сидят воины у костра, смотрят на бесцветные язычки пламени, облизывавшие сосновые поленья, неторопливо обмениваются малозначительными новостями:
– Женщина в пауле у Соболиной речки поймала сетью большую щуку, а мужчины не было, ушел в лес. Протухла щука, а жалко – большой был зверь… [83]83
[83] Щуку остяки почитали как божество, почтительно называли не рыбой, а зверем. По обычаю, щуку могли чистить только мужчины.
[Закрыть]
– Ими-баба видела в лесу дедушку [84]84
[84] Медведя остяки называли в разговоре: «дедушка», «старик» или просто «он».
[Закрыть]. Испугалась ими-баба, прибежала в слезах, а я ей говорю: пусть ходит…
– Был большой ветер, и берестянку прибило к коряге, весь борт изорвался. Надо просить старого Вандыма, чтобы сшил новую берестянку…
Воины важно кивнули, одобряя разумные слова. Берестянки, сшитые старым Вандымом, славились прочностью и легким ходом.
Из маленького домика с оленьими рогами на коньке крыши – мань-кола [85]85
[85] Домик в отдалении от других строений, где жили женщины до и после родов. Мужчинам туда входить не разрешалось.
[Закрыть] – выбежала женщина с берестяным ведерком в руке, зачерпнула воды в озере и поспешила обратно. Из приоткрытой на мгновение двери донеслись протяжные стоны, женский плач. Екмычей прислушался. Агар, вторая жена Игичея.