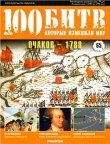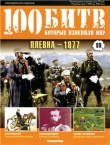Текст книги "После десятого класса"
Автор книги: Вадим Инфантьев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
С грустной радостью смотрю на «Учебник прямолинейной тригонометрии» Рыбкина и «Шестизначные таблицы логарифмов» Пржевальского. Вот где пришлось с вами встретиться! Надоели вы мне когда-то, не любил я вас, а сейчас листаю страницы, и близкая, так быстро удалившаяся юность улыбается мне Лялькиными глазами сквозь сетку формул и чертежей. Я слышу, как перешептываются одноклассники, и даже от рук моих снова запахло мелом и чернилами...
В кохмнату вошел полковник Максютин. Я вскочил. Он ничуть не изменился: те же морщины на задубевшем лице, та же седина, та же уверенная порывистость в жестах. Все то же, как и три года назад, когда нас привезли из студенческих общежитий в полковые казармы. Пожимая мне руку, Максютин спросил:
– А ты у меня, кажись, служил? Ваше орудие в лагерях по танку здорово отстрелялось. А где теперь его наводчик?
– Шиляев,– подсказал я – Не знаю. Нас разбросало по всему фронту, кажется, под Шлиссельбургом он...
– Под Волховстроем,– вспомнил Максютин, толкнув меня в плечо.– В дивизионе Светлякова командует батареей.
– Ну и память у вас...
– Работайте. Не буду мешать.
Неделю мы работали с Павлом Васильевичем Хромовым вместе в одной комнате. Я брал данные из баллистических таблиц и пересчитывал все это для нашего прицела. Ох и нудная эта работа, да и многое позабыто. Хромов по моим расчетам строил на миллиметровке графики в крупном масштабе, уточняя их, выявлял ошибки и снимал данные для расчета прицельных барабанов. Так мы проводили целые дни с утра до глубокой ночи. Я даже забыл, что сейчас живу в самом центре Ленинграда, что работают театры и кино. Когда еще снова удастся побывать в этом городе? А может, и совсем не удастся – война.
В городе объявлялись воздушные тревоги, стреляли орудия, рвались на улицах вражеские снаряды, плавали под бледными ночными облаками сотни аэростатов заграждения, а мы с Хромовым возились с логарифмическими линейками, циркулями и лекалами.
Через неделю койку генерала Крюкова занял молодой щеголеватый полковник, мне пришлось уехать в Пороховые и поселиться в артиллерийских мастерских.
Одноэтажный деревянный барак, коридор с потрескавшимся дощатым полом. Одна дверь выходила во двор, другая – в мастерские, где стояли покалеченные орудия. Здесь визжали пилы, гудели сверлильные и токарные станки, звенел под ударами металл.
Мне выделили крохотную комнатенку. В ней разместилась койка, маленький стол и два стула. Непривычный шум мастерских вначале мешал работать, но недолго. Уж если к грохоту боя можно привыкнуть, то к мирным звукам подавно.
Обычно к вечеру я передавал Хромову по телефону результаты своих расчетов и этим доводил чуть ли не до истерик дежурных телефонисток. Они, наверно, меня заочно возненавидели. Интересно было бы встретиться с ними, они же мне ровесницы – как пить дать. Одна, наиболее ретивая, даже прервала разговор, но Хромов позвонил куда следует, и нам больше ни разу не помешали. Только изредка в трубке слышался щелчок: проверяла и чертыхалась, наверно.
Никогда в жизни мне не приходилось так много считать. Под конец я уже помнил наизусть все формулы и линейкой орудовал легко и свободно, как ложкой за столом.
Однажды днем в комнату постучался боец. Ватник и штаны его были настолько замаслены, что блестели, как хромовые. Он вызвал меня во двор. Накинув кожанку, я вышел из мастерских. Промерзшая голая земля была звонкой, как стекло. На клочьях травы блестела изморозь. Уши защипал мороз. Хотя так и должно быть: скоро декабрь.
В конце большого двора стояло орудие в походном положении, возле него толпились люди. Я подошел, поздоровался с начальником мастерских капитаном Яковлевым. Это высокий, подтянутый, стройный мужчина в ладно пригнанном обмундировании, Ему бы с таким видом в штабе служить адъютантом крупного начальника, а не здесь, среди покалеченного железа, в копоти и парах масла.
– Принимайте, младший лейтенант, систему. Прицел находится в мастерских, как уговаривались.
Я обошел орудие. Н-да, вид не блестящий. Собрано из частей и узлов от разных пушек. На стволе сохранилась белая окраска, казенник обшарпанный, на люльке желто-зеленый камуфляж, на вертлюге несколько глубоких выбоин, тумба и платформа в стальных заплатах.
– Прохоров, приведите систему в боевое положение,– приказал капитан Яковлев.
Пожилые дядьки во главе с усатым артмастером не спеша принялись за дело.
На четырех колесах с толстыми автомобильными шинами, с длинным, вытянутым над землей стволом, пушка здорово походила на какое-то доисторическое животное из учебника зоологии.
Звенели ваги – с их помощью колеса орудия подымают вверх, и оно садится на землю, крестом раскинув толстые стальные лапы.
– Ну-ка, взяли! – прокряхтел артмастер.
Мне стало смешно. Может, к посевной в деревне так готовятся и ходят вразвалку вокруг сеялки, а орудие приводят в боевое положение не так. Надо гаркнуть утробно и зычно: «Ор-рудие к бою!» И пусть земля рушится, лопается небо, расчет ничего не должен видеть, кроме орудия. Ни одного лишнего движения, как автоматы. Раз, раз, раз и раз! Руку кверху: «Орудие к бою готово!» А тут: «Ну-ка, взяли!»
Я провернул орудие по горизонту, по углу возвышения. Механизмы работают мягко, стрекот шестеренок глухой, маслянистый, перекосов и задиров не чувствуется.
Двое, поплевав на ладони, стали прибивать пушку к земле, загоняя кувалдами в мерзлый грунт трехребрые стальные клинья. Двое других принесли ящик со снарядами.
Первые выстрелы я решил сделать сам. Подошел к казеннику, намереваясь открыть затвор, показать мастеровому люду, как работают настоящие артиллеристы. У нас это было отработано и считалось шиком. Со стороны кажется, что человек легонько хлопнул да-донью по рукоятке, и затвор, лязгнув, открывает свою пасть. А на самом деле *мы ладони до синяков, до опухолей набивали, пока не научились. Я поднял руку с небрежно расслабленной кистью и оцепенел: на клине затвора стоял номер 1503. Номер моей пушки, с которой я начинал войну! Ее потом разбило прямым попаданием. Неужели только затвор остался! Я обежал орудие, ощупывая детали, читая номера. Да. Остался только один затвор. Надо ж, такое совпадение! Это, наверно, добрый признак!
Выпустил в небо четыре снаряда. Все нормально. Откат ствола плавный, без рывков.
Как приятно сознавать, что ты автор и тебе дали возможность осуществить свои замыслы. Во дворе стоит настоящая боевая пушка, она вся, от сошников до дульного тормоза, в моем полном распоряжении.
Я тотчас позвонил Хромову и обиделся на него. Он очень спокойно отнесся к моему сообщению, как к обыденному. Но ведь произошло событие!
Весь день я не мог найти себе места, а перед сном еще раз вышел во двор, походил вокруг орудия, оправил на нем чехол.
Спустя трое суток орудие стояло в мастерских, сверкая новенькими прицельными барабанами. Эти три дня оказались нелегкими. Во время обстрела снаряд угодил в подстанцию, и двое суток в мастерских не было электроэнергии. Я с трудом уговорил токарей вытачивать барабаны вручную и в основном станок крутил сам. Сейчас мои руки и плечи ноют, как у ревматика, и больно прогибать спину.
Когда стали крепить прицел к орудию, ничего не получилось. И как это мы с Хромовым прошляпили? Возились только с прицелом, стоящим на верстаке, и забыли, что он-то не сам по себе. На орудии много деталей. И вот прицел не становится на место – кассета с графиками боковых упреждений упирается в кожух поворотного механизма. Что делать? Приехал Хромов и за голову схватился:
– Фу ты, какой ляпсус!
Сутки думали всей мастерской и не нашли ничего другого, как выточить новый барабан и изменить масштаб графиков. И вот наконец прицел на месте. Проверили – работает правильно.
Потом мной овладело неприятное ощущение тревоги, что где-то что-то упущено, недоделано. Я не сразу догадался, что это от безделья. Целый месяц я работал днями и ночами. Кончил – и сразу стало нечего делать. Хоть нарочно занятие для себя придумывай. Очень неприятное чувство, вроде тишины перед боем или после боя. Места люди себе не находят. Тишина угнетает хуже всякой пальбы. Люди становятся злыми, нервными, желчными.
Болтался по коридору целый день, часто приходил в цех и стоял у своего орудия. Прицел его мне казался необычайно красивым. Узкие бронзовые барабаны с широкой ленточной нарезкой, пятнистые, как павлиньи хвосты, индексы, полосатые цветные графики, вставленные в дюралевые кассеты. Все сверкает, блестит. Каждый винтик прицела мне дорог, как маленький братишка. Каждый болтик подмигивает гранями головки, словно говоря: «Ну вот мы и на месте. Порядок!»
Я свободен целые сутки. Надо бы поехать в город, поразвлечься. Кому из фронтовиков выпадает такая возможность? Надо пользоваться случаем.
Позвонил Хромов и сообщил, что часа через два приедет посмотреть орудие командующий артиллерией фронта. А я небрит. Разделся, направил на ремне бритву. В комнату зашел капитан Яковлев.
– Погулять собрался? Полезно.
– Не до этого, скоро генерал Одинцов приедет.
Яковлев оторопело посмотрел на меня и выдохнул:
– Так чего ж ты!..– И выскочил за дверь.
Побрившись, я пошел в умывальник, лавируя между снующими, как на пожаре, бойцами. Кто бегал с ведром, кто со шваброй, кто с лопатой, кто просто так суетился. В мастерской громко перекликались и кряхтели, что-то передвигая. Возле умывальника я столкнулся с Яковлевым. Он перевел дух и выпалил мне в лицо:
– Вот навязали мне тебя! Каждый день кто-нибудь да приезжает, а тут сам командующий. Тебе что, как с гуся вода, а мне за все отдуваться. Генерал не только на твою пушку посмотрит, везде пройдет и обязательно обнаружит недостатки.
– Извините,– сказал я.– Забыл тотчас вас предупредить. Это нехорошо. Но время еще есть.
Командующий артиллерией фронта, засунув руки в карманы кожаного пальто, обошел орудие. Генерала сопровождали полковник Максютин, Хромов и Яковлев. Я молча стоял возле своего детища. Командующий еще раз осмотрел орудие и сказал мне:
– Докладывайте, автор.
До чего же приятно, когда тебя называют автором! По-моему, это самое лучшее звание. Я объяснил принцип работы прицела. Генерал спросил:
– Расчет уже есть?
Максютин ответил, что люди на днях прибудут.
– Сколько времени нужно на обучение?
Я сказал, что обучить можно за два дня, а навыки появятся в процессе эксплуатации орудия. Генерал повернулся к Максютину:
– Как будет готов, сразу отправляйте... туда.
Пожелав мне удачи, генерал пошел по цехам. Максютин шагнул ко мне и щелкнул ногтем по моей кожанке.
– Чего франтишь? Мороз ведь.
– А кто мне даст зимнее обмундирование? Я на вещевом довольствии числюсь в своем дивизионе.
– Сегодня же езжай и получи. Потом некогда будет.
К Пулкову я добрался только ночью. Как назло, ни одной попутной машины. Устал, вымотался: шел в темпе, чтоб не замерзнуть. Поземка метет, скулы набок воротит, уши деревенеют, шел и оттирал их непрерывно. Хоть и темно, не хотелось выворачивать пилотку на уши, я ведь не зимний фриц.
Ветер свистел над минными полями. Взлетающие за горой ракеты освещали изрубленную осколками рощу. На месте нашей батареи было изрытое воронками поле, пустые орудийные котлованы и развороченные землянки. Никого. Темень. Ветер. Холод. Я попал ногой в борозду, присел, чиркнул спичкой. Ее тотчас задул ветер, но я успел разглядеть колею от орудий.
Встал в борозду и пошел по ней. Брел долго. Наконец при свете ракеты различил впереди бугры, стволы пушек. Меня окликнул часовой. Я ответил.
– A-а, товарищ младший лейтенант! Как вы нашли нас? Ведь мины кругом!
– По колее шел.
В землянке было тепло и темно. Я посветил спичкой. Будить никого не стал, разулся и прилег рядом с Рыжовым. Тот заворочался:
– Кто тут?
– Это я»
– Здорово.– Не поворачиваясь, он нащупал в темноте мою руку, гюжал и, засыпая, спросил:—Насовсем или так?
Утром умылись, поливая друг другу из котелка, стоя на горбе землянки – чтоб земля на накатах лучше промерзла. За завтраком я увидел в петлицах командира батареи по шпале, у Рыжова добавилось по одному кубику. А когда от печки стало жарко и они сняли меховые жилеты, я увидел на груди Комарова орден, а у Рыжова медаль, вспомнил, что нас собирались вместе представить к награде, поздравил и замолчал. Рыжов отвернулся, а командир батареи нахмурился и произнес:
– Понимаешь, я тебя тоже представлял, но начальник штаба отклонил. Ты, мол, возле большого начальства сейчас, скорей получишь, лучше наградить другого.
Я усмехнулся и ничего не ответил. Дохлебал свой суп и закурил. Табак был удивительно едкий и вонючий. Командир батареи снова заговорил:
– Пришлось Рыжова вместо тебя поставить. Шемякин не справляется: неповоротлив и туповат. А ты на штате стоишь, другого не назначат. Мне люди нужны. Давай заканчивай там побыстрее и возвращайся или попроси у начальства, пусть тебя зачислят в штат другой части.
– Есть, скажу. Но ведь мертвые души никому не нужны,– ответил я и пошел в землянку старшины.
Там встретился с Верой и Капой. Мы расцеловались как старые друзья. Девчата выглядели чудесно. Капа располнела, и глаза ее блестели еще ярче.
– Сейчас, лейтенант, мы это дело отметим,– заявил старшина.– Ну-ка, девоньки, шевелитесь! Я сейчас достану НЗ.
– А чего ты меня повысил?
– Как чего? Разве не знаешь? Тебе и Рыжову дали лейтенанта, комбату – капитана. Клепахин обещал сообщить тебе,
Я потрогал воротник гимнастерки и вспомнил, что ее выстирал, спорол петлицы, а пришить забыл. Неужели и перед генералом я щеголял в форме дезертира?! Ах да, я же тогда был в кожанке.
Потом я сидел в нижней рубахе. Вера пришивала к моей гимнастерке черные петлицы с пушечками и двумя кубиками, Капа поджаривала на печке ломтики американской консервированной колбасы.
– Ты, Вера, не очень старайся,– заметил старшина, расставляя на столе кружки.– Все равно скоро снимать придется. Погоны будем носить. Читали, конечно?
– Вообще-то странно,– признался я.– Как так, комсомолец, красный командир и вдруг – золотопогонник, офицер. Нелепо.
Привыкнем,– успокоил старшина, разливая в кружки спирт.– Ты как, лейтенант, потребляешь – разбавленный или чистяком?
– Я же сейчас на тыловом довольствии. Там этого не дают.
С первой же кружки я сильно захмелел. Стало тепло, уютно и грустно. Не хотелось уезжать отсюда. Узнав, что я приехал за зимним обмундированием, старшина всплеснул руками:
– Вот же! Как я ни бился, начальник вещевого снабжения не дал. Он, говорит, откомандированный, там скорей получит.
– Что, я у командующего буду теплые кальсоны и портянки требовать? Числюсь-то я здесь.
– Говорил это. Ни в какую,– отмахнулся старшина и снова взялся за флягу.– Ты расскажи об этом полковнику Максютину. Свинство же.
– Ну да, только мне об этом и думать! Да и ему не до меня. Обойдусь. Ватник и штаны достану.
Дальше разговор пошел веселее. Порозовевшие от тепла лица девчат были такими милыми, что не хотелось думать ни о войне, ни даже о своей пушке.
Письма мне не приходили. Что-то молчат ребята – Федосов, Мышкин и Андрианов. От Ольги я письма уже не жду... Жизнь на батарее идет сносно. Потеряли всего двоих связистов – были убиты при артналете. Ранен Бекешев и лежит в госпитале в Ленинграде, скоро выпишется.
Через час я трясся в кузове грузовика. Хорошо у своих, но дело не ждет. Мне уже не было холодно. Старшина дал мне меховой жилет и пару теплого белья.
Мотаясь в кузове из стороны в сторону, я напевал глу-
пое двустишие: «Кому ордена и медали, кому ни черта не дали...»
В конце-то концов, мы служим не командирам, а Родине и воюем за Родину, а не за ордена.
4
Хорошая машина артиллерийский тягач СТЗ-НАТИ-5. Тупоносый, мотор внутри кабины, сзади кузов для снарядов и расчета, и скорость тридцать километров
в час.
Жар от мотора жжет тело сквозь толстые ватные штаны, в кабине душно, и я часто приоткрываю дверцу, чтоб глотнуть морозного воздуха. Новенький полушубок на мне расстегнут, шапка засунута за спинку сиденья. Тракторист ефрейтор Цыганкин лихо работает рычагами фрикционов, рот у него раскрыт в озорной улыбке. Мимо вприпляс проносятся тощие березки, низкорослые сосенки, поворачиваются на невидимых осях плоские, как блины, замерзшие болотца. В кузове, на снарядных ящиках, на свернутой в тюк палатке, сидят орудийные номера, пряча в воротники полушубков багровые от стужи лица. Орудие послушно бежит за трактором, мягко подпрыгивая на своих толстых шинах.
Почти месяц колесим мы по фронтовым дорогахМ. Я сам выбираю место для огневой позиции. Устанавливаем орудие, окапываемся, раскидываем палатку, С утра до темноты торчим у орудия. Самолеты противника появляются редко: погода стоит нелетная.
Инструкция мне дана простая. Снаряды и горючее не жалеть, стрелять по всем самолетам противника, появившимся в зоне огня. После каждой крупной стрельбы менять огневую позицию, удаляясь от старой не менее чем на километр. Позиции выбирать по своему усмотрению, но не вблизи скоплений войск, артиллерии, складов и батарей. Действовать по всему участку фронта вдоль правого берега реки в районе дислокации Невской оперативной группы войск. Вот мы и действуем.
Каждый вечер я направляю в штаб отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которому мы приданы, боевые донесения о действиях ОK3О – опытного кочующего зенитного орудия. Я его сам назвал так, и начальство согласилось. Но потом я услышал, что расчет зовет его «козой». И мне объяснили, что КОЗА – это кочующее орудие зенитной артиллерии. Все верно. Это название быстро привилось, и вскоре в боевых донесениях я докладывал о боевых действиях КОЗА. Это название нравилось еще и тем, что мы все время кочевали с места на место и забирались в разные чащи и болота, как коза.
Расчет орудия подобрался хороший. Командир орудия старший сержант Жихарев лет на пять постарше меня, бывший токарь. В боях под Невской Дубровкой был ранен и награжден орденом Красной Звезды. Парень очень сметливый, в прицеле и правилах стрельбы разобрался быстро. Он полностью взял на себя все заботы о расчете, орудии, тракторе,– короче говоря, наше немудреное хозяйство легло на него. На мою долю осталось, так сказать, общее оперативное руководство.
Заряжающим был ефрейтор Кедров с уральских золотых приисков–дремучий, здоровенный детина. Лицо у него широкое, костистое, брови кустиками: редкие, колючие, как шипы, ресницы, маленькие, широко расставленные глаза. Он вечно ходил обросший, так как ежедневного утреннего бритья ему было мало. А брились мы не так уж часто с нашим кочевым образом жизни. На все окружающее он смотрел очень спокойно и практично. А селедку ел, как колбасу, не чистя, начинал с головы и под конец выплевывал только хвост. У Кедрова были крупные белые зубы. Ими он зачищал телефонные провода: брал концы в рот, сжимал зубы и тянул. Раздавался скрип, от которого нас всех передергивало, а Кедров с прилипшей к губе изоляцией толстыми узловатыми пальцами аккуратно, без всяких плоскогубцев, сращивал оголенный участок провода.
Однажды ночью нас стали прогонять с только что занятой позиции. Мы заняли место полевой батареи, а она прибыла ночью. Вода из трактора уже была спущена, и сам он стоял в хорошем укрытии. Поле вокруг было ровное, и мы вдесятером довольно легко перекатили пушку в другой конец поля. Потом решили перенести палатку. Посреди нее стояла большая чугунная железнодорожная печь. Не знаю, где ее достали ребята, но кажется, стащили у кого-то. Дрова ночью доставать трудно, заливать водой печь не хотелось. Тогда Кедров взвалил ее на себя, подложив под нее крышку от снарядного ящика, и понес, прямо с трубой, на новое место. Печь топилась, из трубы валил дым и сыпались оранжевые искры. Зрелище феерическое. Снежное поле, черный лес, морозные тучи над ним, и движется что-то странное на человеческих ногах с длинной трубой, рассыпающей искры. Батарейцы-полевики даже окапываться бросили и смотрели ему вслед.
Тракторист ефрейтор Цыганкин был щупленький, маленький, большеголовый, как обойный гвоздь. Мохнатая меховая шапка всегда была сдвинута на затылок, развязанные уши колыхались над его плечами, как пушистые крылья. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Всю прошлую зиму он работал на ладожской трассе – Дороге жизни, и, говорят, работал лихо. Конечно, лихо.
Однажды поехали мы с ним за боеприпасами. Получили, погрузили. На обратном пути завернули на зенитную батарею, с командиром которой я познакомился в первый месяц войны в учебном полку. У Цыганкина на батарее тоже были дружки.
Погода была скверной, туман, изморозь. Я засиделся у командира батареи капитана Ермолова Владимира Владимировича. Было о чем поговорить, А потом решил идти до своего орудия пешком.
Был гололед. Дорога, раскатанная машинами, блестела, словно залитая стеклом. Оглянулся, вижу: мой трактор жмет на полной скорости, потом визг – и пошел вальсировать на дороге. А из распахнутой кабины слышны сквозь рев мотора гогот и песни Цыганкина. Потом трактор снова разогнался – и снова пируэты. Это с полным кузовом боеприпасов! Видно, дружки у Цыганкина на батарее были не из скупых. Тогда я впервые на него наорал.
Солдаты у меня хорошие, но уж больно иронически они относятся ко мне. Хотя это понятно, и это надо терпеть. Во-первых, я опять по возрасту самый младший, а во-вторых, все они побывали в грозных боях, имеют ранения и награды. А я пока цел и на моей гимнастерке, кроме значка «Готов к труду и обороне» II ступени, ничегошеньки больше нет.
Но меня сильно обижает то, что они на мое орудие смотрят как на детскую забаву, и поскольку возня с этим орудием не очень обременительна, то на судьбу не сетуют, выполняют то, что им приказывают.
После первых занятий с расчетом во время перекура наводчик ефрейтор Лунев, свертывая папиросу, спросил:
– Товарищ лейтенант, мне все понятно: и как работает прицел, и как стрелять из этой пушки, но одно невдомек – для чего это все?
Я опешил:
– Как для чего? Я же десять раз объяснял: для самообороны батарей от звездных налетов высотной авиации.
– Это-то так... На каждой батарее есть четырехметровый дальномер с двадцатикратным увеличением.
Несчастные дальномерщики только тем и заняты, что все время выверяют его. Дождь прошел—проверка, солнце выглянуло – снова выверка. За точность борются. А мы для нашей пушки высоту цели определяем на глаз. На батареях для определения скорости и курса цели – куча приборов, а мы на глазок прикидываем...
Вздохнув, я в который раз стал убеждать, что в целях самообороны уж лучше стрелять приблизительно, чем вообще наобум.
– Так-то оно так,– не унимался Лунев.– Но тогда нам надо стоять па батарее, а то уехали совсем в сторону с одной пушкой, и, если на нас будет звездный налет, мы же не сможем стрелять сразу по двум самолетам.
Я опять стал объяснять, что надо испытать орудие так, чтобы его стрельбе не мешали и оно не мешало другим батареям. Ведь в групповой стрельбе не отличишь, где свои разрывы, где соседей.
– Это я понимаю,– протянул Лунев, собираясь еще что-то сказать, но вмешался трубочный Агеев:
– Чего пристал? Значит, так надо.
А заряжающий Кедров прогудел:
– Наше дело солдатское.
Очень неприятный осадок остался в моей душе после этого разговора, словно хлеба с песком наелся. А тут еще первый блин вышел комом. «Генеральский эффект» получился.
Начальник мастерских капитан Яковлев до войны работал в научно-исследовательском институте. Как-то он мне и сказал, что у исследователей-экспериментато-ров бытует понятие «генеральский эффект» – это когда в лаборатории опыты дают хорошие результаты, а на официальном предъявлении перед начальством вдруг не получаются. Что-нибудь да подведет.
Первую позицию мы заняли на поляне вблизи большой дороги. Изготовили орудие к стрельбе и торчали у него в ожидании самолетов врага.
На дороге остановилась «эмка», из нее вышли двое а папахах п направились к нам. Это были полковник Максютин и Ступалов – уже тоже полковник. Я доложил как положено, они поздоровались. Ступалов обошел орудие, долго стоял перед прицелом. Я стал объяснять, он почти не слушал, только несколько раз внимательно посмотрел на меня, потом усмехнулся и сказал Максютину:
– Нам-то это ни к чему. А для вас пока сойдет.– Он еще раз оглядел прицел и рассмеялся: – Не скажу, чтобы это было очень умно, но то, что здорово остроумно – бесспорно. Остряки вы, Григорий Павлович, с вашим лейтенантом.
Полковники отошли от орудия и закурили, угостив папиросой и меня. Вспомнив, я спросил Ступалова, была ли опубликована моя статья, о которой он мне зимой сообщал по телефону.
– Ах, это вы и есть? Разве не получили экземпляр бюллетеня? Я, помню, распорядился переслать вам...
В это время ефрейтор Лунев объявил тревогу.
– Вот и хорошо,—заметил Максютин. – Заодно посмотрим, как получается на деле.
На большой высоте летел «Мессершмитт-110».
Зазвеневшим, как на параде, голосом я подал команду. Расчет работал быстро и спокойно. Взметнулось пламя. Кольнуло в уши. Выстрел, второй, третий. Возле самолета один за другим вспыхнули разрывы наших гранат. «Неплохо»,– подумал я, но, услышав испуганное восклицание Жихарева, взглянул на орудие и оторопел. Ствол у пушки стал коротким, как у гаубицы. Он слетел с полозьев люльки и врезался массивным казенником в землю, придавив полу шинели Кедрова. Заряжающий лежал со стволом в обнимку и обалдело таращил белесые глаза.
Я испугался, что Кедров попал под откат ствола, а это равносильно удару парового молота, и бросился помогать. Но Кедров был опытным заряжающим. Ствол после выстрела ходил возле самой его груди, но не задевал, а сейчас только полу захватил...
«Будет разнос»,– подумал я, и мне стало так горько, словно я высосал весь никотин из старого мундштука.
Полковник Максютин в это время спокойно сказал полковнику Ступалову:
– Неплохо? Впечатление стрельбы создается полное.– И повернулся ко мне: – Сейчас же отправляйте орудие в мастерскую, и пусть срочно отремонтируют. Видно, регулирующую шайбу тормоза отката оторвало. Орудие изношенное.
Он внимательно осмотрел поляну, увидел пустые орудийные котлованы и гневно спросил:
– Ты где стоишь? *
– На пустой позиции,
– Не на пустой, а на запасной! Зачем залез на нее? Не понимаешь, что ли? Сейчас же вон отсюда, и больше близко к запасным позициям не подходить!
Полковники сели в машину и уехали. Я стоял возле дороги опустив голову, словно оплеванный е ног до головы.
Я понимал, что случилось с тормозом отката, тут я совсем ни при чем. Металл орудия устал, не выдержал. Но, как назло, это стряслось именно сейчас, при начальстве. Вот это действительно «генеральский эффект», будь он проклят.
Потом все вместе, хрипя и задыхаясь, долго задвигали ствол на место. Задвинув, прикрутили к люльке кусками колючей проволоки. Кедров гулко вздохнул:
– Вот это стрельнули так стрельнули! Очень громко пукнули при всем честном народе.
В Жихареве проснулось командирское самолюбие, и он крикнул:
– Кедров, замолчите!
– Слушаюсь,– не спеша и не меняя тона, ответил заряжающий и хлопнул ладонью по казеннику: – Ну, пушка-хлопушка, значит, замолчим теперь.
К утру следующего дня орудие починили. Капитан Яковлев, прощаясь со мной, сказал:
– Ты еще сам не знаешь, сколько таких «эффектов» у тебя впереди.
– А без них нельзя? – спросил я.
– Без них не бывает,– вздохнул Яковлев.
Полтора месяца мы колесили по дорогам и бездорожью, и ничего больше не приключилось с нами. Единственное, чего я боялся, – отвалятся колеса у пушки. Цыганкин скорость не снижал ни на ухабах, ни на рытвинах, и орудие прыгало за трактором, ну как коза.
Получив инструкцию и район маневрирования, я решил, что все это только для испытания орудия, но было непонятно, зачем так часто менять позиции? Прибыв в район дислокации Невской оперативной группы войск, я догадался, что дело не столько в испытании орудия, сколько в его применении.
Раскатанные сотнями колес и гусениц лесные дороги днем были пусты, и только из леса, из-за кустов, доносился визг пил, треск падающих деревьев, лязг лопат, натужное кряхтенье людей. По пустынным дорогам изредка проходили связные, проезжали хозяйственные и санитарные машины.
С темнотой дороги оживали. Рычали трактора, гремели и визжали по снегу гусеницы, скрипели повозки, по обочинам дорог, попыхивая цигарками, шла пехота – и так почти до рассвета. А декабрьские ночи длинные.
После ремонта пушки, когда мы заняли огневую позицию возле развилки дорог, в небе появились два «мессершмитта». Они шли на высоте две тысячи метров над нашей территорией параллельно Неве. Мы тотчас открыли по ним огонь. Самолеты прибавили скорость, стали маневрировать высотой и вскоре вышли из зоны огня моего орудия. Я долго наблюдал за ними, и мне стало не по себе. Может, это наши самолеты и я стрелял по своим? Ведь в районе, над которым пролетели самолеты, много наших зенитных батарей, и ни одна не открыла огня. Все батареи молчали. Стрелял я один. Долго не мог отделаться от неприятного ощущения вины, оплошности. Несколько раз спрашивал наводчика, тот уверял, что это были настоящие «мессеры» и что-де он различил кресты на их бортах.
– Это не так важно, – усмехнулся Кедров,– стреляем, что в ладоши хлопаем.
Жихарев цыкнул на Кедрова, нахмурился и весь день был угрюмым.
Позже от капитана Ермолова я узнал, что батареям запрещено открывать огонь по одиночным самолетам и группам истребителей, за исключением налета бомбардировщиков. Но последние пока не появл ялись.
А мое орудие палило по всем самолетам, и вполне возможно, что противник засекал его как зенитную батарею, ведущую огонь одним орудием в целях экономии боеприпасов. Ведь всем известно, что зенитные орудия среднего и крупного калибра в одиночку дислоцироваться не могут и не могут вести самостоятельную стрельбу по высотным самолетам.
И может быть, после моей стрельбы на карте врага появлялся новый значок – зенитная батарея.
Так вот почему полковник Ступалов заметил, что эта пушка ему не нужна, Он командует городскими батареями. И если самолеты прорвутся к городу, то не будут нападать на батареи, а сбросят бомбы на дома. Й по всем вражеским самолетам, идущим на город, батареи обязаны вести самый интенсивный огонь.
К вечеру я командовал:
– Орудие, отбой, поход!
I I мы ехали и другое место, расчищали снег, ставили палатку, готовили ужин, а с рассветом вновь ствол моего орудия пристально смотрел в небо.
Молчала и полевая артиллерия, молчала и тяжелая. Только изредка с разных концов фронта доносились редкие раскаты. Несколько батарей не спеша пристреливались. Потом, после пристрелки, посылалось три-четыре дистанционные гранаты. Они рвались высоко над целью – воздушные реперы. Их засекали другие наши батареи и вносили исправления в свои расчетные данные для стрельбы по этой цели.