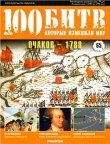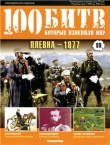Текст книги "После десятого класса"
Автор книги: Вадим Инфантьев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Конечно, противник не дурак, он понимает, что идет пристрелка, его инструментальная разведка засекает стреляющие батареи, но враг не может узнать, сколько и какие батареи молча корректируют свои расчеты для предстоящей артиллерийской подготовки.
Было что-то неумолимо грозное в этих редких раскатах грома, катившегося под низкими снежными тучами, над безмолвными лесами и болотами, над ледяной гладью Невы.
К вечеру гром стихал, и начинали гудеть и громыхать дороги.
Только на фронте могут происходить самые неожиданные встречи.
Валил снег, густо, непрерывно. Самолеты ежились от холода на своих аэродромах, укутав носы в брезентовые чехлы. Я отправился на поиски запасной огневой позиции, не так позиции, как просто хотелось пройтись, посмотреть на белый свет.
Размышляя о себе, о своем орудии, брел по тропинке и наскочил на часового. Он меня повернул кругом, но в это время раздался знакомый голос:
– Товарищ командир взвода, Николай Владимирович! /
– Бекешев! Откуда ты здесь?
– Часовой, пропустите.
У белеющего в ельнике бугра землянки стоял Бекешев. На нем был новенький, чистый полушубок, меховая шапка. Усы стали длиннее и пушистей, а лицо помолодевшее, с румянцем на щеках. Мы поздоровались, и Бекешев потащил меня в землянку. Это была хорошо оборудованная кухня. Бекешев помог мне раздеться, скинул свой полушубок, и я увидел в его петлицах по четыре треугольника.
– Ого! Ты уже старшина?
– А вы уже лейтенант!
Бекешев усадил меня за стол. Мы закурили.
– Значит, снова поваром стал?
Бекешев рассмеялся и потрогал усы:
– Застукали меня в госпитале. Уже выздоравливал, ковылял понемногу. Насчет кулинарии распространялся. Госпитального повара отчитал. Холодными руками работает. Из тех продуктов, что он получает, ресторанные блюда можно готовить. Наш разговор с поваром, а потом с начальником госпиталя слышал раненый подполковник и, видимо, зарубил себе на носу. И вот сразу после излечения я угодил сюда, в артбригаду РГК.
– Не жалеешь?
Бекешев нахмурился, подергал ус и сказал серьезно:
– Нет. Вначале колебался, потом решил, что так будет лучше, справедливей. Ну что я мог в прошлом году сделать как повар? Был лучшим поваром во всем нашем крае и сейчас мастер, но не Христос, и семь хлебов мне не добыты Ну а теперь, когда снабжают нормально, пожалуй, черпак в моих руках ныне для врага опасней, чем моя винтовка или маховичок вертикального упреждения на баллистическом преобразователе, который я крутил у вас на батарее. Вон разведчики говорят: как
Палыч накормит, так весь день лежишь на снегу, а брюхо, что печка, греет. И начальство, посмотри, аж гарцуют на ходу. Веселые, боевые! – Бекешев вдруг всплеснул руками: – Господи, да что это я? Гость пришел, а я его байками потчую! Минутку-минутку, сейчас. Гаврила, а Гаврила, пошуруй в печке, подбрось.
Ну и силен Бекешев как повар! Любуешься, как он артистически орудует у плиты, что-то пробует, смешивает, подливает, а землянка наполняется такими вкусными запахами, что, кажется, слышишь стон собственных кишок.
Глядя на сковороду, в которой жарилась картошка, Бекешев заметил:
– У нас ведь орудия БМ (большой мощности), не то что ваши брызгалки. Вот я и угощу вас фирменным блюдом, оно называется «наш залп».
Бекешев вдруг резко дернул сковородку кверху. Нарезанный картофель стайкой взлетел к потолку землянки, перевернулся в воздухе и снова шлепнулся на сковороду, неподжаренной стороной вниз.
Потом сидели за столом. От сытости я не мог наклонить голову. Вдоволь наговорившись, мы задумались и, как-то не сговариваясь, затянули:
Что стоишь качаясь,
Тонкая рябина?..
Эту песню до войны я слышал редко. Хотя ей, наверно, не менее ста лет, нам, мальчишкам, она не нравилась. Обычно ее пели пожилые люди за столом, перед тем как затянуть «Шумел камыш...». Теперь эту песню поют все, и я ее люблю. Сразу вспоминается и дом, и школа, и товарищи, и... Ольга, и горло стягивает судорогой.
Свет коптилки мерцает в повлажневших глазах, кулаки подпирают небритые щеки. Люди поют, смотрят в пространство и видят перед собой не стены блиндажа, не лица товарищей, а что-то другое, свое...
Но нельзя рябине К дубу перебраться,
Видно, сиротине Век одной качаться.
Кончится война, пройдут годы. Новые песни придумает жизнь. А эту уже другие пожилые люди – мои ровесники – вспомнят изредка, перед тем как грянуть «Шумел камыш...».
Беру па себя смелость утверждать, что Ленинградский фронт запел после ноября 1942 года. В сорок первом было не до песен, потом тоже. Музыку слушали жадно, смотрели в рот приезжему певцу не моргая, но сами губ не разжимали.
И только после одного дня появилось желание петь.
Шел мелкий, колючий снег и шелестел в елях, их мохнатые черные лапы протягивались к дороге, словно запрещая по ней движение. Спускались сумерки, и дорога еще была безлюдной. Я возвращался из медсанбата. Он недавно расставил свои палатки и пока бездельничал: раненых поступало мало, и было время поговорить и познакомиться.
Откуда-то спереди донесся торопливый крик:
– Эй, люди! Кто есть? Люди...
И заглох, будто кричавший провалился в яму. Я прибавил шагу и расстегнул кобуру. Снова крик:
– Ну, люди! Где же вы?
На полянке возле дороги белел горб землянки, в дверях ее маячила голова в танкистском шлеме. Человек, увидев меня, заорал:
– Чего ползешь, как вошь по зеркалу? Скорей!
Он силой втащил меня внутрь землянки, трясущимися от напряжения руками разъединил наушники и один сунул мне. Он был теплый. Сквозь треск разрядов и улюлюканье глушилок я различил голос диктора, он перечислял количество убитых, захваченных в плен. Сотни трофейных орудий, танков, самолетов. Потом диктор закончил словами; «Наступление продолжается!»
– Что? Где? – спросил я.
Танкист отмахнулся:
– Цыть ты... Под Сталинградом всю армию Паулю-са... Теперь ей... Слушай.
Оркестр грянул марш. Передача окончилась. Блестя в темноте глазами и не отрывая уха от наушника, танкист сбивчиво и торопливо пересказал мне сообщение о победе под Сталинградом.
– Понимаешь, разве можно такое одному слушать? Выскочил, ору – все, словно суслики, по норам забились. Эх черт, и фляжка, как назло, пустая.
Потом я спешил по дороге, размахивая руками, останавливал встречных, рассказывал. Заметив в лесу людей, направился туда. Меня окликнул часовой. Я потребовал дежурного или кого-нибудь из начальства. Подошел старшина. Я спросил:
– Рация у вас включена?
– А вы кто такой?
– Фрицев под Сталинградом того... наголову, в пыль.
Старшина потащил меня к своим.
Я сидел в пахнущем свежей сосной блиндаже, входили и выходили люди в ватниках и полушубках. Кто-то кому-то язвительно крикнул в лицо:
– Ну вот и сэкономил свои батареи, лопух! Просили же: включи... так нет.
Меня заставляли повторять и повторять сообщение, потом я оказался у саперов... К себе пришел за полночь и только буркнул дежурившему у орудия трубочному Агееву:
– Всей армии Паулюса крышка.
Прошел в палатку, нащупал на полу свое место рядом с командиром орудия и растянулся на колючем пружинистом лапнике. Но спать мне не дали. Агеев поднял весь расчет. Меня растолкали, заставили выпить две кружки холодной воды и рассказать подробно. До чего же приятно приносить добрые вести людям!
С тех пор из блиндажей и землянок, на привалах у костров начали раздаваться песни.
Вот и в гостях у Бекешева, плотно закусив и рассказав все новости, мы дружно пели любимые песни. Потом, расцеловавшись на прощание (кто знает, придется ли снова встретиться), я отправился к себе.
По дороге двигались войска и техника. Темная, глухо рокочущая река. Только за стеклами машин да в темной массе батальонов красными огоньками тлели цигарки. Они то меркли, то разгорались, освещая настороженные лица.
Река, как в дельте, распадалась на отдельные рукава и ручьи, и по лесным дорогам и тропинкам они исчезали в массиве леса.
Оттуда доносился стук топоров, лязг металла. Окапывались. Окапывались, словно собирались здесь прожить всю жизнь. Да. Именно так надо воевать. Нас учили перед войной, что, как заняли позицию, нужно немедленно окапываться. И так мы отвечали на экзаменах. Началась настоящая война, и я сам тогда думал: на кой черт тратить силы и время – копать орудийные котлованы? Неизвестно, сколько будем стоять, сойдет и так. И за это «сойдет и так» платили кровью и оставленными селами. Теперь все поняли. Встал на место – вгрызайся в землю, хотя знаешь, что, может, завтра покинешь, уйдешь отсюда. Вгрызайся в землю по уши. Береги себя. Береги себя и для себя и для боя.
И вот сейчас артиллеристы, саперы, танкисты окапываются, словно занимают долговременную оборону, хотя все уверены, что сидение на месте кончилось, война вступает в новую фазу. На юге вражеская армия откатывается на запад. Пора и нам начинать.
Мы колесим по замерзшим дорогам, и блиндажи нам строить некогда. Поначалу мы пользовались кукушечьей тактикой – ночевали в пустых землянках, но их вскоре не стало. Все позанимали прибывающие части и подразделения. Хорошо, что у нас есть шерстяная двухслойная палатка, на отсутствие уюта нам жаловаться не приходится.
Декабрьские ночи длинные. Колышутся стены палатки, потрескивает и дышит жаром чугунная печь. Погромыхивает фронт, изредка прилетают снаряды и вонзаются в мерзлую землю.
Полулежа на лапнике, я обычно пишу или думаю, остальные мои товарищи спят, спят много, запасаются сном на будущее. Ведь никто не знает, где и как придется проводить следующую ночь.
И снова в моей душе начинает копошиться чувство неудовлетворенности. Оно смутно проявлялось еще тогда, когда я смотрел из окна на ночную мокрую Дворцовую площадь после разговора с Хромовым. Я отгоняю и отгоняю эту мысль, она уходит и возвращается все более окрепшей. Мысль о том, что все-таки сделал не то, что хотел, пришел не к тому, к чему стремился.
Эта мысль укрепилась окончательно после встреч с командиром зенитной батареи капитаном Ермоловым Владимиром Владимировичем.
С ним я познакомился еще в первые месяцы войны в учебном запасном полку, где мы формировали батареи. Высокий, статный, жилистый, с крепкими плечами и шеей, Ермолов выглядел особенно нелепо в новеньком, коробом стоящем обмундировании, подпоясанный брезентовым ремешком, в кирзовых сапогах с широкими, как ведра, голенищами. Ему бы подогнать обмундирование, и он сразу забил бы статностью многих кадровых военных. Но о внешности он не думал. Носил, что выдали, как большинство призванных из запаса командиров.
Ермолов тогда формировал для себя батарею. Он замучил кладовщиков и снабженцев с приемкой материальной части. Каждое орудие он проверял сам до мельчайшего винтика. Толстые длинные электрические кабели он просматривал, как телеграфные ленты, и, заметив трещину в резиновой изоляции, требовал замену кабеля. На Ермолова кричал начальник штаба и обвинял в трусости, что-де он умышленно затягивает приемку, чтобы попозже попасть на фронт, грозился отстранить его от командования батареей.
Ермолов невозмутимо и вежливо разъяснял, что ему как командиру надлежит принять оружие и технику в полной исправности, а начальник артснабжения должен предъявить ее в полном составе и порядке. Ермолов стоял перед начальником штаба, вытянув руки по швам, напряженно, как новобранец, и только жестикулировал пальцами.
При согласовании батареи вдруг обнаружилось, что ПУАЗО безбожно врет. Если боковое упреждение по условиям стрельбы должно быть вправо, то прибор показывал такую же величину, но только влево. Заменить прибор было нельзя. Это был последний на складе.
К моему удивлению, Ермолов на неисправность прибора реагировал довольно спокойно. Он походил взад-вперед возле прибора на длинных крепких ногах, размышляя, а потом заявил, что ничего страшного нет, неисправность должна быть простой – где-то перепутана полярность контактов или поставлена наоборот какая-либо деталь. Подозвал меня, попросил помочь, сорвал пломбы и стал отдавать болты на стенке прибора.
Прибежал начальник артснабжения и поднял страшный крик, что прибор в полевых условиях вскрывать строжайше запрещено инструкциями. Его нужно отправлять в мастерские к специалистам.
– Извините, но сейчас не до них,– спокойно ответил Ермолов, изучая схему и расспрашивая меня о назначении того или иного узла и механизма.—Дело все в какой-то ерунде. Это не страшно.
Начальник артспабжения фыркнул и направился было в штаб, но Ермолов подозвал его:
Будьте добры, задержитесь на минутку. Смотрите, он показал длинной тонкой отверткой в глубь прибора.– Сейчас. Николай Владимирович, дайте лист бумаги.
Я подал ему чистый лист. Он поставил его наклонно, и солнечный свет, отраженный от листа, осветил внутренность прибора белым матовым светом. Легонько постукивая концом отвертки по деталям, Ермолов объяснил:
– Вот множительный механизм бокового упреждения. Видите снимающий ролик, он перемещается при помощи вот этого устройства, но дает зеркальную ошибку, точную по абсолютной величине и обратную по направлению. Значит, вот эта деталь при монтаже поставлена наоборот.
– Но прибор же проверялся при выпуске!
Ермолов посмотрел на заводской штамп и усмехнулся:
– Выпущен в июле этого года. Уже горячка была, батенька мой, могли и напутать и не обратить внимания на знак показания прибора. Тем более если мастера ушли на фронт, а новички еще не освоились.
Мне не пришлось тогда близко познакомиться с Владимиром Владимировичем, я только узнал, что он астроном, кандидат физико-математических наук. Он объяснил мне, почему так легко нашел неисправность:
– Учтите, дорогой, если ошибка, какой бы большой она ни была, оказывается кратной двум, ищите, где вы вместо диаметра поставили величину радиуса, и наоборот. А если кратная десяти, то наверняка где-то по ошибке поставили не там запятую в числе. А здесь ошибка была обратной по знаку – это значит, что или перепутали полярность контактов, или какую-то деталь поставили наоборот.
И вот спустя полтора года я вновь встретился с Ермоловым, окопав свое орудие в километре от его батареи. Потом, совершая броуново движение вдоль берега Невы, я часто оказывался недалеко от Ермолова и всегда навещал его.
Свежий сосновый сруб его землянки был вкопан в песчаный косогор. В землянке просторно, тепло и сухо, как в настоящем доме.
Когда я рассказал Ермолову о своем прицеле, он довольно равнодушно заметил:
– Вообще-то ничего, пугать одиночные самолеты можно.
Откровенно говоря, я тогда обиделся на Ермолова. Подумаешь, тоже военный специалист, всего полтора года воюет, а раньше не служил. Что, командующий артиллерией фронта или полковник Максютин глупее его? Они же не зря заинтересовались моим прицелом... Но потом в моей душе снова зашевелился червяк сомнения.
Переделать прицелы хотя бы у одной пушки на каждой батарее не очень трудно, даже в условиях блокады. И стоило командующему отдать распоряжение, как зашевелились бы все батареи, дивизионы и полки. Но командующий этого не сделал.
Изготовлен всего единственный прицел, и орудие направлено на тот участок фронта, где зенитным батареям приказано воздерживаться от огня по одиночным самолетам, а орудию – снарядов не жалеть и стрелять по любой воздушной цели. Значит, тут дело не в технике, а в тактике, значит, я сделал техническое усовершенствование для частного, одиночного тактического приема, который потом, может быть, никогда не пригодится. А я мечтал!.. Эх, мало ли о чем мы мечтаем! Хромов же сразу сказал мне, что не одиночная стрельба, а массированный огонь всех средств ПВО может сделать оборону эффективной. И меня снова потянуло к Ермолову.
Владимира Владимировича на батарее недолюбливали. Уж слишком он был педантичен. Вызовет провинившегося бойца и вместо разноса с объявлением взыскания начнет выяснять и объяснять, почему тот совершил проступок. Потом вдруг спохватится:
– Ах да, вы же должны стоять перед командиром по стойке «смирно». А вы как стоите? Ну почему вы, зная устав, вдруг расставили ноги и чешете затылок? Почему, отвечая мне, вы машете руками?
– Виноват, товарищ капитан, больше не буду.
– Не спешите признавать свою вину, вы ее еще не поняли, давайте-ка, батенька, разберемся сначала...
И так целый час.
Офицеры батареи тоже недолюбливали Ермолова. Своего замполита он упрекал в том, что тот формально выучил диалектику. Командиров взводов заставлял по утрам вместе с личным составом заниматься физзарядкой и занимался ею сам, после по пояс обтирался снегом и шел завтракать. Со странной для него наивностью Владимир Владимирович не понимал, как люди не могут делать то, что доступно ему. «Разве можно весь вечер рассказывать анекдоты, когда за это время можно сделать что-нибудь более полезное: прочитать книгу, вычистить пистолет, проверить свои знания в правилах стрельбы...»
Завтрак для командиров взводов был пыткой.
Ординарец приносил помятую кастрюлю с супом, закутав ее в старый ватник, но Ермолов все равно ворчал, что суп холодный, и ставил кастрюлю на печку. Когда суп закипал, разливал его по котелкам и начинал торопливо есть. Закончив, вставал и, надевая полушубок, командовал:
– Все. Пора на позицию.
~~~ У нас во рту кожа лохмотьями висит,– признавав лись мне командиры взводов.– Все сожгли, а ему хоть бы что, ест кипящее и даже на ложку не дует.
Я пришел к Владимиру Владимировичу, чтоб еще раз откровенно поговорить о своем прицеле. Когда я рассказал ему о своих размышлениях и сомнениях, он заметил:
– Пожалуй, с вами можно согласиться, что этот прицел был бы полезней в сорок первом году, чем сейчас. Но сорок первый год в этом отношении не показателен. Когда нет винтовок, то и берданка – оружие. Сейчас под Сталинградом сформированы не четырех-, как у нас, а двенадцатиорудийные батареи. Несколько батарей бьют по одному транспортному самолету, и то наверняка самолеты прорываются, хотя много и гибнет. Положение изменилось. Полтора года назад мы думали, как отбиться от самолета, а теперь думаем, как его уничтожить. Да и противник захирел. Помнишь, в сорок первом какие хороводы водил? «Юнкерсы» летали над целью по кругу и хладнокровно, по очереди, пикировали, а теперь подкрадутся на большой высоте, под солнцем или за тучкой, повалятся оравою вниз, набросают куда попало – и врассыпную, да и то после боев под Невской Дубровкой я больших налетов уже не видел. Ты думаешь, противник не догадывается, что здесь готовится прорыв? Нет, он далеко не дурак. Окапывается, возводит дополнительные инженерные сооружения и больше ничего сделать не может. Мы оправились от удара, от наших оплошностей и ошибок. В силу вступили постоянно действующие факторы. Была бы погода, может быть, он вел бы высотную разведку, так наши истребители наседают. Сейчас он посылает одиночные «мессершмитты» и «фокке-вульфы». Пронесутся они на полном газу, а много увидят? Лес густой, дороги пустые, только разрывы и вспышки твоего орудия. Что доложат? Попали под огонь зенитной батареи. Стоит она там-то. Вот и все.
– Значит, я выполняю только тактическую задачу?
– Конечно, и очень важную. Так что пали, пока ствол не треснет.
– У меня ствол новый, а вот остальные узлы орудия старые, может, усталостные напряжения возникли?
– Заварят,– отмахнулся Ермолов.
В дальнейшем разговоре Владимир Владимирович почти дословно повторил то, что рассказывал в свое время инженер-полковник Хромов, там, на Дворцовой площади, в здании Главного штаба. Хромов и Ермолов совершенно разные люди, ни разу не встречались, а размышляют одинаково, словно сговорились.
До глубокой ночи я сидел в землянке Ермолова. Вблизи Ленинграда, в кольце вражеской блокады, при нехватке оружия, боеприпасов и горючего, при свете коптилки мы рассуждали, какой должна быть противовоздушная оборона. Что наиболее эффективным оружием может быть энергетический луч. Но это, скорее всего, фантастика, пока совершенно неясно, как сосредоточить огромную энергию в узком направленном пространстве.
Автоматическая артиллерия годна только для борьбы с низколетящими самолетами. Невозможно изобрести прибор, предугадывающий намерения летчика и маневрирование самолета уже после выстрела по нему из орудия, когда снаряд летит в расчетную точку предполагаемой встречи с целью. Значит, нужен такой снаряд, который бы гнался за самолетом, как гончая за зайцем. И такой снаряд есть – ракета. Это «катюша», первый залп которой я видел 19 сентября 1941 года под Автовом.
И тут Ермолов рассказал, сколько имеется теоретических возможностей создать или управляемый зенитный реактивный снаряд, или самонаводящийся на самолет. Он сам будет лететь на цель, видимую оптическим устройством снаряда, или на звук мотора, или на тепловое излучение, или по ультракоротковолновому радиолокационному лучу. Подобные приборы уже поступают на вооружение зенитчиков и называются СОН – станция орудийной наводки. Но это громоздкие и тяжелые сооружения, а нужна миниатюрная станция, размещенная в головке снаряда.
– В общем, так, – признался Владимир Владимирович, – пока это голословные рассуждения.– Он взял толстую тетрадь, раскрыл ее, провел ладонью по страницам, испещренным дифференциальными уравнениями, формулами и какими-то непонятными мне значками. – Вот сижу и определяю, какой вариант теоретически будет выгоднее, надежнее. Большее пока мне не под силу.
Свистела пурга в печной трубе, скреблись снежные струи о дверь землянки, глухо рокотала земля под тяжестью гусениц и колес. Где-то рвались тяжелые снаряды.
Я просил Ермолова подробнее рассказать о своей работе. Он отрицательно покачал головой:
– Нет, этого я не сделаю из личных, даже корыстных, соображений, Ты не обижайся, но пойми, чтоб объяснить тебе, мне надо настроиться на упрощенный, примитивный образ мышления. Ведь ты только десятиклассник, ну... нахватался отрывочных знаний. Тебе будет очень трудно понять тонкости, а мне объяснить. Мне нужно подготовиться к серьезному профессиональному разговору с очень солидными людьми. Основные положения ты знаешь, и этого вполне достаточно. Не обижайся. Это не твоя вина, не твоя беда, а твое преимущество. Кончится война, и ты получишь такие знания, каких в свое время не мог приобрести я. Диалектика.
– В том, что война кончится, я не сомневаюсь. А вот доживу ли до победы?
Ермолов развел руками.
– Ну, батенька мой, никто не поручится, что следующий тяжелый снаряд не угодит в нас... Если так рассуждать, то нужно лечь ничком или пьянствовать беспробудно.
Я собрался уходить. Ермолов остановил:
– Минутку, я что-то хотел спросить... Гм...– Он потер лоб, пощелкал в досаде пальцами: – Никак не вспомнить, что-то важное. Ах да, вы у себя насекомых не развели со своей кочевкой?
Я ответил, что моемся каждую неделю. Чаще всего, когда нет поблизости бани, прямо на морозе. Кипятим на костре бочку воды. Трое становятся банщиками. Боец раздевается по пояс в палатке и выскакивает наружу. Его сразу обрабатывают в две мочалки, третий непрерывно поливает горячей водой, чтоб не замерз. Потом тот вытирается в палатке и выскакивает в ватнике, но без штанов и обувки. Вторым этапом обрабатывают нижнюю половину тела. Так что все в порядке.
Ермолов усмехнулся:
– Мы сделали свою баню, и есть где прокалить одежду. Приводи своих завтра вечером, пусть как следует помоются.
– Спасибо, прямо с пушкой приеду. Пора менять позицию, наверно, уже засекли меня.
Еще несколько раз я был в гостях у Ермолова,, мы все говорили на одну и ту же тему, и было мне горько и досадно, что я знаю так ничтожно мало, а мне казалось, что все в мире просто и ясно, как дважды два – четыре.
Я вроде как хожу по темному лесу и стреляю из пугача, пытаясь одурачить, дезориентировать противника. Каким же я был наивным, самоуверенным там, под Пулковом, когда думал, что изобрел новое оружие! Об этом я никому не говорил, но думал! Ну ладно, все-таки я приношу пользу, хотя и сделал не то, что хотел.
В ноябре 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план прорыва блокады Ленинграда и наметила участок прорыва. Одновременным ударом группировок Волховского и Ленинградского фронтов предполагалось разгромить шлиссельбургско-синявинскую группировку противника и тем самым сломать кольцо блокады.
Основу Невской оперативной группы составляла 67-я армия генерала М. П. Духанова, навстречу ей с Волховского фронта должна была идти 2-я ударная армия генерала В. 3. Романовского, поддержанная силами 8-й армии, соединениями самолетов 13-й и 14-й воздушных армий и Балтийского флота. Готовилась сказать свое веское слово артиллерия Балтийского флота и Ладожской военной флотилии.
Выбор этого направления удара был сделан не только потому, что здесь кольцо противника было тоньше, чем на других участках. Еще учитывалось, что севернее Синявина, через торфяные болота, еще ни разу в ходе войны не велось серьезного наступления. Значит, сюда не было привлечено внимание противника. Внезапность удара могла бы перекрыть все трудности преодоления трясин, болот и мощной обороны врага.
На пути наших войск лежали болота, где до войны велись крупные торфяные разработки. Летом они были почти неодолимой преградой для военной техники. Зимой же по ним могла идти пехота со своим оружием и легкая артиллерия на лыжах.
Тяжелая техника, танки, пушки и автомашины могли двигаться по снежным дорогам только после усиления их подручными материалами.
Гитлеровское командование понимало серьезность положения своих войск на шлиссельбургско-синявинском выступе и с приближением зимы приложило все силы, чтобы сделать его неприступным. На выступе было построено множество инженерных оборонительных coоружений. Оборонительные позиции располагались в глубину несколькими линиями, весь район был покрыт сетью сильных узлов сопротивления и опорных пунктов.
Сентябрьские бои показали, что наши войска окреп* ли и способны взломать оборону. Это понимал и враг. Он заново перестраивал свои укрепления, создавая единый укрепленный оборонительный район. Только в одной роще Круглой свыше сотни пулеметных и орудийных стволов глядели в нашу сторону из амбразур блиндажей и дотов. Было построено два деревоземляных оборонительных вала. С наступлением холодов противник поливал их водой, превратив в ледяные. Гладкие и скользкие, они были серьезным препятствием для атакующей пехоты.
Ровное ледяное поле Певы шириною более полукилометра просматривалось и простреливалось с левого берега многослойным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Не подавив его, нечего было и думать о броске через реку. А левый берег насупил морщины траншей, ощерился стволами орудий, ощетинился рядами колючей проволоки. На его обрывистых склонах наращивался лед. Под снежным покровом затаились густые минные поля.
В центре выступа, на Синявинских высотах, сосредоточился мощный артиллерийский узел и находились резервы врага. Отсюда он мог в любом направлении обрушить град снарядов или бросить в контратаку резервы.
Несмотря на свою тупую педантичность, враг на шлиссельбургско-синявинском выступе создал такую плотность войск, какую не предусматривали его уставы и инструкции. На небольшой площади по ноздри вгрызлись в землю пять пехотных дивизий 18-й немецкой армии. В районе Мги стояла наготове резервная дивизия. Все части противника были полностью укомплектованы, хорошо вооружены и имели опыт наступательных
и оборонительных боев в лесисто-болотистой местности.
В течение почти двух месяцев к обеим сторонам шлиссельбургско-синявинского выступа стягивались силы Ленинградского и Волховского фронтов. Подвозили артиллерию, боеприпасы. С еще невиданной ранее нагрузкой работала ладожская трасса.
В ближайших тылах были выбраны участки местности, схожие с той, где придется наступать нашим войскам. Инженерные части по данным аэрофотосъемки точно воспроизвели укрепления врага, насыпали земляные валы, облили их водой, и бойцы 327-й стрелковой дивизии полковника Н. А. Полякова тренировались в преодолении препятствий.
Учились и тренировались все – от солдат до командиров соединений. Роты и батальоны первого броска через Неву с цирковой ловкостью должны были бежать по битому льду, преодолевать полыньи, взбираться на покрытые льдом берега, втаскивать на них орудия и минометы.
Командующие обоими фронтами встречались два раза в Ленинграде, чтобы согласовать, уточнить все варианты операции до мелочей.
Плыли низкие тучи над невскими берегами. Правый берег молчал, наращивая силы для удара.
Утро. Дымка. Сплошная облачность высотой две тысячи метров. Услышав звук моторов, мы изготовились для стрельбы. Знакомый звенящий вой приближался. Все ясно: летят два или несколько истребителей типа «Фокке-Вульф-190». Наводчик поворачивал на звук орудие. Вот из тучи вывалилась пара «фокке-вульфов» и бросилась в нашу сторону. Я немного ошибся в определении скорости, и наш снаряд разорвался между самолетами. Из первого самолета выпрыгнул летчик и повис под куполом парашюта, а брошенный им самолет улетел, не снижая скорости, и скрылся за горизонтом. Второй самолет описал круг над парашютистом, над нами, и мы увидели на его крыльях красные звезды. Но форма самолета, звук его мотора нам не были знакомы. И скорость... Он догонял «фоккера»!
Я хорошо знаю силуэты всех наших самолетов и лендлизовских «томагаука», «киттихаука», «мустанга», «спит-файера»... А этот откуда взялся? Мы давно привыкли отличать самолет по звуку и характеру полета, когда видишь в небе только точку, а не силуэт.
Немецкий летчик опустился в расположении наших войск.
Командир орудия Жихарев засуетился, сказал, что надо оформить акт на уничтожение вражеского самолета.
Я растерянно пожал плечами. Жихарев не унимался, доказывая, что мы стреляли, летчик выпрыгнул и попал в плен, а самолет наверняка разбился где-то вдребезги.
– Но разрыв снаряда был опаснее для нашего самолета, чем для того... Почему летчик выскочил, когда самолет не загорелся, а мотор работал исправно?
Жихарев вернулся часа через два и принес акт о том, что в результате стрельбы КОЗА летчик истребителя типа «Фокке-Вульф-190» фельдфебель Отто Штригель выбросился с парашютом и попал в плен. Оставленный самолет разбился. Акт был заверен печатью стрелкового полка. Все нормально. Мы открыли счет. Но как?
Этого фельдфебеля Жихарев не застал, его уже отправили в тыл. Штабисты сказали, что это щенок и сопляк. Машина у него новая. Где-то над Новгородом он встретился с нашим истребителем, и тот его гонял за тучами, пока Штригель не решил пробить облачность, чтобы их зенитчики огнем отсекли преследователя, но он просчитался и выскочил из тучи уже за Невой.
Штригель сам рассказал, что машину у него тряхнуло, раздался треск и он выбросился.
– Значит, мы попали в него! – радостно загудели орудийные номера.