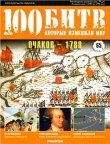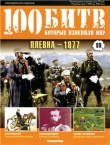Текст книги "После десятого класса"
Автор книги: Вадим Инфантьев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Итак, одно орудие разбито вдребезги, два выведены из строя, восемь убитых, двенадцать раненых. Вере Лагутиной работы по горло.
Потом я понял, почему нас раньше не разбили.
Для вражеского наблюдательного пункта на высотке мы находились в створе, то есть на одной линии с другой зенитной батареей, в километре от нас. Обычно по самолетам мы открывали огонь почти одновременно, и противник засекал нас как одну батарею. Получалась разница в засечках до километра. Противник, как положено в таких случаях, брал среднее арифметическое и лупил перелетами для нас и недолетами для той батареи. В этот день та батарея не стреляла, не могла достать, а мы свои пушки намазали маслом, и они ярко блестели. Противник понял, в чем дело, и, расправившись с нами, потом возьмется за ту батарею.
Этой же ночыо мы заняли новую огневую позицию, у подножия Пулковской высоты. Люди уже поняли, что значит окапываться и иметь траншеи, ходы сообщения, крепкие блиндажи. За двое суток мы ушли в землю на полный профиль.
Эта позиция оказалась по-настоящему хреновой, Огород раньше, что ли, был! Везде под дерном обнаруживались узловатые, крепкие корни хрена. Стосковавшись по всему острому и свежему, мы навалились на него и ели даже с чаем. Бекешев предложил поджаривать его на печке, пока он не потемнеет, тогда исчезает горечь.
И хотя нас уже кормили нормально, но некоторые еще не оправились от пережитого голода. Получив пол-котелка щей, они доливали кипятком котелок доверху, съев это, получали второе – кашу п тоже делали полный котелок болтушки. А трубочный четвертого орудия Полуянов однажды накрошил в котелок столько хрена, что ел, обливаясь потом и задыхаясь. Ему говорили: «Брось, давай мы с тобой поделимся...» Он же, осилив котелок, схватился за сердце, и его с остекленевшими глазами отправили в медсанбат.
Стало пригревать, и вся позиция заросла травой и пышными стеблями веселого буйного хрена.
Враг сделался осторожнее и хитрее. Все время, если ведешь огонь по группе бомбардировщиков, жди «рыбаков». Один или два самолета зайдут стороной за тучками, а потом бросаются на батарею. А батарея не может вести огонь одновременно по разным высотным целям. Отбиваемся одним или двумя орудиями наугад, как попало. Благо, что летчики у них стали не те. Попал под обстрел – и сразу начинает маневрировать. А раз так,– значит, промажет.
Я часто прихожу в орудийный котлован, сажусь на снарядный ящик и часами смотрю на пушку. Не могу понять почему, но испытываю какое-то беспокойство, вроде внутреннего зуда. Вот когда отсидишь ногу и встанешь, по ней начинают мурашки бегать, тянет что-то, ноет. У меня сейчас то же самое, но только где-то внутри – не то в душе, не то в голове... Сижу, смотрю на пушку и думаю-думаю, и сам не могу понять о чем.
А на южном склоне Пулковских высот, в разрушенной оранжерее, что находится на нейтральной полосе, вдруг расцвели цветы. Их раньше выхаживали под стеклами, удобряли и подкармливали. А война разнесла вдребезги стеклянные крыши, перепахала землю осколками. Потом навалилась злющая зима. И видимо, только назло войне, вопреки беде и лишениям, вдруг за бурьяном и чертополохом, посреди воронок и истлевших трупов, у ржавой перепутанной колючки оранжерейные цветы взяли и гордо подняли свои красивые головы. Над ними сверкают пулеметные трассы, стонет под ними земля, их качают ветры и взрывные волны...
Ребята с соседних полков и дивизионов стали лазать за ними, собирая букеты для девчонок из медсанбатов и телефонисток. Меня возмущала эта безрассудная, рискованная, никому не нужная романтика и сентиментальщина. Я возмущался долго, до тех пор, пока сам не полез на нейтральную полосу за цветами. Я почему-то решил, что если соберу букет, то найдется Ольга.
Было жарко. Пахло травой и цветами. Верещали кузнечики и выпрыгивали из травы под самым носом, И сколько в траве копошилось разных козявок, жучков и червячков!
Большой букет увядал в моей землянке, а Ольга не находилась. Тогда я полез во второй раз и набрал букет для Веры в память за подаренный пистолет.
Вера растерянно отшатнулась, взяла букет словно мину, понюхала, покраснела и призналась, что ей еще никто никогда не дарил цветы. Это правда. Когда мы росли, то почему-то считали мещанством одеваться по моде и дарить девушкам цветы.
Л сейчас считалось доблестью поднести цветы, добытые с нейтральной полосы. И я тоже еще раз за ними поползу – ни для кого, просто так, за цветами.
1»
Недавно командир батареи послал меня выбрать огневую позицию для стрельбы прямой наводкой из боевых порядков пехоты. Короче говоря, для стрельбы по танкам. И хотя на нашем участке фронта сравнительно тихо, противник, вероятно, что-то замышляет. Сейчас ему не до нас – он штурмует Севастополь, но командование наше, видимо, что-то чувствует. Везде строятся дополнительные оборонительные сооружения, запасные позиции, выкладываются новые полосы минных полей.
Я решил, что наиболее подходящее место – где Московское шоссе переваливает через высоту. Туда быстрее и легче подтащить паши неуклюжие пушки.
Шоссе из Ленинграда прямой стрелой упирается в Пулково, йотом делает поворот, идет на восток по склону горы и переваливает через ее гребень.
Я шел по шоссе вместе со случайным попутчиком, артиллерийским капитаном. У подножия горы стоял большой дзот. Земля вокруг него была черной, взбитой в пыль. Из дзота вылетало длинное рыжее пламя, и раскатывался выстрел. Видимо, стреляла 152-миллиметровая гаубица. Внезапно в небе послышался разноголосый вой, и вокруг дзота столбами вздыбилась земля. Снаряды рвались непрерывно, видимо, били целым дивизионом. Над дзотом поднялось огромное облако пыли, от каждого разрыва оно дергалось, как огромный занавес. А гаубица все стреляла и стреляла, редко и ритмично, словно по хронометру. С жужжанием разлетались осколки и взбивали пыль на шоссе. Мы с капитаном залезли в канаву и стали ждать. Такой огневой налет долго длиться не может. Сзади нас кто-то высоким дурашливым голосом выкрикивал при каждом взрыве снаряда:
– Вот болван! Вот болван! Ну, еще раз! Давай! Давай!
На шоссе, хлопая себя руками по бокам, подпрыгивал маленький боец с сумкой через плечо и автоматом на шее. Он походил на петуха, собирающегося взлететь и кукарекать.
– Чему обрадовался? – рявкнул на него капитан.
– Так зря же снаряды жжет. Все равно промажет.
– Почему промажет?
– Потому, что не попадет. Он уже седьмой месяц по этой пушке шпарит. А она знай себе постреливает. Из «берты» недавно швырялся, «юнкерсов» посылал. Все вокруг изрыто, а она себе бьет. У них даже повар от плеча до плеча в орденах, но с ними говорить трудно – они уже глухие, а бьют и бьют, а он мажет и мажет.
– Раз много стреляет, то, по теории вероятности, рано или поздно попадет,– вздохнул капитан.
– По теории – может быть, а в пушку – никак.
Капитан возмущенно фыркнул.
Вскоре огневой налет прекратился. Огромная туча пыли стала медленно оседать, расползаясь блином, вздрагивая от редких и ритмичных выстрелов гаубицы.
Я выбрал огневую позицию с широким сектором обстрела и удобными подъездными путями и к вечеру возвращался на свою батарею.
Садилось солнце. Долина под Пулковскими высотами покрылась низким легким туманом. Город в лучах солнца казался прозрачным, золотым, плывущим над землей и туманом.
Возле мясокомбината вело пристрелку одно тяжелое орудие. Мелькала вспышка, и по туману бежали радужные круги, как от камня, брошенного в спокойную воду. Когда радужная волна добегала до подножия горы, долетал звук выстрела. Потом снова вспышка и снова круги. Может, я единственный раз вижу, как распространяется и воздухе звук.
Пока я выбирал позицию, мне несколько раз пришлое!) прыгать в воронки и траншеи от обстрела. И вроде как сильно не ударялся, но, оказывается, сломал очки вместе с футляром. Я стал проситься в город, в гарнизонную поликлинику. И на следующий день поехал. Но как!
Пришла машина с продуктами. Политрук капитан Луконин велел шоферу задержаться, а мне приказал взять двадцать пять человек и отвезти их в тыл дивизии на лекцию. В это время появился комбат и приказал:
– Отставить!
Я стоял и ждал, а комбат и Луконин ругались между собой Одни приказывал мне взять людей и ехать, а другой отменял эго приказание. Шофер топтался возле землянки и ныл:
Ну скоро ли? Ну скоро ли?
Командировка и направление были у меня в кармане, в противогазной сумке сухой паек, а спор моего начальства устремлялся в бесконечность. Я вышел из землянки, сел в машину и сказал шоферу:
– Поехали.
На окраине города, включая третью скорость, шофер
заметил:
– Ну, держись, сейчас газанем, тут тихо ехать невозможно.– Он кивнул в сторону высокой кирпичной трубы: – Там крематорий устроили. Задохнуться можно. Господи, сколько народу померло!
Отчаянно дребезжа и подпрыгивая на выбоинах, машина рванулась вперед. Навстречу на самой полной скорости проносились машины. А пешеходы бежали зажимая носы.
Почти десять месяцев я не был в городе. А он живой и, несмотря ни на что, прекрасный. Необыкновенно чистые пустынные улицы, в них гулко раздаются шаги. Ярко-зеленая буйная трава лезет через трещины в асфальте, между булыжниками мостовой и из-под фундаментов зданий. Откуда люди взяли столько сил, чтоб очистить город ото льда и грязи весной? Очистить и не допустить заразы!
Левый карман гимнастерки я держу расстегнутым. Как только спросишь, где ближайшая трамвайная остановка, коротко бросают:
– Документы!
Навстречу попалась настоящая довоенная бабушка в платочке горошком и синей в полоску залатанной кофте. Маленькая, сморщенная, как сушеный опенок, с безразличным выражением лица, она не спеша семенила куда-то, как обычно ходят хозяйки на базар или в магазин. В одной руке она держала совок, а в другой ведро. В нем была зола и торчали фиолетовые от жары стабилизаторы двух потушенных термитных авиабомб.
Вокруг слышались обыденные разговоры: о хлебных карточках, о земельных участках для огородов, и, как до войны, люди порою переругивались между собой. Все встречные женщины походили на Ольгу. Я даже два или три раза догонял и каждый раз ошибался.
Я все-таки верю в вероятность невероятного случая и не удивлюсь, если встречу Ольгу на улице. Я в это поверил еще со школьных лет. Однажды на велосипеде я укатил за город в лес, километров за двадцать, и вдруг спустила передняя шина. Прокол! Наехал на шестеренку с осыо от карманных часов. Может быть, это была единственная деталь от часового механизма, валявшаяся па дороге, единственная на все леса Прикамья, и я все-таки на нее наехал.
Ведь никто сейчас не станет отрицать, что тяжелый снаряд противника, выпущенный по городу, может попасть точно в меня.
Так почему же за следующим поворотом я не могу встретить Ольгу?
Ждан» трамвая было долго, я шел пешком и радовался всему: уцелевшим домам и прохожим. Почти у всех женщин были большие и красивые глаза. Я два года прожил в Ленинграде и никогда не замечал, что у многих ленинградок большие глаза.
Устав, я присел на обломок гранита возле сквера. Сквер был отделен от улицы оградой из железных кроватей. Сверкали никелированные спинки и набалдашники, белели фарфоровые ролики, тускло поблескивала бронза.
Весь сквер, до последнего дециметра земли, был засажен картофелем. На его яркой зелени распускались маленькие белые цветы. Мне казалось, что я улавливаю их тонкий незнакомый аромат, хотя картофельные цветы, кажется, не пахнут, а я вот чувствую.
Почему ограды на всех огородах сделаны из кроватей? Откуда их столько взялось? Ух ты, о чем я думаю! Па этих кроватях совсем недавно спали люди. Дышали и видели сны. Проволочные сетки так и остались прогнутыми по форме их тел...
Вот если бы весной прошлого года засадили все парки и скверы картофелем, то много кроватей остались бы застеленными... Их це хватило бы на ограды, Что я думаю? Какая глупость! Весной прошлого года никто не думал о войне.
И чего я удивляюсь глазам женщин? Да, у них сейчас большие глаза. Ведь глаза-то не худеют.
Подошел моряк с нашивками на рукавах. Я в морских званиях не разбираюсь, но встал, отдал честь. Моряк сел рядом, снял фуражку, положил ее на колени и спросил:
– Махорки нет?
Я протянул пачку «Беломорканала». Он отмахнулся:
– Махорки бы...
Он достал свои папиросы. Некоторое время мы молча курили. Моряк о чем-то думал, выпуская длинной струйкой табачный дым. Потом, не глядя на меня, спросил:
– Что вы видели самое страшное, младший лейтенант?
Я пожал плечами, подумал и ответил:
– Зимой видел в дальномер, когда смотрел на город.
Моряк молчал, словно меня не слышал, потом произнес:
– Н-да... Я отступал от Либавы. Был в переходе Таллин—Ленинград. Видел, как погибали тысячами. Но самое страшное – это глаза голодных детей. В эту зиму райком попросил нас помочь устроить новогоднюю елку для ребятишек. Мы сделали, что могли. Была елка, лампочки на ней – аккумуляторы принесли. Пришли ребятишки. Мальчишки или девчонки, не разберешь – маленькие закутанные старички. Артисты простуженными голосами рассказывали им веселые сказки, песенки пели: «В лесу родилась елочка...» Ребятишки хлопали варежками и не спускали глаз с кока. Зря он тогда надел белый колпак. Куда ни пойдет, ребята пристально следят за ним не дыша и не мигая, словно боятся, что он исчезнет и не появится... Подали праздничный ужин: каша – смесь чего-то с чем-то... Горох, чечевица, овес... Кружка чаю и кусочек сахару. Смотрим, странно ведут себя ребята, что-то делают украдкой. Оказывается, все пришли на елку с баночками и склянками. Кашу сложили в них и спрятали за пазухой, сахар сунули в кармашки... Пили чай, обжигаясь и дуя на него так, что брызги летели в стороны... Глаза запавшие, голодные, а к каше не притронулись... Ведь у каждого дома младшие братишки или сестренки остались...—Моряк снова закурил и продолжал: – Неужели эта проклятая зима навсегда ранит их души? Сейчас я знакомую навестил. Сварщица с завода, до войны домохозяйкой была. Сын у нес лет шести. Он, наверно, домой с полтонны осколков натаскал. Причем только от вражеских снарядов. Он их хорошо различает. Мечтает, что вместе с мамой из них осколков большущий снаряд сварят и выстрелят и омич. Моряк вздохнул: – Сейчас настоящего голода уже нет. Я режу хлеб, а мальчишка нырнул под стол – упавшие крошки на ладошку собирает...
Около часа мы разговаривали с моряком, не спросив друг у друга фамилии. Потом я спохватился, что могу опоздать в поликлинику.
Я шел по городу, читал на стенах надписи о том, что при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, и завидовал тому, кто сбил десяток самолетов, потопил в море вражеский корабль, изобрел «катюшу», кто написал такие стихи:
Хочу, чтобы в Берлин вошла война,
Хочу, чтобы дрожал он ежечасно,
Хочу, чтобы любая сторона
При артобстреле в нем была опасна.
И гарнизонной поликлинике мне прописали очки, и в этот же день на Невском я их получил. Целый вечер и еще один день у меня оказались свободными. Я решил прежде всего выполнить просьбу моего помкомвзвода Шемякина.
После присвоения мне звания младшего лейтенанта на батарее открылась вакансия помкомвзвода, так как до этого я числился помкомвзвода и был врио командира огневого взвода. Вот и прислали нам старшего сержанта Шемякина. В прошлом он учитель, ленинградец. В ноябре сорок первого был тяжело ранен и вышел из госпиталя в феврале. Его семья эвакуировалась еще осенью вместе со школой, а мать отказалась уезжать.
В феврале па пути к новому месту службы Шемякин забежал к матери на Загородный проспект, но не мог достучаться ни в одну из квартир своего дома. Жильцы соседних домов ничего сообщить не могли, Шемякин сейчас попросил меня на всякий случай еще раз заглянуть на Загородный и выяснить, жива ли его мать.
В подъездах и на лестницах стоял нежилой запах плесени, сырости, старой известки. Дверь мне открыла старушка в потрепанном халате. Я спросил Анастасию Александровну Шемякину. Старушка отшатнулась и посмотрела на меня так, что я сразу выпалил:
– Он жив и здоров!
После этого она потащила меня в комнату, плакала, что-то лепетала, схватила щетку, стала подметать пол, потом зачем-то переставляла горшки с землей, из которых торчали засохшие прутики...
Наверно, если я уцелею и вернусь домой, моя мама так же вот будет плакать, суетиться и бессмысленно переставлять в комнате вещи.
До чего же ленинградцы гостеприимный народ!
Анастасия Александровна усадила меня за стол и начала угощать, отказываясь от моего пайка. Потом позвала соседок. Пришли две девушки, Зоя и Таня, у них нашлась выпивка «стенолаз» – смесь спирта с эфиром, а на закуску одна ржавая, усохшая килька. Мне совесть не позволяла притронуться к ней, и только по настоянию хозяйки я отрезал кончик хвоста и закусил им. Все мы быстро повеселели, и тогда Анастасия Александровна согласилась выставить на стол мой паек. Она из него приготовила что-то очень вкусное. Нашелся патефон, п мы забыли о войне и блокаде.
Зоя вдруг стала мять и рассматривать мои руки, удивляясь:
– Танька, тетя Настя, смотрите, какие у него мягкие руки, как у девушки!
Ладони девчат были покрыты желтыми, твердыми, как пятаки, мозолями. Конечно, мне, как командиру взвода, уже приходится меньше физически работать, чем подчиненным.
«Грубые солдатские ладони»,– пишут в стихах, а девчата говорят, как у девушки. Вот для кого надо вынести все цветы из оранжерей на нейтральной полосе!
Ночевал я в квартире Шемякиных на диване. Все увиденное за день вновь проходило передо мною. Я снова слышал голос моряка, сидевшего рядом на обломке гранита у ограды из кроватей возле сквера, засаженного картофелем.
Я словно видел, что рассказал моряк. Видел прибрежную гальку острова, к которому выплыл этот моряк. Его корабль с пассажирами был потоплен в двадцати милях от острова. Моряк выполз на берег, не в силах подняться. Он лежал, вздрагивая от озноба и усталости. Волны лизали его ноги. Потом моряк перевалился на спину и приподнял голову. За горизонтом вставали столбы дыма. Горели пароходы.
И вдруг из волн вышла женщина. На ее голове была армейская стальная каска. Женщина несла на руках девочку лет двенадцати, у нее было перекошенное судорогой, посиневшее лицо. Женщина со своей ношей рухнула рядом с моряком, сбросила каску. На ней были две свежие вмятины с трещинами.
Женщине и моряку еле хватило сил перевернуть девочку на живот, разжать ей зубы, выдавить из ее легких воду. Потом делали искусственное дыхание, пока у девочки не дрогнули ресницы...
– После этого я стал безудержно верить, что нас никому никогда не одолеть,– закончил свой рассказ моряк.
На следующий день я успел обежать много. И только в этот день увидел, как сильно изменился город, его улицы: израненные осколками дома, закопченные «буржуйками» фасады, груды кирпича или черные остовы разрушенных зданий, фанера, картон и тряпки вместо стекол.
Был на Малом проспекте Васильевского острова в общежитии Ольги. Теперь там госпиталь, и никто ничего не мог сказать о прежних обитателях. Потом купил несколько книг, прослушал концерт в Малом зале Филармонии и успел на фильм «Большой вальс». Он идет почти во всех кинотеатрах.
После совершенно незнакомой мирной жизни, штра-усовской музыки и красоты Милицы Корьюс на душе на миг стало удивительно легко, но потом еще больнее было смотреть на израненные дома.
Вернулся я на батарею поздно вечером и целый час рассказывал Ракитину о своих впечатлениях.
Утром, как всегда осмотрев орудия и боезапас, я вернулся в землянку и только тогда заметил на столе треугольник письма. Письмо было от Андрианова.
«Черти, если вы еще живы, то я буду приятно удивлен. Но больше всего удивляюсь, как я сам до сих пор цел. Тут потяжелее, чем у вас.
Вокруг ветер и мороз, аж стволы у пушек коробит. Сверху валится снег и бомбы. Под ногами лед, под ним – вода...»
Далее несколько строк были зачеркнуты цензорским карандашом. Но в общем-то все ясно. Сейчас Андрианов на берегу, на суше, где-то под Шлиссельбургом.
Прочитав это письмо, я обнаружил на столе второе, с маркой, в старом, довоенном конверте, написанное карандашом. Я побоялся узнать почерк.
«Мой милый, милый, милый!»
Буквы шатаются, спаливаются со строк. Но это ее почерк, Ляльки. Ольги!
*. .Может, как-нибудь сумеешь забежать к нам. Принеси хоть одну картошечку. Ее у вас в полях, говорят, еще можно найти под снегом...»
Под каким снегом?
«...Забеги просто так, на минутку. Кто знает, что с нами будет в наступающем году...»
Письмо было написано 28 декабря 1941 года. От конверта пахло плесенью, он был в рыжих пятнах. Более иолугода шло письмо через расстояние в шестнадцать с половиною километров по прямой. Конечно, не так. Недавно в «Ленинградской правде» сообщалось, что комсомолки – те дружинницы, что стояли под бомбами на крышах, вытаскивали раненых из-под обломков, тушили пожары, носили дрова и воду истощенным от голода людям,– эти девушки, среди них мои вчерашние знакомые Зоя и Таня, с твердыми мозолями на ладошках, решили перебрать, рассортировать и разослать собравшиеся за страшную зиму письма в почтовых отделениях, главпочтамте и почтовых ящиках. И вот письма ожили и пошли. И мертвые заговорили с мертвыми, живые с живыми, мертвые с живыми и живые с мертвыми.
Полгода назад Лялька дышала на эту бумагу, вырванную из школьной тетрадки. В какой-нибудь поре бумаги еще сохранилось тепло ее дыхания... Ей бы картошеччку...
Я сорвался с места и выскочил из землянки. Комбата не было, его вызвали на ДКП, я побежал к политруку:
Товарищ капитан, мне нужно срочно в город. Я девушку нашел.
– Знаю, что нашел, и не одну.
– Да нет, настоящую... свою...
– А те что, из папье-маше были?
И черт меня угораздил вчера хвастаться! Сидели с Ракитиным на бруствере командирского ровика рядом с землянкой политрука, и я плел черт знает что! Хорошее было настроение, и очень хотелось чем-нибудь похвастаться. Ну и сделал вольное изложение чуть ли не всего «Декамерона», благо, что Ракитин его не читал. А капитан Луконин сидел в своей землянке и все слышал.
– Товарищ капитан, Василий Кузьмич, ведь я же врал, трепался. Ведь ничего такого не было.
– А кто тебя тянул за язык?
– Ну вот же конверт. Ее новый адрес, о нем я не знал, тоже Васильевский остров, но только Пятая линия, и я вчера по ней проходил...
Долго меня отчитывал политрук. Я со всем согласился. Потом пришел комбат и тоже пилил меня, и наконец отпустили до ночи.
Как назло, не было попутных машин. Наконец взобрался в кузов какой-то полудохлой полуторки. При въезде в город мотор у нее безнадежно скис.
...В большой мрачной комнате с обвалившейся на потолке штукатуркой стояли пустые железные койки, валялось какое-то тряпье. Не то женщина, не то старуха (вся в черном, плоская, она была словно тень на стене) вспомнила Ольгу... Вспомнила. Ее в марте эвакуировали на Большую землю, но куда – никто не знает.
Брел обратно по темным улицам, меня останавливали патрули, проверяли документы и говорили:
– Идите.
Обратно на позицию я вернулся пешком. Не хотелось ехать ни на трамвае, ни просить подвезти шоферов.
Теперь никуда с позиции уходить не хочется. По душе ползает большой черный червяк.
Когда расчеты засыпают в своих землянках, я прихожу в орудийный котлован, сажусь на снарядный ящик и смотрю на пушку. Червяк начинает шевелиться все медленнее и медленнее, замирает на время, и какие-то другие томительные мысли, сумбурные и неясные, заполняют голову.
ОПЕРАЦИЯ „КОЗА"
1
Более трех месяцев не прикасался к бумаге. Что записывать? Для чего записывать? Кому это нужно? Ну, а потом события развернулись так, хоть роман пиши.
Интересно, как рождается человеческая мысль? Из чего она возникает? Почему много людей, допустим, думают об одном и том же, а додумывается только один?
Сколько ломал голову над тем, как приспособить нашу пушку для стрельбы по высотным самолетам самостоятельно, без ПУАЗО! Никак не выходило.
Иногда, перед тем как заснуть, вдруг в голове проскакивала мысль и исчезала, даже ахнуть не успеешь. Несколько раз она становилась вроде как яснее, и я думал, с утра займусь... А утром голова оказывалась пустой, как стреляная гильза. Конечно, хранить мысль в уме – это все равно что держать в пригоршне дым. В изголовье у меня полевая сумка, там карандаш и бума га.
Однажды ночью проснулся от мысли, что задачку можно решить. Словно искра в голове затлела. Лежал затаив дыхание, следил за огоньком, боясь шевельнуться и задуть ненароком. Вскочил. Черт подери! Ведь конструкция прицела нашей пушки позволяет превратить его в прибор, вырабатывающий хотя бы приближенные данные для стрельбы по высотному самолету самостоятельно, автономно! Тогда батарея сможет защищать се-
бя от налета одиночных самолетов одним орудием, ведя остальными огонь по главной цели.
С утра обложился инструкциями, баллистическими таблицами, чертежами и стал проверять, правильно думаю или нет. Потом пошел на орудие и на месте прикинул еще раз. Все должно получиться. Конечно, лучше бы переделать прицел, но этого никто не позволит. Да и потом, вся соль в том, чтобы, ничего не переделывая, дать возможность отдельным орудиям вести самостоятельный огонь по высотным целям.
Мужик что бык —
Втемяшится в башку какая блажь,
Колом ее оттудова Не вышибешь никак.
...Рвались на позиции снаряды. Мы палили по бомбардировщикам и истребителям, они швырялись в нас бомбами и прочесывали из пушек и пулеметов. Я метался по позиции, выполнял свои обязанности, а голова была занята только мыслями о прицеле.
Комбат объявил мне выговор за плохое содержание матчасти. Он в стволе четвертого орудия обнаружил грязь и приказал командиру его пропыжевать.
О моей идее он знал, но отнесся к ней недоверчиво и посоветовал написать в артуправление. А я ответил, что сначала все нужно проверить самим на практике. Он сказал, что никаких самовольных изменений в орудийном прицеле не допустит. Я его успокоил, заявив, что изменений не будет, а только дополнения, ничем не влияющие на техническое состояние и работоспособность прицела.
До глубокой ночи я сидел в своей землянке, вырезая ножницами из дюраля кассеты, куда должны вставляться графики и таблицы, по которым орудийный расчет мог непрерывно получать исходные данные для стрельбы по высотному самолету.
Хорошо, что невдалеке от нас грохнулся «Мессер-шмитт-110», и дюраля у меня было сколько угодно.
Сидел, работал, забыл обо всем. В открытую дверь землянки доносились дружное кряхтенье и гулкие удары. Это расчет четвертого орудия длинным шестом пробивал через весь ствол пыж – деревянный чурбак, обмотанный тряпками. Прогонять пыж нужно несколько раз. После такой работы с непривычки у орудийных номеров распухают кисти рук.
Увлеченный своей работой, я не обратил внимания па то, что уж слишком долго пыжуют ствол. Взглянул на часы – был первый час ночи. Потушил коптилку и вытянулся на нарах, все думая о прицеле...
Возле землянки послышались шаги, тяжелый вздох, и кто-то постучал в дверь. Вошел командир четвертого орудия младший сержант Кононов и произнес мрачным голосом:
– Товарищ младший лейтенант... я орудие заклинил.
Я сел, потряс головой, ничего не понимая. Зажег коптилку. Кононов стоял передо мною опустив плечи, и губы его вздрагивали.
– Как заклинил?
Оказывается, комбат им приказал пропыжевать ствол. Пыжа не было. Решили изготовить сами. Срубили недалеко от позиции сухую яблоню, выстрогали из нее чурбак и сделали его точно по калибру орудия, обмотали тряпками и засунули в ствол. По патроннику пыж прошел легко, а как влез в нарезы канала ствола заклинился намертво. Во-первых, яблоня – дерево твердое и плохо сжимается, во-вторых, диаметр пыжа должен быть меньше калибра ствола. Вымотавшись до изнеможения, расчет решил выбить пыж обратно с дульной части. От сильных ударов конец шеста раскололся. Тогда расчет из той же яблони вырезал длинный чурбак и погнал его с дула в ствол, чтобы с его по-мо!дью выколотить пыж. Когда чурбак уперся в пыж, шест сломался. Запасных шестов не было. Орудие оказалось выведенным из строя, и Кононов понимал, чем это пахнет.
Я долго ругал его за то, что не посоветовался ни со мной, ни с более опытными командирами орудий. Он стоял опустив руки, со всем соглашался и думал, наверно, о другом.
Я тоже кое-чему в жизни уже научился и тоже задумался. По долгу службы я сейчас об этом должен доложить командиру батареи. Из деревьев, растущих на Пулковской высоте, нормальный шест не сделать: они кривые и все покалечены осколками. Придет рассвет, полетят самолеты, а орудие небоеспособно. И если раздуть это дело, многих по головке не погладят.
Я решил вышибить этот кляп выстрелом. Заложить холостой патрон и долбануть.
– Разорвет пушку,– пробормотал Кононов.
– Ничего. На снаряде два медных ведущих пояска врезаются в нарезы, и вес больше, чем у твоих чурбаков.
Пришли к орудию, расчет загнали в землянку, вытащили из патрона снаряд, подняли ствол повыше и выстрелили.
Отродясь такой вспышки не видел. Это тряпки, пропитанные маслом, и щепки горели.
Выскочил комбат в одной рубахе, я доложил, в чем дело. Он ругался недолго, видимо, здорово спать хотел.
Целый день, с утра до вечера, я монтировал прицел на четвертом орудии. Командир батареи ходил по позиции и неодобрительно посматривал на меня. Капитан Луконин долго расспрашивал, не испорчу ли я пушку* Я объяснил, что никакой порчи не будет и что это обыкновенная рационализация, к которой призывают во всех газетах.
Со следующего утра я стал обучать расчет стрельбе с этим прицелом. Ребята толковые, все быстро поняли, но тренироваться пришлось весь день. Номера, работающие на прицеле, должны были действовать и быстро и плавно, так как в результате их работы поворачивалась прицельная труба, а при резких поворотах ее наводчик терял цель.
На закате в небе появился «Мессершмитт-109».
В целях экономии боеприпасов решение на открытие огня по одиночным самолетам, летящим вдоль фронта и не прорывающимся к городу, отдавалось на усмотрение комахчдиров батарей: можно было стрелять, можно и пропустить, смотря по обстоятельствам.
Командир батареи сидел на горбу своей землянки и грыз травинку. Заметив самолет, он мне крикнул:
– Ну-ка, стукни по нему раза три! Посмотрим, как получается.
Я подал команду. Расчет засуетился. Ствол орудия поднялся к небу и плавно пошел следить за самолетом. Грянул выстрел, второй, третий. Возле «мессершмитта» один за другим появились черные клочья разрывов, и он изменил курс. А это значит, что снаряды разорвались недалеко от самолета и летчик испугался.
Было довольно прохладно, а я вспотел, аж гимнастерка прилипла к спине. Получилось! Получилось то, о чем думал и представлял только в мыслях!