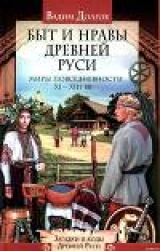
Текст книги "Быт и нравы Древней Руси"
Автор книги: Вадим Долгов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Результаты этого противостояния к XIII в. были совершенно различны. В Западной Европе при содействии католического духовенства набирает силу панический страх, вылившийся со временем в многочисленные судебные процессы, завершавшиеся смертными казнями. Образованные клирики подливали масла в огонь, распаляя и расцвечивая фантазию простецов. На Руси – наоборот – церковь в лице Серапиона продолжает борьбу с народным суеверием при помощи скептического слова. Официальная позиция католической церкви заключалась в том, что ведьмы и колдовство существуют и нуждаются в искоренении, а русское православное духовенство пыталось убедить паству, что волхвов (или, точнее, волхвования) не бывает, а так называемые волхвы – просто обманщики. Да и в более поздние времена различие между православным Востоком и католическим Западом оставалось весьма существенным. По мнению американского историка Р Згуты, России удалось избежать такого размаха «охоты на ведьм», как в Западной Европе, потому что процессы в России возбуждали и вели в большинстве случаев светские, а не церковные власти.
В следующей проповеди митрополит снова сокрушается о населении, которое упорно отказывалось усвоить, что люди не властны над дождем или теплом. Правда, на сей раз, согласно «Слову блаженного Серапиона о маловерье», расправы над неповинными были направлены уже не против мнимых волхвов, а напротив, совершались по их наущению – народ «пожигал огнемъ» тех, на кого, надо полагать, они указывали. Возможно, о подобном событии рассказывает летописная статья о появлении двух волхвов в Ростовской земле. Кудесники во время голода и неурожая ходили по погостам и говорили о лучших женах, что они «обилье держат». В стремлении избавиться от общей беды люди приводили к ним своих сестер, матерей и жен. Волхвы «прорезавшее за плечемь въиимаста любо жито, любо рыбу, и убивашета многы жены». Так было истреблено немало человек. Деятельность волхвов усугубляла нестабильность, возникшую вследствие голода. Поэтому борьба с волхвами и чародеями превратилась в одну из главных забот государственной власти.
Особенность борьбы против волхвов заключалась в том, что для достижения успеха в ней одних репрессивных акций было недостаточно, необходима была прежде всего идейная победа. Для этого использовались различные методы.
Как было сказано, русская церковь оперировала словом. Бороться приходилось не только с верой народа в магические силы колдунов и ведьм, но и с самими «колдунами» и «ведьмами», когда они начинали проявлять особенную активность. В критической ситуации в дело вступали светские власти. Как ни покажется странным, но на Руси (в отличие от Западной Европы) именно светская власть оказывается в авангарде борьбы против носителей «магической силы». Причину этого можно предполагать в особом отношении к силе и власти, которые в глазах всего населения были окружены ореолом священности. Как показывает имеющийся материал, выступления волхвов, как правило, сопровождались народными волнениями, и, следовательно, спор о вере автоматически превращался в спор о господстве. Логические построения, которыми древнерусские летописцы и проповедники обличали в действиях чародеев козни дьявола, вряд ли могли убедить, например, новгородцев, собравшихся по наущению некоего волхва в 1071 г. «побити» епископа Федора. Колдун обещал перейти пред всеми людьми по воде реку Волхов. По-видимому, это произвело впечатление. Он «много прельсти, мало не всего града». И только вероломный на первый взгляд поступок князя Глеба, ударившего названного волхва топором в самый разгар «дискуссии», возымел действие – «людье разидошеся». Сходным образом решилось дело и в Ростовской земле: Ян Вышатич, воевода князя Святослава Ярославича, повелел «бити» волхвов и вырывать у них бороды. Подобные «непарламентские» способы борьбы против языческих лидеров на практике были наиболее действенны, так как с идейных позиций самих же язычников физическое поражение являлось ярким свидетельством их неправоты.
С менее влиятельными колдунами общинники, у которых возникали сомнения в отношении благотворности их магической деятельности, «разбирались» своими силами. Весьма распространенным, по-видимому, был обычай испытания водой – один из способов борьбы населения против вредоносной магии. Подозреваемого в колдовстве бросали в воду, «аще утопати начнеть, неповинна есть; аще ли попловеть – волховъ есть». Интересно, что Серапион Владимирский, сообщающий об этом обычае, подвергает его резкой критике, видя в таком способе борьбы то же дьявольское искушение. Сам он считает, что если уж и казнить волшебника, то исключительно по показаниям надежных свидетелей. Ибо дьявол легко может «подержати» обвиняемого – и тот не погрузится. Таким образом, может пострадать невиновный. Метод испытания ведьм водой был широко известен среди разных индоевропейских народов: англичан, германцев и индийцев. Вода «не принимала» виновного в колдовстве.
Вообще отношение к колдунам и волшебникам на Руси в сравнении с Западной Европой может быть определено как сравнительно мягкое. Так, Устав Ярослава, составленный князем совместно с митрополитом, в случае если женщина окажется «чародейница, наузница, или волхва, или зелейница», не предусматривает для нее никакого наказания, ни штрафа, а отдает право «казнить» ее мужу, дополнительно оговаривая, что колдовство – не повод для развода. В таких щадящих условиях мелкое колдовство продолжало практиковаться и в более поздние времена. Может быть, именно поэтому вопросы о хождении к «волхвам» в русских уставах исповеди сохраняются на протяжении столетий и встречаются как в древних рукописях XV в., так и в печатных изданиях XVIII в. Причем, судя по тем же пенитенциалиям, колдовством занимались в основном женщины («бабы богомерзкия»).
Княжеские уставы и перечни покаянных вопросов дают основание думать, что в той или иной степени колдовством могли заниматься почти все. Существовал некий набор несложных магических средств, воспользоваться которыми мог любой желающий, если в этом возникала необходимость, превышающая страх церковного наказания. Так, наиболее древний из опубликованных А. Алмазовым вопросников, помещенный в пергаментной рукописи XIV в., среди пунктов, посвященных половым девиациям, содержатся несколько описаний несомненно магических действ. Вопросы адресованы «женамъ». «Ложе детиное или скверны семенъныя ци окушала? Или снела будешь ложе свое? Мужа от жены ци отмолвила еси, или жену от мужа?» Не вполне понятно, для чего женщина могла есть свое или «детиное» «ложе» или семя, но в целом не вызывает сомнения, что в данном случае мы имеем дело именно с колдовством, а не сексуальной невоздержанностью. Это были формы «зелейничества» – использования магических снадобий (в данном случае принимаемых внутрь) для достижения каких-то неблаговидных целей, о которых источник умалчивает. Словесные колдовские формулы шли в дело при «отговоре» жены от мужа или мужа от жены. Подобного рода «заговоры» или «заклинания» известны и по этнографическим материалам.
Вообще женщина согласно древнерусским источникам обращалась к волхвованию («вещьству», в терминологии некоторых вопросников) в трех случаях. Во-первых, для предотвращения или избавления от последствий нежелательной беременности (упоминание об использовании «зелья» с этой целью часто встречается в рассматриваемых перечнях). Во-вторых, для сохранения или поправки здоровья (своего и ребенка). И наконец, в-третьих, нередко, очевидно, практиковалась любовная магия. Описание незамысловатого обряда находим мы в рукописи XV в. «Или мывшиси молоком или медом давала пити милости деля?» Возможно, что и неясные действия, описанные в тексте XIV в., имеют то же назначение.
Согласно «Слову святого Георгия изобретено в толцехъ его, о томъ како первое погани сущее языци кланялися идоломъ, и тербы имъ клали иже ныне то творять» какое-то простенькое домашнее колдовство совершалось во время гигиенических процедур: «ногти обрезавшее кладуть и за налра мецають, а ножнии на голову», и по ходу приготовления пищи: «пиво варящее соль сыплють в кадь, и уголь мечють, забывшее Бога, створившаго небо и землю», «ножемъ крестять хлебъ, а пиво крестять чашею, и а иным чимъ».
Набор заклятий, бытовавший в простонародной среде в XIX–XX вв., еще более обширен. Они широко использовались не только в народной медицине («С гуся вода, с тебя худоба»), но и в ходе сельскохозяйственных работ («Уродись, пшеничка, горох, чечевичка», «Ей, туча, ей – не иди на косарей»). Вероятно, многие из «заговоров» и «заклятий» были сохранены традиционной культурой с очень древних времен.
Такое «домашнее» колдовство, конечно, тоже не одобрялось церковью. Но ни о каких жестоких преследованиях не было речи. Например, в наказание за описанный выше способ достижения «милости» полагалось пять недель поста, и только. Несколько более серьезное наказание за ношение «наузов» – двухлетний пост. Но и такая мера может считаться достаточно легкой по сравнению со сжиганием на костре, широко практиковавшимся в Западной Европе периода «охоты на ведьм». Сам факт, что вопросы о волхвовании содержатся в исповедальных уставах, предполагает такое положение, когда человек, втайне занимавшийся магическими манипуляциями, мог вдруг раскаяться, захотеть очистить совесть и, выполнив церковное наказание, привести свой моральный облик к установленному образцу. Значит, ничем особенно страшным признание в колдовстве не грозило. И это понятно. Церковь была заинтересована в возвращении такой «заблудшей овцы» в ряды организованной паствы, тем более что особенной опасности такие самодеятельные маги не представляли. Не было, следовательно, необходимости в суровых мерах, которые неизменно использовались против волхвов более серьезного уровня.
«Помолися к Богу и, выня мечь свои…» «волшебные» предметы. Важной и характерной чертой средневековой религиозности было широкое распространение веры в магические свойства материальных предметов. Как и вера в колдовство, это явление досталось в наследство Средневековью от эпохи более ранней. Истоки его лежат в первобытном фетишизме, который получил распространение во всех религиозных системах по всему миру. Не были исключением и древние славяне. Они поклонялись камням необычной формы, рекам, озерам, колодцам, рощам и отдельным деревьям. Археологическим подтверждением фетишизма у восточных славян является знаменитая находка дуба, который в древности стоял на берегу Днепра, но где-то в середине VIII в. в результате подмыва упал в реку, погрузился в ил и был найден в ходе строительства Днепрогэса. В стволе дуба оказались вбитыми кабаньи клыки. Дуб с клыками, несомненно, – объект культа. Таким образом, дерево было священным предметом, служившим, быть может, атрибутом бога-громовержца Перуна, связь которого с дубовыми рощами прослеживается по разным источникам.
С принятием христианства древние формы почитания предметов ушли в прошлое, оставив, однако, немало следов в религиозной сфере населения средневековой Руси. Проявлялось это и в некоторых формах православного культа (где элементы фетишизма существовали изначально), и в особенностях религиозной психологии. Если современный человек понимает святость и священную силу прежде всего как абстрактное морально-религиозное состояние, то сознанию человека эпохи раннего Средневековья необходимо было облечь сакральную энергию в зримые формы, которые бы дали возможность оперировать ею в повседневной жизни, как любой другой ценностью.
Поэтому мир человека Древней Руси был наполнен «волшебными» предметами разного назначения и разной «мощности». Эти вещи служили своего рода аккумуляторами магической силы. Очевидно, что представление о магических орудиях было продолжением представлений об орудиях и оружии обыкновенном. Разница была лишь в том, что «обыкновенные» орудия давали дополнительные средства для достижения целей в мире профанном, а «волшебные» – в тех сверхъестественных сферах, которые, пронизывая жизненное пространство, незримо влияют на жизнь человека. Часто «волшебная» составляющая дополняла прагматическую. Таково, например, было «волшебное» оружие. Магия в древности, в том числе и у славян, была орудием ведения боевых действий ничуть не менее важным, чем «настоящее» оружие.

Древнерусские мечи
Наиболее известным на Руси мечом в христианскую эпоху стал меч св. Бориса. Владельцем его был князь Андрей Боголюбский. Летописное описание сцены убийства князя в 1175 г. показывает, что он держал его всегда при себе не просто как реликвию, но как настоящее оружие. Ключник Анбал позаботился, чтобы в решающий момент меча под рукой Андрея не оказалось, вытащил его, и князю нечем было обороняться. «То бо мечь бяше святаго Бориса», – специально уточняет летописец.
Магическая сила оружия «включалась» в трудные моменты битвы. В летописи под 1149 г. содержится рассказ о том, как тот же Андрей в ходе сражения под Лучском оказался «обиступлен» врагами и вынужден был уходить от погони на раненом коне. Когда казалось, что гибель неминуема, князь Андрей производит следующие действия: он «помолися к Богу и, выня мечь свои, призва на помочь собе святаго мученика Феодора». В результате все закончилось благополучно. Обращение к Богу за защитой в описанной ситуации понятно. Призвание св. Феодора далее объяснено летописцем: «…бысь бо и память святаго мученика Феодора во тъ день». Но зачем князь вынул меч? Из текста следует, что возможности фехтовать в описываемый момент Андрей был лишен – речь шла о том, чтобы как можно быстрее достичь «своих». Конструкция фразы наталкивает на мысль, что обнажение меча было не только жестом устрашения и демонстрации боевого духа, но и магическим актом, поскольку оно было поставлено летописцем между обращением к Богу и к св. Феодору. Возможно, уже тогда Андрей был владельцем меча св. Бориса. После смерти Андрея меч хранился в одной из церквей г. Владимира.
В Древней Руси сложился культ княжеских мечей. Причем совсем не обязательно первый прославленный владелец должен был быть святым. В Троицком соборе Пскова хранились и дошли до наших дней мечи псковских князей Всеволода Мстиславича и Довмонта. По мнению А.Н. Кирпичникова, «меч Всеволода», скорее всего, более поздний. Он заменил собой меч XII в., который был установлен в 1137 г. над могилой Всеволода: «поставиша над ним его меч, иже и доныне стоит, видим всеми». «Меч Довмонта» гораздо более похож на настоящее оружие XIII в. Об этом свидетельствуют элементы оформления и наличие подтверждающего иконографического материала. Возможно, что именно этим мечом священнослужители Пскова опоясывали князя перед походом на немцев, а позднее горожане символически вручали князьям при посажении на псковский престол.
Понятно, что оружие православного святого сменило в качестве «магического» мечи древних языческих вождей, почитание которых не могло сохраниться в христианскую эпоху. Да и в христианской оболочке идея «волшебного» оружия не могла не казаться несколько подозрительной православному монаху-летописцу. Меч как образ и христианский символ используется летописцем довольно часто. Стереотипны фразы о том, что князь «не туне мечь носить», «мечь прещенье и опасенье… пасти люди своя от противныхъ». Но вот о культе конкретных клинков в аутентичных древнерусских источниках домонгольской поры говорится немного. В то же время фольклорные источники дают богатый материал по волшебному оружию: «меч-кладенец» служит постоянным помощником герою в сражении со злыми силами. Вероятно, почитание мечей после крещения Руси продолжало существовать преимущественно в неофициальной культуре, проникая на страницы летописи лишь изредка (подобно другим пережиткам языческого наследия, таким как «постриги», обряд посажения на коня, о которых шла речь в 1-й главе).
Наиболее яркое описание «волшебного» меча в древнерусских письменных источниках относится к XV в. Оно содержится в «Житии Петра и Февронии Муромских». Однако не вызывает сомнения, что змееборческий сюжет, помещенный книжником в начало произведения, является записью древней муромской легенды, восходящей ко временам гораздо более ранним. Об этом свидетельствуют и общая фольклорная стилистика фрагмента о победе князя Петра над Змеем, и некоторые детали, позволяющие исследователям отнести исторический пласт этого необычного для агиографической литературы XV в. произведения к концу XII – началу XIII в. Только тесное переплетение народно-языческих и христианских мотивов в «Житии» сделало возможным проникновение интересующего нас сказания в книжную культуру.
К жене муромского князя Павла стал летать Змей «на блуд». Однако жена, которую Змей взял силой, все рассказала мужу и вызнала, что смерть Змею предначертана «от Петрова плеча, от Агрикова меча». Петра нашли довольно быстро – так звали младшего брата муромского князя, и тот «нача мыслите не сумняся мужествене, како бы убита Змиа». Но неизвестно было – что это за Агриков меч и откуда его взять. Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквям. И вот зашел как-то Петр в Воздвиженскую церковь, стоявшую в женском монастыре за городом, для того чтобы помолиться в одиночестве. И тут явился ему отрок и произнес: «Княже! Хощеши ли, да покажу та Агриков мечь?» Князь, конечно, выразил согласие. «Иди вслед мене», – сказал отрок и показал князю щель между плитами, а в ней – меч.
Когда настал момент битвы, от удара волшебным мечом Змей потерял ложный облик, принял свой настоящий вид, «и нача трепетатися, и бысть мертвъ». Волшебное оружие было употреблено против волшебного же врага. Оно было дано князю в нужный момент для борьбы с воплощением мирового зла, стало орудием справедливости. Такое же отношение к оружию как к хранителю правды и справедливости встречаем мы и в дохристианскую эпоху.
Причем следует иметь в виду, что часто меч выступал не просто инструментом в справедливых руках, а сам был камертоном и защитником справедливости. В «Житии» ничего не говорится о боевых навыках Петра. Меч без усилий со стороны Петра оказывается у него и сам, по сути, с одного удара разит Змея. В языческой картине мира оружие воспринималось как самостоятельная личность, обладающая в какой-то мере сознанием и волей. «Пищей» меча была живая человеческая плоть (см. у Серапиона Владимирского: «святители мечу во ядь быша»). Заключая договор с греками, русы при Олеге клянутся оружием. В договоре Игоря клятва расшифровывается и дается в пространном варианте: «Да не ущитятся щиты своими, и да посечени будуть мечи своими, от стрел и от иного оружья своего». Таким образом, оружие мыслилось способным самостоятельно отслеживать честность своего владельца и наказывать его в случае нарушения данного слова. Сходный мотив видим мы и в «Повести о Вавилоне-граде» – произведении, в котором византийская основа подверглась существенной переработке на Руси. Аналогом «Агрикова меча» там выступает меч-оборотень «Аспид-змей», оружие, которое само бьет врагов, главное – удержать его в руках. Сын вавилонского царя Навуходоносора Василий нарушает отцовский запрет и берет в руки заповедное оружие. Вырвавшись из нетвердой руки, меч бьет не только врагов, но и самих вавилонян. «Аспид-змей», как и Агриков меч, хранится замурованным в стене храма.
Магические свойства оружию приписывали и скандинавы, с которыми Русь была связана многочисленными контактами, особенно частыми в военно-дружинной среде. Так, например, «Сага о Хальвдане Эйстейнссоне» повествует, как главный герой, уходя от вылечившей его старухи Аргхюрны, получает от нее в подарок меч: «Старуха сказала ему много добрых слов, а затем достала из-под изголовья завернутый в тряпку сверток. Она вынула оттуда меч, сияющий как зеркало; показалось ему, что яд капал с его лезвия. Она сказала ему, что тот, кто этот меч носит, всегда побеждает, если только правильно нанести удар». Приведенный отрывок очень важен для того, чтобы понять, как в сознании средневекового европейца (в данном случае скандинава) могли уживаться повседневный жизненный практицизм и вера в магию. Оказывается, победоносные свойства оружия срабатывают только в том случае, если «правильно нанести удар». В такой формулировке магическому реноме оружия ничего не грозит при любом исходе битвы – неудачу всегда можно списать на «неправильный удар».
Материальной основой для того, чтобы развилось представление о сверхъестественных свойствах оружия, становилось наличие у него вполне естественных, но превышающих обычные свойств. «Сияющий как зеркало» меч мог быть изготовлен из высококачественной стали, и по этой причине его владелец имел, конечно, значительное преимущество перед обладателем среднестатистического клинка. В саге мы видим начальную стадию развития веры в особенные магические качества меча.
В русских сказках герой находит магическое оружие, как правило, в глубоких подвалах или пещерах, вход в которые бывает завален валуном. В «Сказании о Еруслане Лазаревиче», произведении XVII в., в котором восточное сказание о персидском богатыре Рустеме было переработано в духе русского былинного эпоса, главный герой находит волшебный клинок под головой богатыря. Богатырь мертв, лежит среди побитой рати, на поле боя, «а тело его, что силная гора, и глава его, что силная бугра», но голова его, к удивлению Еруслана, разговаривает. Он узнает, что под ней сокрыт меч, и просит: «О государыни богатырская голова! Надеючись на твое великое жалованье и милосердие: хотела ты изъ подъ себя мечь свободить мне, и язъ передъ царемъ похвалился, и царь мне такъ сказалъ: толко де Еруслонъ не добудешь того меча, и ты де у меня не можешь нигде укрыться и утьти, ни водою, ни землею… О государыни богатырская голова! Не дай напрасной смерти, дай животъ!» Голова сдвигается – Еруслан получает меч. Вряд ли можно считать слишком произвольным напрашивающееся предположение, что исторической основой данных сказочных пассажей стали случаи извлечения оружия из могильных курганов, воздвигнутых в эпоху раннего Средневековья. Возможна также трактовка часто встречающихся сюжетов об извлечении меча из камня (Пелей, Тесей, король Артур) или из дерева (Один бросает меч в дуб, откуда его может извлечь только Зигмунд), из-под воды, как выражения медиативной мифологической функции меча – связующего звена между разными мирами. В любом случае, «возвращение» меча из «загробного мира» способствовало установлению сакрального ореола, который подкреплялся еще и тем, что в захоронениях могли встречаться высококачественные клинки древних вождей, превосходящие качеством выделки обычное вооружение позднего времени.
Если считать, что сказки и былины хотя бы частично доносят до нас остатки мифологического сознания первых веков существования восточнославянских этнополитических общностей (племен, а затем городов-государств), то, значит, в качестве наделенного магическими свойствами боевого инвентаря могли восприниматься и шлемы (былинный «колпак земли греческой»), и копья («копье бурзамецкое» – наиболее часто встречающееся оружие богатыря), и конская сбруя. Следует, однако, отметить, что, несмотря на существование в системе древнерусской литературы и восточнославянского фольклора и других символов воинской доблести, войны и сражений (не менее часто упоминаются в этом контексте копья и сабли), шлейф отчетливо сохранившихся представлений о сверхъестественных свойствах тянется именно за мечом. Так, например, в уже упомянутой «Повести о Еруслане Лазаревиче» в обычный набор богатырского вооружения входят копье, сабля и лук. С обыкновенным человеком «князем Иваном, русским богатырем» Еруслан бьется при помощи копья или сабли (именно «саблей булатной» Еруслан хотел зарубить Ивана, когда нашел его спящим в шатре). Меч появляется только тогда, когда возникла необходимость убить «вольного царя Огненного щита, Пламенное копье». В образе «царя» видятся черты солярного бога, убить его обыкновенным оружием нельзя – он «в огне не горит, в воде не тонет» и боится только меча, хранящегося под богатырской головой. Причем, даже и обладая мечом, достичь цели не просто: «Не всемъ ты завладеешь, что мечь взялъ: можешь и съ мечемъ бытии мертвъ», – говорит богатырская голова Еруслану. Мечом можно ударить только один раз, если ударить повторно, поверженный противник снова оживет.
Меч-самосек фигурирует в древнерусских заговорах против оружия. Одна из древнейших рукописей, в которой сохранились записи заговоров, – Великоустюжский сборник начала XVII в. В заговорах, вошедших в сборник, меч-самосек – принадлежность «святаго царя небеснаго». Особый магический характер меча ярко проявляется в том, что человек, произносящий заговор и заклинающий «против всяких ратных людей, и против их ратнево воинского ратнего (так в рукописи) оружия», напротив, призывает на себя смерть от меча-самосека. «У святаго царя небеснаго есть мечь – самосек. Когда те злы люди супостаты тот мечь достанут, тогда меня, раба Божия имярек, убеть. Тому мечю от царя небесна не отхаживати, а меня, раба Божия имярек, не убивывати». То есть меч этот мыслится как оружие, которое в принципе никогда не покидает своего хозяина (небесного царя) и не может служить злому умыслу. И значит, человек, которому уготована смерть от предварительно выкраденного волшебного меча, ничем не рискует. В контексте заговора «небесный царь» отождествляется с христианским Богом, однако сопоставление со «Сказанием о Еруслане Лазаревиче» дает основание думать, что на месте «небесного царя» в древности могло помещаться какое-либо солнечное божество из языческого пантеона. Это кажется тем более возможным, что согласно официальной православной иконографии меч является атрибутом не Бога, а архангела Михаила. Божественное оружие в системе религиозного мировоззрения являлось мерилом и защитой добра и справедливости. И всякий меч нес на себе «отсвет» этой функции.
Помимо происхождения «из потустороннего мира» или принадлежности знаменитому (и также удалившемуся в «мир иной») владельцу, «волшебности» мечу могли добавлять также надписи, которые делались на клинках при изготовлении. Надпись во многих культурах, и в том числе в восточнославянской, издревле воспринималась как магический объект. Среди мечей, найденных на территории Руси, часто встречаются надписи, представляющие собой клейма ремесленников-изготовителей (например, «Ulfberht», или «Людота коваль») и аббревиатуры благопожелательных надписей на латыни («SNEX. NEX. NEX. NS»). Скорее всего, большинство надписей было непонятно русским владельцам. И в силу этого проступающие на металле буквы могли восприниматься как волшебные «черты и резы», которыми, по сведениям болгарского автора X в. Черноризца Храбра, древние славяне «чтяху и гадаху».
Богатой вещами со сверхъестественными функциями была и повседневная мирная жизнь. Человек старался уберечь себя от различных напастей, окружая себя амулетами – защитными оберегами. В поучениях против язычества и двоеверия постоянно встречаются упреки пастве в использовании «наузов». «Наузницы» упоминаются в Уставе Ярослава, в «Слове о томъ како погани сущее языци кланялися идоломъ» и др. Безусловным недоразумением является толкование Е.В. Аничкова слова «наузи» как формы слова «науки», под которыми, по мнению известного текстолога, «наши книжники» понимали «тайное запретное знание» – астрологию, каббалистику, алхимию. Понятно, что исследователя ввело в заблуждение обычное чередованием звуков «з» и «к» в древнерусском языке. Вряд ли, однако, древнерусские «чародейницы» и «зелейницы», расправу над которыми церковная власть, не видя в них большой опасности, препоручила ведению главы семейства с его нехитрыми воспитательными приемами, занимались еще по совместительству астрологией и каббалистикой. Зато, безусловно, изготовление защитных ладанок было их непосредственной обязанностью.
Гораздо более полное и адекватное исследование амулетов-наузов дается в работе Н.М. Гальковского. Он связывает этимологию слова «науз» с «узлом», «навязыванием». «Наузы состоят из разного рода привязок, надеваемых на шею; обычно это маленький мешочек, в котором заключается какое-нибудь целебно-симпатическое средство: трава, коренья, уголь, соль, сера, засушенное крыло летучей мыши, змеиные головки, кожа ужа, жабьи кости, ладан и проч.». Показывая широкую распространенность почитания узлов в религиях народов мира, исследователь отметил также и долгую сохранность обычая магической защиты при помощи амулетов, надеваемых, навязываемых тем или иным образом на тело. Кроме того, «значение узла имеет замкнутая круговая линия. Стоит очертить вокруг себя круг, нечистая сила не будет в состоянии перейти этой магической линии». Поэтому «наузом» мог быть и пояс.
Поскольку в «Слове о томъ како погани сущее языци кланялися идоломъ» «наузи» имеют эпитет «смраднии», вполне вероятным является предположение, что в качестве наполнения в амулетах могли использоваться пахучие ингредиенты, которые могли служить природными фитонцидами. Поэтому амулеты широко использовались в народной медицине. При археологических раскопках была открыта деревянная подвеска с вложенными в нее листиками растений – очевидно, как раз такой медицинско-магический «науз».
Церковь с неослабевающим упорством боролась против наузов, их изготовительниц и пользователей. В качестве замены она предлагала нательные кресты, смысл которых совершенно чужд христианской идее и полностью объясняется стремлением вытеснить из жизни паствы языческие апотропеи. Во всяком случае, паства воспринимала именно так.
В древнерусской литературе отсутствует жанр коротких историй, содержащих нравоучительные «примеры» (exempla), популярный в Западной Европе в Средние века. Однако похожие по форме и назначению короткие анекдоты имеются в летописях. При помощи exempla деятели западной церкви придавали своим проповедям большую эффективность. Древнерусский летописец не имел столь обширной аудитории, но способы его пропагандистской работы были сходны с теми, которые практиковались западными проповедниками.
Смысл и назначение нательного креста был задан историей, рассказанной в летописи под 1071 г. в связи с событиями Белоозере, когда Яну Вышатичу пришлось усмирять языческий мятеж, вызванный голодом. Закончив описание действий Яна, летописец делает отступление, которое будто бы должно дать читателю представление о внешнем виде («о взоре») бесов. На самом деле главный идеологический смысл истории совсем в другом. Главный герой этой летописной повестушки – некий новгородец, у которого «приключилась» необходимость воспользоваться волхвованием некоего кудесника из Чудской земли. Он пришел к волхву, тот начал камлание и лежал оцепенев, но потом очнулся и заявил новгородцу, что бесы не смеют прийти, поскольку он имеет на себе нечто, чего бесы боятся. Новгородец вспомнил, что на нем крест, отошел и «поставил» или «повесил» крест «кроме (вне) храмины тоя». И бесы смогли наконец явиться им. Напоследок новгородец спросил, почему они боятся креста. Кудесник ответил, что крест есть знамение небесного Бога, «его же наши бози боятся». После дополнительных вопросов выяснилось, что боги, к которым обращается кудесник, «образом черни, крилаты, хвосты имуще» и живут в безднах. «Аще кто умреть от ваших людии, – продолжает кудесник, – то възносимъ есть на небо, аще ли от наших умираеть, то носимъ к нашимъ богамъ в бездну».


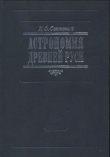
![Книга Параллельные идиоты. Трилогия [СИ] автора Александр Сигачев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-parallelnye-idioty.-trilogiya-si-207617.jpg)




