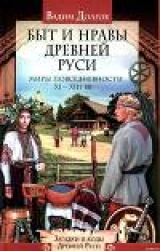
Текст книги "Быт и нравы Древней Руси"
Автор книги: Вадим Долгов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
«Любовь» для древнерусского политического языка такая же «магическая» формула, как для современного – «добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество». Так, например, летописный рассказ о произошедшем в 1024–1026 гг. столкновении великого киевского князя Ярослава Владимировича с Мстиславом Тмутараканским завершен такой фразой: «И начаста жити мирно и в братолюбетве и уста усобица и мятежъ и бысь тишина велика в земли». При помощи понятий братской/божественной любви в политической мысли оформляется и идея необходимости единства Руси. Происходит это по той же причине, по которой через категорию любви была оформлена идея о ценности мира: употребление термина «братолюбие» поднимало ее значение.
Ценность братолюбия в древнерусском общественном и в том числе политическом сознании была очень высокой. Оно всегда выступает в литературе средневековой Руси как нечто положительное. Носителем всегда оказывается положительный герой, и наоборот, преступник против любви – герой отрицательный. К вражде людей подталкивает дьявол. А человек, исполненный любви, напротив, следует божественному завету.
В тех случаях, когда факты жизни не позволяли следовать этой элементарной схеме, изобретались различные уловки. Немало, очевидно, трудностей доставила автору ПВЛ противоречивая фигура князя Владимира I, персонажа априорно положительного, но содеявшего много такого, что не позволяло просто «расписать его по трафарету». И тогда оказывается, что в убийстве Ярополка виноват не благоверный князь, а воевода Блуд, на которого и изливается запас нравоучительных обличений («Блудъ преда князя своего и приимъ от него чьти многи се бо бысь повиненъ крови той»). Что в женолюбии (которое, по мировоззрению летописца, любви противоречит, как грех противоречит праведности) он лишь повторил «подвиг» уважаемого библейского царя Соломона. А Окаянный Святополк будто бы даже сам виноват, что оказался «сыном двух отцов» («От греховнаго бо корени золъ плодъ бываеть… тем и отец его не любяше, бе бо от двою отцю – от Ярополка и от Володимера»; в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Обаче и матере моея грехъ да не оцеститься и съ праведьными не напишуся, нъ да потреблюся от книг живущиих»). Никак невозможно было допустить, чтобы Владимир был обвинен в отсутствии братолюбия.
В подавляющем большинстве случаев трудностей не возникало. Академиком Д.С. Лихачевым замечено, что «авторы XII–XIII вв. не знают коллизий между тем, что представляет собой князь, и как воспринимают его окружающие», и «не изображают скрытой внутренней духовной жизни, которая могла быть неправильно понята окружающими». Злодей древней русской истории Святополк Окаянный потому и злодей, что избивал братию, прочищая себе путь к престолу после смерти Владимира. А первые русские святые Борис и Глеб потому и святые, что в ответ не подняли руку на брата, почитая его «в отца место».
Однако не утилитарная идея сохранения незыблемости княжеской иерархии сделала Бориса и Глеба самыми любимыми и почитаемыми святыми на Руси. По мнению известного исследователя древнерусской религиозности Г.П. Федотова, основная, характерная черта их подвига – непротивление, жертвенность. «Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещеного русского народа». Не оспаривая в целом утверждения Федотова, необходимо все же обратить внимание на то обстоятельство, что из всех возможных вариантов для демонстрации идеи непротивления русская книжная традиция выбрала именно историю о братолюбии и преступлении против братолюбия. Если посмотреть на этот факт в культурном контексте, основные черты которого были намечены выше, то становится понятно, что выбор этот совсем не случаен. По утверждению американского исследователя Н. Ингама, который сравнивал жития князей-мучеников, чешского Вацлава и русских Бориса и Глеба, тема братолюбия является отличительной чертой русской литературы о страстотерпцах. Можно считать, что в «Сказании о Борисе и Глебе» нам явлен тип идеальной любви, как понималась она древнерусской образованной элитой. Это своего рода «Ромео и Джульетта» русского Средневековья. Интересный штрих к намеченной картине древнерусского словоупотребления добавляет берестяная грамота № 752, найденная при раскопках Древнего Новгорода в слое рубежа XI–XII вв. Анализ содержания грамоты позволил В.Л. Янину трактовать ее как послание женщины XI века возлюбленному, не пришедшему на свидание. На любовный характер указывает эмоциональность, нескрываемая обида, звучащая в тоне письма. В то же время несколько странно на первый взгляд выглядит фраза, с которой женщина начинает свои упреки адресату: «А язъ тя есмь имела, акы брат собе» – «А я к тебе относилась как к брату»! Если понимать данную фразу исходя из представлений нашего времени, трактовка, предложенная Яниным, кажется невозможной. Однако истолкование все же может быть верным. В культурном контексте эпохи оборот «относиться как к брату» мог означать высшую степень привязанности, любви, которую мы сейчас назвали бы «платонической». Именно в таких выражениях влюбленная жительница Древнего Новгорода могла говорить о «высокой» любви.
Попробуем выделить сущностные черты древнерусского книжного архетипа идеальной любви.
Во-первых, как уже говорилось выше, это любовь, принципиально лишенная сексуальных импульсов и чувственной составляющей. Признаков иного понимания, по крайней мере в книжной традиции, незаметно. Летописец не видит необходимости (существующей в современном языке) добавлять к слову «любовь» какие бы то ни было эпитеты – «божественная», «братская», – для него иная немыслима. В цитированном выше рассказе о Печерском монастыре, помещенном в ПВЛ под 1074 г., сказано, что монастырская братия «беша любовници». Современный переводчик вынужден переводить слово «любовници» целомудренным (и тем самым как раз адекватным) выражением «люди, полные любви». Факт этот, быть может, мелкий, но весьма показательный для иллюстрации изменения языка. А так как в языке как ни в чем другом отражается сознание эпохи, то мы не можем пройти мимо него: древнерусский автор не боится двусмысленности, неизбежной в современном словоупотреблении, будучи, конечно, осведомленным о существовании содомского греха. Строго говоря, это неудивительно, ведь из контекста понятно, о чем идет речь, но то же можно сказать и о переводе, тем не менее ученый-переводчик наших дней не решается назвать монахов «любовниками».
Во-вторых, «любовь» подразумевает прощение, беззлобие, кротость, покорность. Она иррациональна и не зависит от достоинств предмета. Любят провинившегося товарища, любят чинящего козни врага, любят брата просто потому, что он брат. Нельзя сказать, что принцип иррациональности доведен в древнерусском общественном сознании до абсолюта: конечный резон ее в евангельской заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Так, например, князь Борис, готовясь пожертвовать жизнью, все же прикидывает в уме: «Да аще кръвь мою пролееть и на убийство мое потъщиться, мученик буду Господу моему». Это, однако, достаточно высокая степень абстракции, особенно для мышления в обществе вчерашних язычников. Ведь «выгоду» от любви Борис рассчитывает получить только «на том свете».
В-третьих, любовь должна быть действенной. Не будучи никак выражена, она не существует. Пути, которые даются человеку для «осуществления» ее, – это смирение и самопожертвование. Любовь как способ построения жизни противопоставляется «суете сует» – погоне за мирскими благами. Она – сознательный выбор, ноша, которую человек взваливает на себя. Борис оказывается в ситуации выбора. Это очень хорошо показано в «Сказании». Он может воспользоваться поддержкой находящегося при нем киевского войска и «прогнати брата моего, якоже и отец мой преже святаго крещения, славы ради и княжения мира сего». Он размышляет и в результате размышления решается на поступок. Решение дается ему нелегко, он «слезами разливашеся весь», но подвиг «нелицемерьныя любъве», самопожертвование ради нее – его сознательное решение. Действенность и сознательность древнерусской «любви» – особенности, заметно отличающие ее от любви в современном представлении. В конечном итоге разница между любовью и нелюбовью в общественном сознании Древней Руси сродни разнице между праведным и греховным существованием, которое человек выбирает сознательно и за которое несет ответственность.
Такими принципами в идеале должны руководствоваться люди во взаимоотношениях друг с другом, по представлениям, содержащимся в древнерусской литературе. Источником этих воззрений было, во-первых, евангельское учение. Во-вторых, местная идейная традиция, уходящая корнями в эпоху родового строя.
В Библии популярные на Руси идеи божественной/братской любви лучше всего представлены в Первом послании Иоанна Богослова. Именно в этой книге находим мы фразу, неоднократно повторенную в различных произведениях древнерусской литературы: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1-е Ин. 4, 20). Цитату эту мы встречаем и в ПВЛ, в «Поучении» Владимира Мономаха, и в «Сказании о Борисе и Глебе». Однако было бы ошибкой думать, что представление о священности любви появилось на Руси только вместе с Библией и питалось всецело христианскими заповедями.
Мы уже имели возможность видеть на примере концепции божественного происхождения власти, что пришлые теории, если они не имели подходящих основ в русской национальнои культуре, не укоренялись и продолжали оставаться элементом сознания лишь узкого круга интеллектуалов. Широкое распространения «теории братской любви» свидетельствует о том, что у нее основания такие были. Уже упоминавшимся нами Н. Ингамом было замечено, что библейское понимание «брата» в смысле «ближнего» в русском житии трансформируется в «кровного брата». Очевидно, библейская идея, выраженная апостолом Иоанном, нашла подкрепление в пережитках представлений о нормах взаимоотношений в роде, в традиционной сакральности отношений братства, свойственной родовому обществу. Подтверждения этому мы находим в фольклоре. Русские богатыри – побратимы.
Еще тут-де братаны-ти поназванелись,
Ай Илеюшка-то был тогда ведь больший брат,
Ай Добрынюшка-то был тогда а меньший брат.
То, что богатыри являются побратимами, всегда выступает в былинах как очень важный, значимый момент. Точно так же, как в древнерусской литературе, побратимство в эпосе имеет исключительно положительную окраску. В отношениях побратимства состоят самые уважаемые герои: Свято-гор, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Братские отношения действенны. Так, Илья Муромец, находясь в страшном гневе, тем не менее мягко обходится с посланным к нему в качестве парламентера Добрыней – потому что он его крестный брат.
Да тут говорит Илья таково слово:
«Ах ты братец да мой да был крестовый!
Да как нунечку-таперечку у нас с тобой
А все-то пописи да были пописаны,
А заповеди были поположены,
А слушать-то брату ведь меньшому,
А меньшому слушать да большего.
Кабы не братец ты крестовый был,
А никого бы я не послушал зде.
И, напротив, когда Алеша Попович соблазняет в отсутствие Добрыни его жену, побратимство служит «отягчающим вину обстоятельством», свидетельством особой подлости. Добрыня, уезжая «во чисто поле, на большую дороженьку», дал жене позволение выйти замуж за кого ей будет угодно, если он не вернется через шесть лет. Единственное условие – она ни в коем случае не должна была выходить за Алешу.
А не ходи за брата моего крестового,
За смелого Алешу за Поповича.
«Молода жена» Настасья Тимофеевна прождала вместо положенных 6 лет все 12 и вышла замуж, но именно за Алешу. Добрыня инкогнито появляется на свадебном пиру, при помощи чарки зелена вина с золотым перстнем дает знать о себе жене, после чего следует расправа с соблазнителем.
И взял Добрыня тут Микитович,
Взял Алешу за желты кудри,
Повытащил его из-за дубова стола,
Да и метнул его он о дубовый пол.
Таскал он, что хотел, сам приговаривал: —
Всякий чорт, то правда, женится,
Да не всякому-то женитьба удавается,
Как удавалася Алешеньке Поповичу,
Моему смелому что братцу ли крестовому…
Как не дивую я разуму женскому,
Дивую я псу милитеньскому!..
В момент наказания виновника Добрыня особенно поминает то, что он его крестовый брат. Это заставляет думать, что причина, по которой Добрыня запретил Настасье Тимофеевне выходить замуж за Алешу Поповича, – их побратимство. Подобный брак осквернил бы их братство.
Братаются богатыри, как правило, после первоначальной ссоры. Встретившись «в чистом поле», они сначала испробуют силу друг друга, а затем, поняв, что каждый из них достойный богатырь, мирятся и заключают братский союз. Таким образом, былинное побратимство, точно так же как древнерусское литературное «братолюбие», могут быть направлены на вчерашних врагов. Эпическое побратимство связано с определенными взаимными обязательствами, особым отношением героев друг к другу. Оно подразумевает невозможность военного столкновения, взаимовыручку, усмирение гордыни и необходимость считаться с мнением крестного брата. Все это, учитывая место и время, в которых разворачивается действие русских былин, заставляет предполагать соответствие между летописной братской/божественной любовью и былинным крестовым побратимством, несмотря на существующее мнение о позднем возникновении песен о побратимстве. Нельзя не заметить сходное их положение в системе ценностей. И в том и в другом случае братское отношение к кому-либо есть показатель безусловной правоты персонажа и заведомой выигрышности его моральной позиции.
Представления о святости братских уз, сохраненные эпосом, безусловно, не являются феноменом, получившим развитие исключительно в славянском мире. Сходные явления свойственны любому обществу, находящемуся на соответствующей ступени развития. Особенным можно считать, что на Руси древнее социально-психологическое образование, обреченное с разложением родовых отношений если не на полное исчезновение, то на деградацию, и элемент христианской идеологической системы («Бог есть любовь»), объединившись в общественном сознании, послужили взаимному усилению. Если посмотреть на это явление в исторической перспективе, то можно заметить, что значение «теории любви» выходит за пределы киевского периода истории. Русскому общественно-политическому сознанию всегда, по-видимому, было свойственно стремление строить отношения между людьми не на балансе интересов и прав, что характерно для западной политической культуры («Моя свобода махать кулаками кончается там, где начинается нос моего собеседника»), а на всеобщем согласии, т. е. на любви, по сути. Это, например, нашло воплощение и в практике Земских соборов Московской Руси.
Итак, общество, законы, по которым оно живет или должно жить, социальные ценности, власть – все это так или иначе входило в орбиту внимания книжников-мыслителей Древней Руси. Несмотря на то что далеко не на все сферы социального бытия нашли отражение в общественно-политической мысли Руси XI–XII вв., наследие ее весьма значительно. Арсенал литературных представлений об общественной жизни, к которому обращался читающий человек, включал в себя и «привозные» византийские концепции, основанные на христианских постулатах, и оригинальные русские идеологические конструкты, ведущие свое происхождение из родовой языческой эпохи. Некоторые теории, воспринятые Русью вместе с христианством из византийской культуры, на протяжении рассматриваемого периода так и не вышли за пределы использования узким кругом интеллектуальной элиты (например, концепция «власть от Бога»). Другие сделались более популярны и оказали серьезное влияние на социальные и политические процессы в русском обществе. К таковым относится «теория казней Божиих» и «теория любви», положения которой во многом определяли политическое сознание общества, а значит, не могли не влиять на социальную и политическую практику. «Концепция мирского благочестия», безусловно, выросла из социально-психологических процессов конца XI – начала XII в.; представления о значимости происхождения, напротив, имеют основой древнюю родовую ментальность. Все это трансформировалось, творчески перерабатывалось в соответствии с потребностями времени, соединялось в единое целое, составляя неповторимое историческое явление – сферу идеологий древнерусского общественного сознания.
Глава 3
Внешний мир: обретение этнокультурных ориентиров. «Чужие – свои»
Материал, изложенный в предыдущих главах, дает читателю возможность представить, как выглядели в восприятии древнерусского человека его собственный город, семья, круг общения, т. е. те части социума, которые выступали для него в качестве «своих». Однако картина общественного устройства осталась бы незавершенной без выяснения образа «чужих», относительно которых определялись рассмотренные выше «свои». Оппозиция «свои – чужие» является одной из базовых в человеческом сознании. С ее помощью новорожденный человек производит первую ориентацию в мире; в далекой древности противопоставление «своих» «чужим» послужило первым шагом к развитию самосознания вида homo sapiens. Историческое развитие человечества дает самые разнообразные примеры воплощения этой оппозиции в социальной психологии. Неповторимыми чертами своеобразия обладает образ внешнего мира, представления о «чужих», эпохи раннего русского Средневековья.
Подобно тому как объем понятия «свои» бывает разным в различных случаях – от своих домочадцев до жителей одной волости, точно так же многомерно и представление о «чужих». Для ориентировки наметим три уровня восприятия этого понятия: 1) «чужие» – население других русских земель относительно своих сограждан; 2) «чужие» – иноплеменники, с которыми приходилось сталкиваться в реальной жизни; 3) «чужие» – полумифическое население дальних неведомых стран, о которых слыхали от редких путешественников или читали.
«Древляне живяху зверинскимъ образомъ»: свои «чужие».
Вопрос об отношении к населению чужих земель-волостей тесно связан с проблемой осознания единства Руси. Как известно, в XII в. русские земли не составляли единого монолитного государства. В то же время они не были абсолютно независимыми и невзаимосвязанными политическими образова-ньиями. Поэтому и развитие идей относительно этого предмета носило двойственный характер. В общественном сознании существовали две противоречащие друг другу тенденции.
Одна из них является, по сути, отражением сепаратистских устремлений русских земель, стремящихся к самостоятельности. Постоянные межгородские столкновения, ссоры князей, т. е. сама общественно-политическая ситуация, предполагали осознание каждой волостью своей «самости». Повседневная жизнь диктовала свои установки. Города-государства боролись друг с другом: руками своих князей плели политические интриги, выступали друг против друга гражданскими ополчениями. Новгород боролся против гегемонии Киева, Владимир – против «старых» Ростова и Суздаля и пр. Действительность чаще всего актуализировала в сознании тот уровень оппозиции «свои – чужие», где в роли «своего» пространства выступала не Русская земля, а родной город.
У древнерусского горожанина было более чем достаточно причин относиться к другим городам не только как к чужим, но иногда и как к врагам, не предаваясь размышлениям о теоретическом братстве и единстве. Картина социального мира, свойственная типичному представителю древнерусского общества, была замкнута в рамки его собственной земли-волости. Так, например, как было замечено еще историком права В.И. Сергеевичем, «свод» по Русской Правде не идет в чужую землю. То есть все процессуальные процедуры в древнерусском законодательстве замыкались в границах своего города-государства.
Будучи сплоченными социальными организмами, городовые волости выступают в русской истории в виде своеобразных коллективных личностей. Недаром в летописях нередки выражения: «сдумаше кыяны», «реша новгородьце» и пр.
Обыденное сознание наделяет их различными характеристиками, часто иронического толка. Киевляне кричат новгородцам, пришедшим с Ярославом в 1016 г. отвоевывать великокняжеский престол: «Вы! Плотницы суще! А приставимъ вы хоромъ рубити нашим». Утверждение, что они плотники (и, подразумевается, ничего больше – не воины), показалось новгородцам настолько обидным, что они сами потребовали у Ярослава начать битву на следующее же утро.
В качестве «коллективных личностей» города-государства сменили на исторической арене древние племена. Летопись сохранила нам поговорку о радимичах: «Пищаньцы волчья хвоста бегают», произошедшую от того, что воевода князя Владимира по имени Волчий Хвост победил их у реки Пи-щаны. Когда речь шла о себе самом, конечно, образ складывался более привлекательный: предки киевлян – поляне, в изображении ПВЛ, «бяху мужи мудрии и смыслении». «Чужие» древляне, вятичи и северяне представлены гораздо менее привлекательно: «живяху звериньским образом, живуще скотьски» и т. п. Описывая впечатления путешествующего по Днепру апостола Андрея, якобы посетившего в незапамятные времена Русь, летописец рассказывает, что Андрей предрек славное будущее горам, на которых впоследствии возникнет Киев, а потом посетил Новгородскую землю, где видел поразивший его обычай мытья в бане – «како ся мыют и хвощутся», о котором он поведал, возвратившись домой в Рим. В том, как описано путешествие Андрея, угадывается рука книжника-южанина – киевским горам предречена благодать, а новгородцы описаны с юмористической стороны. В «Слове о полку Игореве» говорится: «А мои ти куряни сведоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяны, конец копия въскормлени; пути имъ ведоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени. Сами скачють, акы серый влъци въ поле, ищучи себе чти, а князю славе». Субъект этого красочного описания определен по городской принадлежности – «куряне».
В то же время в древнерусской литературе активно пропагандировалась идея единения русских земель. Будучи оформлена через понятие братской /божественной любви, она вошла в арсенал самых актуальных идеологических конструкций Древней Руси. Следы ее мы находим и в ПВЛ, в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове о князьях». Ею проникнуто «Сказание о Борисе и Глебе». Выражение «Русская земля» достаточно часто встречается на страницах произведений древнерусской литературы. Объективная общность восточнославянского населения осознавалась древнерусскими мыслителями. Очевидна она была и на бытовом уровне (общность языка, схожесть обычаев и пр.). «А словеньский языкъ и рускый одно есть. От варягъ бо прозвашася русью, а первое беша словене. Аще и поляне звахуся, но словеньскаа речь бе. Полями же прозвани быши, зане в поли седяху, а язык словенский имъ един». Но, как известно, осознание общности не всегда означает отсутствие вражды. Поэтому даже в русле этой тенденции население иных областей далеко не всегда воспринималось как «братья», соотечественники, хотя, в принципе, не было «чужым». Мстислав Владимирович после битвы его сборного войска с дружиной Ярослава в 1024 г. рассуждает: «Кто сему не рад? Се лежит северянинъ, а се варягъ, а дружина своя цела», – не делая разницы между славянским племенем северян и скандинавами-варягами. Сама практика частых широковещательных призывов к заботе об интересах всей Руси заставляет думать, что реальность была далека от пропагандируемого образца. Можно заметить, что о «Русской земле» говорится, как правило, в пассажах, имеющих яркую риторическую окраску, проникнутых пафосом. Очень часто «Русская земля» «от конца до конца» поминается в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» Иакова Мниха и тому подобных панегирических сочинениях.
И все же нельзя сказать, что в XI–XII вв. понятие «Русская земля» как воплощение представлений о едином общественном и территориальном образовании существовало лишь в книжной культуре и было абсолютно безжизненно. Оказавшись в Палестине, игумен Даниил, автор «Хождения», чувствовал себя там представителем всей Руси. В качестве «русьсуыя земли игумена» он предстал перед королем Балдуином. В лавре Св. Саввы им были записаны для поминовения имена всех русских князей, начиная со Святополка Изяславича и далее, нисходя по лестнице старшинства, сколько вспомнил.
Любечский съезд по летописи был открыт торжественной речью: «Почто губим русьскую землю, сами на ся котору деюще, а половци землю нашю несуть розно и ради суть оже межю нами рати. Да ноне отселе имеемся въ едино сердце и блюдем Рускые земли».
То есть осознание этнической принадлежности приходит в соприкосновение с иноплеменниками. У себя на Руси человек был «новгородцем», «киянином», «черниговцем» и мог спокойно в военном столкновении зарубить своего недалекого соседа, говорящего на том же языке. Но перед лицом внешней опасности или в далеком странствии приходило понимание общности, актуализировалась оппозиция «русские – чужеземцы». Впрочем, у книжника, воспарившего умом «под облакы», такое «соприкосновение» могло произойти и в мирное время у себя дома. Тогда, например, когда он читал описание неведомых «языков» в летописи. Можно согласиться с утверждением украинского исследователя А.П. Моци, что «трудно представить высокое осознание своего единства смердами, сидящими (например) под Галичем и Псковом», однако следует уточнить, что верно оно только относительно тех «смердов», которые действительно «сидели», и только до тех пор, пока «сидели». Если такого смерда судьба заносила далеко от дома, то вряд ли разница между жителем (например) Чернигова и степняком-половцем осталась для него непонятна.
«Кто ecu ты и коса веры еси?»: иноземцы и представления о населенном мире.
Самым существенным признаком древнеславянского образа иноземца, истинно «чужого», ни при каких условиях не становящегося полностью «своим», было языковое отличие. Недаром те, чья речь понятна, обозначались словом «словенинъ» – «владеющий словом». Соответственно тот, кто «по-человечески», понятно, говорить не умеет – «немць», т. е. «немой».
Подробное описание народов мира, своеобразный «этнографический очерк», находим мы в начальной части «Повести временных лет». Для достижения своей задачи автор летописи счел нужным сначала определить место Руси в ойкумене. По определению известного ученого, главы тартуской семиотической школы Ю.М. Лотмана, география в Средние века «не воспринималась как особая естественнонаучная дисциплина, а скорее напоминала разновидность религиозно-утопической классификации».
Классификация народов, осуществленная автором «Очерка», основывается на мифической библейской генеалогии, производящей три большие части человечества от сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета (Быт. 10, 5). Возможно, источником этого описания послужил также еврейский хронограф середины X в. «Книга Иосиппон», в основу которой был положен созданный в IV в. латинский перевод «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Большинство индоевропейских, а также финно-угорских народов, жителей западных и северных стран, согласно этой классификации, отнесены к «жребию Афетову». В их число включена и Русь.
Летописное повествование развивается одновременно в географической и временной плоскостях. Сначала летописец дает этнографическое описание самих славян. Затем по ходу рассказа о славянах пред мысленным взором читателя проходят образы различных народов – как современных, так и канувшие в Лету: болгары, угры, обры. Этим последним уделено особенно много внимания. Характеристика их весьма живописна: «В си же времена быша и обри иже ходиша на Арълия царя и мало его не яша. Си же обре воеваху на словенех и примучиша дулебы, сущая словены, и насилие творяху женам дулебским. Аще поехати будяше обрину, не дадяше въпрячи ни коня ни вола, но веляше впрячи 3, или 4, или 5 ли жен в телегу о повести обрина. И тако мучаху дулебы. Быша бо обре телом велицы и умом горди, и Богъ потреби я и по-мроша вси, и не остася ни единъ обринъ. Есть притъча в Руси и до сего дне: «Погибоша аки обре»1, – их же нет ни племени, ни потомства.»
1 «В те времена существовали и обры, воевали они против царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли дулебов – также славян, и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и везти его – обрина, – и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом и умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: «Погибли, как обры».
После рассказа о славянских племенах и как бы в объяснение «странностей» их обычаев и поведения в «Очерке» следует еще одна теоретическая выкладка. Со ссылкой на Георгия Амартола летописец делит все народы на имеющие письменный закон и не имеющие такового. Последние, в свою очередь, делятся на тех, чьи неписаные обычаи казались средневековому православному монаху «приличными» и «неприличными». Их описание идет также по Амартолу, так как сам книжник лично, конечно, с этими народами незнаком.
К «приличным» отнесены сирийцы, «живоуще на конец земля». У них в качестве закона выступают обычаи их отцов: не заниматься ни любодеянием, ни прелюбодеянием, не красть, не клеветать, не убивать. Ничуть не хуже нравы бактриан, «глаголемии (так называемые) върахмане и островичи». Они из благочестия не едят мяса, не пьют вина, не творят блуда и никакого не делают зла вообще.
Совсем по-иному, по древнерусским представлениям, обстоят дела у соседей бактриан – индийцев. Они «убийстводеица, сквернотворяще и гневливи и паче естьества; въ нутренейший же стране ихъ человек ядуще и страньствующихъ убиваху, паче же ядять яко пси». Столь же плохи халдейцы и вавилоняне, гилийцы, британцы и амазонки. Неприемлемость для летописца их обычаев заключается в основном в постыдности принятых у них норм сексуального общения. Халдейцы и вавилоняне вступают в половой контакт с матерями и с детьми братьев, убивают, совершают разнообразные бесстыдства, почитая их за добродетель. Гилийские женщины взяли на себя исполнение мужских обязанностей и пользуются поэтому полной половой свободой. В Британии сосуществуют полиандрия и полигиния. А амазонки, «аки скотъ бесловесный», не имеют мужей. Один раз в год, ближе к весне, они выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужами. Этот выход они «мнят» как некое торжество или праздник. Зачав, они удаляются к себе. Если у них рождается девочка, «то взъдоять и прележне въспитают», а если мальчик – убивают.


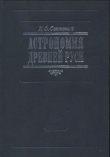
![Книга Параллельные идиоты. Трилогия [СИ] автора Александр Сигачев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-parallelnye-idioty.-trilogiya-si-207617.jpg)




