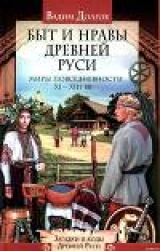
Текст книги "Быт и нравы Древней Руси"
Автор книги: Вадим Долгов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Из последних сил обороняющие свой город жители Казани, которым пришлось столкнуться с многократно превосходящим войском московского князя (один защитник города против пятидесяти нападающих, согласно «Истории»), описываются в патетических тонах. Их речи полны истинной отваги: «Не убоимся, храбрыя казанцы, страха и прещения московского царя и многия его силы руские, аки моря, биющагося о камень волнами, и аки великаго леса, шумяща напрасно, селикъ имуще град нашъ, твердь и велик, ему же стены высоки и врата железна, и люди в нем удалы вельми, и запас многъ и доволенъ стати на 10 лет во прекормление намъ. И да не будем отметницы добрыя веры нашея срацинския и не пощадим пролити крови своея, да ведоми не будемъ во пленъ работати иновернымъ на чюжу землю, християном, по роду меншимъ нас и украдшимъ благославление». Доминирующий эпитет казанцев – «храбрые». Особая глава отводится автором «Истории» описанию мужественного поведения казанских женщин, готовых ценой изгнания и плена сохранить жизнь детям. Их попытка решить дело миром описана с большим сочувствием. Зрелище ходящих по стенам города женщин и девиц названо автором «Истории» «умильным». Любопытно, что над печальной судьбой «женъ и девицъ» еще не взятого города прослезились даже сами осаждавшие «жалостливии» русские воины. Прослезился, можно думать, и сам летописец.
Авторская позиция вообще выдает сложное положение, в котором писалась «История», – обе противоборствующие стороны были для рассказчика «своими». Не удивительно, что лучшим слугой Ивана Грозного оказывается служилый татарский царь Шигалей (Шах-Али): «вернейшийшии всех царей везде и верных наших князей и воевод служаще, и нелестно за христианы страдаше весь живот свой до конца». Давая такую характеристику татарскому военачальнику, летописец вынужден извиняться перед читателем за то, что «единоверных своих похуляюща и поганых же варвар похваляющи», но в свое оправдание он утверждает, что на его стороне сама истина, известная всем: «Таков бо есть, яко и вси знают его и дивяться мужеству его, и похваляют».
От русских князей и ордынских царей он требует «братского» поведения и очень сокрушается, когда обстоятельства приводят их к вражде, подобно тому, как русские летописцы домонгольской Руси сокрушались о «которахъ» в потомстве Рюрика. С умилением он описывает первоначально «братские» отношения Василия II Васильевича Московского с изгнанным из «Великия Орды» эмиром Едигеем Улу-Мухаммеда, будущим первым казанским ханом. «Горьким» называет он совет ближайшего окружения князя воспользоваться затруднительным положением хана и изгнать его из московских пределов, несмотря на горячие мольбы последнего. Более того, необходимость придерживаться норм «братолюбия» согласно мировоззрению автора «Истории» оказывается продиктована не просто политической целесообразностью, а нормами религиозной морали (что может показаться уже совсем странным относительно татар-мусульман современному наблюдателю). Так, например, за отклонение от промосковской политики «русский бог» наказывает казанского хана Мухаммед-Эмина неизлечимой болезнью. Лежащему на смертном одре «царю» автор вкладывает в уста полный раскаянья монолог, в котором он именует великого князя Ивана Васильевича «отцом», себя же – «злым рабом», не оправдавшим тех высоких отношений, которые сложились у него с московским князем, относившимся к нему как к сыну. В раскаянии он шлет Ивану богатые подарки, но это не помогает – он умирает, снедаем червями и испуская нестерпимое зловоние, которое в системе художественных образов древнерусской литературы призвано было показать глубину морального падения персонажа (вспомним Святополка Окаянного). Таким образом, открывший военные действия против Москвы татарский хан осуждается не как вероломный враг, а как неблагодарный сын, пошедший против оггща Вспомним, что терминология родства (отец, сын, брат старейший и пр.) издревле использовалась для обозначения вассальных отношений внутри рода Рюриковичей. Таким образом, политическая инкорпорация Казанского ханства в вассально-сюзеренные отношения с русскими князьями, произошедшая задолго до присоединения Казани Иваном Грозным, была соответствующим образом идеологически оформлена через традиционные для Руси понятия, использовавшиеся ранее только во внутренних отношениях. Это может служить показателем известного сближения, не только в политической, но и в культурной сферах. Во всяком случае, казанцы предстают в «Истории» уже совсем не так, как были представлены татары в «Повести о разорении Рязани Батыем» или в проповедях Серапиона Владимирского, – это уже не выходцы из преисподней, о которых пророчествовал Мефодий Патарский, жуткое и непонятное воплощение Божьего гнева, это «свои» враги, ссоры с которыми носят почти семейный характер и обусловлены не «природным» антагонизмом, а обычными «семейными» причинами: предательством, непослушанием и т. п. Да и образ врага как таковой претерпел кардинальные изменения, обусловленные трансформацией жизненного уклада самих татар. Нет уже ни шатров, ни горящих в ставке огней, через которые должен пройти всякий, желающий получить аудиенцию у хана. Казань – обычный и вполне привычный для русского мировосприятия город, окруженный деревянными (дубовыми) стенами, за которыми укрываются защитники, делающие, как это было в обыкновении, периодические вылазки. Население в массе своей земледельческое. Разница хозяйственно-бытовых укладов к началу XVI в. постепенно сходит на нет. Соответственно и лик врага становится менее непонятным и, как следствие, не таким пугающим.
Вообще, чтобы подчеркнуть «всемирно-историческое» значение казанского взятия, неизвестному летописцу пришлось потрудиться. Лишь обращение к событиям более чем двухсотлетней давности могло дать необходимый для построения колоритного вражеского облика материал. Иначе масштаб победы Ивана IV оставался непонятен. Однако мотив «мести за монголо-татарское иго» в «Казанской истории» выражен весьма слабо. Обоснование похода, как было показано выше, дается совершенно иное. «Борьба с последним осколком Золотой Орды» – такое отношение к взятию Казани удел скорее новейших учебников истории, чем идеологии XVI в.
В целом можно с полным правом утверждать, что в московский период Русь и восточные тюркские изначально кочевые народы продолжили движение по пути культурного синтеза, начало которому было положено еще на заре их этногенеза (пришедшегося на одно время – эпоху Великого переселения народов V–VI вв.). Как показывают археологические и лингвистические источники, несмотря на извечную вражду, славяне и степные номады имеют во многом общую судьбу и на исторической арене выступают в качестве необходимых частей одной системы, дополняя друг друга, что раз за разом в течение тысячелетия приводило к образованию культур, в материальном и духовном облике которых прослеживались черты обоих миров: славянского земледельческого и тюркского кочевого. Начало этому было положено еще в гуннские времена, когда предки славян оказываются включенными в гуннский союз и выступают под именем скифов, поставляя для последних челны-однодревки. Затем, уже в VI веке подобным же образом выстраиваются отношения славян с аварами. Славяне принимают участия в военных предприятиях Аварского каганата, вместе с ними осаждают Константинополь в 626 г. Авары заимствуют у славян традиции домостроительства – полуземлянки. «Аварское иго» оказало влияние и на древнюю славянскую социальную терминологию (каган, болярин, жупан, пан). Элементы культуры номадов прослеживаются в обрядности кургана Черная могила, насыпанного в 60-х г. X в., в котором, «помимо скандинавских и варяжских черт, прослеживается кочевнический (салтовский) обычай укладывать конское снаряжение, оружие и доспех в груду («трофей») на кострище, а драгоценные серебряные оковки ритонов украшены в постсасанидском стиле: одна из оковок несет хазарский изобразительный сюжет».
Пример этнокультурного синтеза славянских и кочевнических традиций дает пеньковская археологическая культура (VI–VII вв.), в которой славянский компонент соседствует с болгаро-аланским, и волынцевская (VIII–IX вв.), территория которой совпадает с ареалом дани, которую хазары брали со славянских племен (полян, северян, радимичей), и где также присутствует в материальной культуре кочевнический элемент. Весьма показательный пример тюркско-славянского симбиоза дает нам история Первого Болгарского царства.
Таким образом, можно утверждать, что русско-татарский культурный синтез продолжал древнюю традицию славянотюркских контактов и имел глубокие корни. Речь не идет, конечно, о том, что отношения Орды и русских княжеств следует вслед за Л.Н. Гумилевым рассматривать как союз. На политическом и идеологическом уровнях взаимоотношения носили, безусловно, враждебный характер. Но взаимовлияние культур часто развивается и между враждебными обществами, вопреки и помимо военных столкновений, даннического ярма, явного недоброжелательства – либо как прямое заимствование, или же как ответ на воздействие внешнего фактора. В сражениях Русь перенимала элементы боевых навыков врага, в стремлении сохранить самостоятельность во враждебной государственной системе – начала политического уклада властителей, стремление подражать их быту – детали костюма. В результате же сложился синтетический культурный феномен, впитавший в себя (помимо сознания) многое из того, что впоследствии было органично усвоено русской культурой, стало восприниматься как «свое», традиционное, исконное.
«В Ростове – меря, в Белеозере – Весь, в Муроме – мурома»: Древняя Русь и финно-угорские народы.
Наиболее трудна для анализа финно-угорская составляющая русской культуры. Этому имеется несколько причин. Во-первых, начало контактов славян с представителями финно-угорских племен уходят корнями в столь глубокую древность и степень интеграции этих двух исторических общностей в процессах формирования русского этноса столь велика, что часто почти невозможно сепарировать славянские и финские элементы. Как известно, великорусская народность выросла на финском субстрате. Обширные территории, ныне считающиеся исконно русскими, в древности были заселены представителями финских племен. Показательно, что само название столицы России имеет, по мнению некоторых лингвистов, финноязычное происхождение (Москвa, как Сылва, Косьва и пр.). Следовательно, многое из того, что в настоящее время считается исконно славянским, в русской культуре может иметь в реальности финское происхождение, к сегодняшнему дню, однако, практически неопределимое. Во-вторых, сходство природных условий существования предопределило сходство многих бытовых и психологических особенностей двух культур, что делает весьма затруднительным атрибуцию тех или иных феноменов как финских или славянских. В-третьих, поздние контакты с поволжскими и прибалтийскими финнами были гораздо менее острыми (и, следовательно, не столь заметными), чем отношения, например, с тюркскими народами. Все эти трудности, однако, делают проблему русско-финно-угорских отношений особенно интересной для анализа.
Уже Н.М. Карамзин писал о том, что многие финно-язычные племена, в древности населявшие территорию России и известные нам по летописным свидетельствам (весь, чудь, меря, мурома), с течением времени растворились в славянской массе – «смешались с россиянами». Точка зрения о мирном постепенном смешении славянского и финского компонента в этногенезе русского народа стала господствующей в дореволюционной историографии. Большинство ученых сходилось во мнении, что славянская миграция имела характер медленной инфильтрации на финские территории, при которой практически не было военных столкновений ввиду наличия большого количества свободных земель, где пришлые селились, не мешая коренным жителям. Близкое и мирное соседство при явном доминировании славянского населения и русской культуры привело со временем к полной ассимиляции местных племен.
Эта точка зрения, однако, была оспорена в конце XIX в. академиком А.И. Соболевским, по мнению которого, «теория мирного занятия русскими пустых земель нынешнего великорусского центра не имеет под собою никаких оснований». Соболевский указывал, что «летописи ничего не говорят о мирных, дружественных отношениях русских с финнами». «Более того, многочисленные письменные известия о походах новгородцев на западную чудь, а владимирских князей на мордву, летописные сообщения об избиении сборщиков дани «за Волоком», в Печоре и Югре, северные предания о «чуди белоглазой», боровшейся с русскими, – все это свидетельствует о напряженных отношениях между славянами и иноязычными племенами. По мнению Соболевского, происходило постепенное вытеснение финно-угров с коренных территорий под напором русских соседей».
В развернувшуюся впоследствии дискуссию было вовлечено большое количество именитых историков, диапазон разброса точек зрения был весьма велик: от утверждения, что русский народ имеет в своем составе едва ли не 80 % финской крови (М.Н. Покровский), до полного отрицания влияния финно-угров на русский этногенез (Д.К. Зеленин). Определенный итог спорам был подведен в фундаментальном исследовании Е.А. Рябинина, которым была проделана большая работа по анализу и систематизации археологических и иных источников по истории славяно-финских этнокультурных связей. Детальный разбор археологических данных позволил исследователю утверждать, что «отношения иноязычных народов с Русью затрагивали сферу общественно-политического, экономического и культурного синтеза, активность, уравновешенность или замедленность темпов которого зависели от уровня развития производительных сил, структуры собственности аборигенных коллективов, хозяйственных возможностей различных районов, интенсивности их освоения русским населением и временем включений в вассальную и политическую структуру Руси». Социально-экономический синтез привел к началу процесса разрушения родовых отношений у восточноевропейских финнов и вхождению национальной знати в состав русской господствующей верхушки, а простых общинников – в состав зависимого населения
Древней Руси (быть может, под именем «смердов»). Установление даннических отношений сочеталось с втягиванием финских территорий в систему торгово-экономических связей.
Под влиянием древнерусского хозяйственно-культурного типа происходило совершенствование традиционных форм производственных орудий и постепенная замена их новыми типами. Постепенное сближение финского и славянского населения делало первые шаги через избирательное усвоение финно-угорским населением новых элементов материальной и духовной культуры, акультурации, которая со временем приводила к сглаживанию этнических черт и образованию синтетической культуры, в которой преобладающие славянские элементы сочетались с субстратными. «Происходящие при этом изменения выражаются, прежде всего, в широком распространении вещей, генетически не связанных с традиционными типами, и усвоении местными ремесленниками новых технологических схем и приемов. На первом этапе культурного сближения наблюдается сосуществование привнесенных извне и местных элементов… Смешение культурных традиций значительно усилилось в ходе неоднородной по этническому составу земледельческой колонизации северных территорий и сложения зон чересполосного славяно-финского населения. С XI в. на широкий рынок начинает поступать массовая продукция древнерусских ремесленников (украшения, оружие, орудия труда, бытовой инвентарь, гончарная керамика). Славянские изделия входят в повседневный обиход иноязычных народов, органично включаются в местный этнографический убор. Лесная зона Восточной Европы покрывается «вуалью» древнерусской культуры, скрывающей прежние региональные и племенные различия».
Культурная близость открывала дорогу более интенсивной физической метисации, прослеживаемой по антропологическим материалам и оставившей след в появлении археологических памятников, для которых характерна не только культура смешанного облика, но костные останки с несколько ослабленными европеоидными чертами. Таким образом, стало возможным признать принципиальную правоту точки зрения В.О. Ключевского, по мнению которого, ассимиляция финского населения наряду с влиянием природного фактора оказала решающее влияние «как на хозяйственный быт Великороссии, так и на племенной характер великоросса».
Это, однако, не означает, что наблюдения А.И. Соболевского, говорившего о напряженных отношениях славян с автохтонными финскими племенами, совершенно лишены основания. Действительно, письменные и фольклорные источники заставляют думать, что столкновения все-таки были. Но следует иметь в виду, что военные стычки совсем не исключают ни брачных контактов, ни культурного синтеза, ни ассимиляции в конечном итоге. Механизм подобного рода отношений мы можем рассмотреть на примере материала более позднего времени (XIV–XVI вв.), когда на землях великорусского центра ассимиляционные процессы уже почти завершились и область активного русско-финского взаимодействия переместилась к окраинам складывающегося Московского царства.
В высшей степени интересный вариант русско-финского синтеза дает нам история Вятской земли. Русские начинают проникать в бассейн реки Вятки в конце XII в. Освоение края ведут в основном новгородские ушкуйники – своеобразные русские речные викинги. Их походы нашли отражение в «Повести о стране Вятской», которая может дать вполне правдоподобные сведения о ранних этапах русского проникновения в регион.
В «Повести» говорится о походе двух новгородских отрядов из городка в низовьях р. Камы на Среднюю Вятку. Один из них пробрался по волокам с Камы в верховья р. Чепцы «и вниз по оной пловуще, пленяюще Отяцкие жилища и окруженныя валами ратию вземлюще, и обладающе ими… внидоша в великую реку Вятку… и узревше… град чудской, называемый Чудью Болваньский городок… той крепкий град взяша воинским промыслом в лето 6689 (1181) месяца июлиа в 24 день… и побиша ту множество Чуди и Отяков, а инии по лесам разбегошася… и нарекоша той град Никулицин». Второй отряд новгородцев «внидоша во устие Вятки реки и идоша по ней вверх до Черемишских жилищь и дошедше до Какшарова городка обладаема Черемисою… и начата ко граду приступати, и другий день от града того жители побежаху, инии же граду врата отвориша. И тако Божиею памощью той Кокшаров град взята и обладаша, и те Новгородцы распространишеся и начата жити на всей Вятской стране и посылаху от себе для уведения вверх по Вятке реке места усматривающе».
Таким образом, мы видим, что первоначальный контакт русских (новгородцев) с коренными жителями территории чепецкого и вятского бассейнов мирным не назовешь: ушкуйники действуют как завоеватели, грабя местное население и занимая территорию. Но посмотрим, как события развиваются дальше. После монголо-татарского нашествия под действием внешней угрозы две первоначально возникшие на Вятке самостоятельные волости Никулицин и Котельнич объединяются и создают новую столицу г. Хлынов (Вятка), служившую центром Вятской земли до самого ее присоединения к Московскому княжеству.
В рамках Вятской земли оказалось объединено русское, финское и тюркское население. Этнические процессы протекали здесь, судя по всему, тем же образом, как это было в Северо-Западной Руси столетиями раньше. Эпоха первоначальных столкновений сменяется эпохой мирного сосуществования. Удмуртская племенная знать входит в состав вятского боярства. По утверждению ижевского историка Л.Д. Макарова, «еще в первой половине XVI в. (грамота 1522 г.) удмурты фигурируют среди городских жителей края, например, в г. Слободском («И буде у Каринских князей и у чювашен и у вотяков дворы в городе есть, и в осаде с ними живут…»).
Такое тесное соседство становится основой культурного взаимодействия (что в результате приводит к взаимной трансформации русской и местных культур), которое затем дает импульс активизации ассимиляционных процессов, в результате которых группы удмуртов, живших западнее Хлынова, были полностью ассимилированы, а в антропологическом типе вятчан начинают явственно прослеживаться финно-пермские примеси. В дальнейшем, когда Вятка утратила самостоятельность и стала управляться московскими наместниками, сложившееся равновесие межнациональных отношений было нарушено. Полиэтничная местная знать не могла больше служить регулятором добрососедских отношений – верхушка ее была казнена, а остальные (в том числе и удмурты) подверглись выселению в центральные районы России. Часть финно-угорского населения мигрирует в верховья р. Чепцы. Однако начавшееся этноинтегративное движение на этом не останавливается. Власть русского царя со временем распространяется дальше на восток, и процессы акультурации и ассимиляции продолжаются (до сегодняшнего дня).
Структурное влияние финно-угорской культуры на русскую напоминает влияние культуры восточной/татарской/исламской. Сходство заключается в том, что влияния эти в обоих случаях касаются тех областей культуры, которые находятся вне внимания идеологов, вне сферы рефлексии интеллектуальной элиты. Отличие же заключается в том, что влияние финского мира в силу неразвитости общественной жизни касалось в основном бытовых сторон и не поднималось до уровня государственного устройства и политических отношений.
С другой стороны, более интенсивные контакты между восточными славянами и восточноевропейскими финнами могли быть установлены в сфере религиозного мировоззрения, как в дохристианскую и догосударственную эпоху, так и позднее, когда сторонники язычества, стремившиеся сохранить свою веру, вынуждены были бежать подальше от центров русского православия, на периферию, где приходили в соприкосновение с финно-угорскими племенами, долгое время сохранявшими традиционные верования. Так, например, финский источник имеет сюжет о дуалистическом миротворении, широко представленный как в славянском фольклоре, так и в апокрифической литературе (апокриф о Тивериадском море). Основу его составил миф о ныряющих на дно океана птицах-демиургах, являющийся базовым в языческом мировоззрении всех финно-угорских народов и восходящий, как доказано известным лингвистом проф. В.В. Напольских, к прауральской мифологии. В славянском мире сюжет этот получил чрезвычайно широкое распространение и вошел в культуру не только восточных, но и южных славян, став составным элементом религиозно-мифологической системы богомолов.
Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные нами процессы взаимодействия русской цивилизации с тюркской, византийской, финно-угорской и европейской не исчерпывают всего многообразия культурных контактов, оказавших формирующее влияние на облик России. В стороне осталось влияние балтских, иранских, северных народов. Да и охваченный материал представлен далеко не в полной глубине и многообразии. Рассмотреть все аспекты культурной коммуникации так же сложно, как написать историю личных взаимоотношений представителей разных народов на протяжении тысячелетия. Задача, решению которой посвящена настоящая глава, была иной. Мне хотелось показать, что формирование русского единого государства стало возможным во многом благодаря наличию в социальной психологии развитых качеств терпимости и открытости инокультурным влияниям, которые, несомненно, можно отнести к базовым основам развития русской культуры и русской цивилизации. Вряд ли можно оспорить, что формирование многонационального государства (каковым Россия является и сейчас) не могло состояться без способности принять, переработать и усвоить элементы культур входящих в нее народов. Не могло состояться и без терпимого и в известной мере благожелательного отношения к «инородцам», без способности преодолеть ксенофобию и взглянуть на «чужих» (даже на врагов) как на «своих», с которой начинается всякое совместное бытие в рамках одной политической системы.
Справедливости ради следует оговориться, что, безусловно, русская история далеко не всегда может служить примером взаимовыгодного сотрудничества разных народов. Московское царство достаточно часто использовало весьма радикальные и жесткие средства решения этнополитических проблем. Трудно ждать от Средневековья следования гуманистическим максимам современного общества. Но в целом существование большинства народов, вошедших в орбиту Русского государства, не закончилось с потерей политической независимости (подобно пруссам, попавшим под власть немцев, или американским индейцам), а продолжилась дальше, трансформируясь под действием русской культуры и оказывая влияние на нее.
Конечно, история национальных отношений в любой империи – это история обид. Как ни банально, но вряд ли можно найти много татар, которым бы не хотелось так переиграть историю, чтобы Ивану Грозному все-таки не удалось взять Казань, а русским бывает тяжело вспоминать о Батыевом нашествии. Символично, что рязанская княгиня Евпраксия, бросившаяся вместе со своим маленьким сыном из «превысокого храма своего» во время разорения города Батыем и разбившаяся насмерть, нашла своего двойника в лице казанской царицы Сююмбике, которая спустя более чем триста лет бросилась с крепостной башни во время штурма Казани Иваном Грозным. Это все понятно, факты эти известны. Задача настоящего момента заключается в том, чтобы искать не различия и исторические поводы для взаимного недовольства, а попытаться понять, что за столетия совместного существования, несмотря на войны и ссоры, мы незаметно для себя стали гораздо ближе друг к другу, чем это можно было представить поначалу, «пропитались» общим духом, смешались кровью, усвоили похожие привычки и бытовой уклад.
Глава 4
Сверхъестественное в картине мира

Картина мира человека Древней Руси, как и в целом средневековой Европы, была пронизана сверхъестественными мотивами. Они настолько тесно вплетались в ткань его представлений о мироздании, политической и частной жизни, природе и общественном устройстве, что выделить их для отдельного рассмотрения часто невозможно, да и не нужно. Необходимость обращения к этим сюжетам в ходе работы над изучением антропологических аспектов общественных отношений в древнерусских социумах, как видел читатель, возникала не раз. Без обращения к фактам, связанным с религиозными воззрениями эпохи раннего русского Средневековья, невозможно было бы понять ни особенностей образа князя в системе потестарных отношений, ни механизмов функционирования средневековой медицины, ни географических воззрений и т. д.
Тем не менее наличие раздела, специально посвященного изучению сверхъестественного в картине мира человека Древней Руси, необходимо. Во-первых, потому, что религиозность – это особая сфера культуры, связанная с многими сторонами жизни общества, но не сводящаяся к ним, самостоятельная. Поэтому есть основания полагать, что концентрация на ней специального внимания может оказаться вполне перспективной: существуют явления, которые удобнее выделить в особый предмет рассмотрения. Во-вторых, вопрос о вере был принципиальным для самого средневекового человека. «Кто еси ты и коеа веры еси?», «Что – вера ихъ?» – спрашивали на Руси, столкнувшись с новым, «незнаемым» человеком или народом. Ответ во многом определял дальнейшие отношения. Придерживаясь принципа как можно более точно следовать логике мышления изучаемой эпохи, со всеми ее познавательными приемами и стереотипами, мы не можем не задать того же вопроса.
В целом история религии Древней Руси изучена уже очень хорошо: существуют как монографические исследования по отдельным вопросам, так и обобщающие труды, в которых древнерусская вера рассматривается и с богословской, и с исторической, и с культурологической точек зрения. Вместе с тем до сих пор недостаточно изученными остаются те стороны средневековой религиозности, которые лежали в плоскости обыденного мировосприятия, не вполне осознаваемых поведенческих и эмоциональных стереотипов, в той части общественного сознания, которая конструирует мир без логически обоснованных и теоретически осмысленных связей. Так, например, интересно было бы попробовать разобраться – как могло получиться, что люди в древности и в Средние века в массовом порядке верили в чудеса? Как такое могло быть? Это был сознательный обман одних, нашедший благодатную почву в легковерности других, или здесь причина более сложная и кроется в особенностях познавательных приемов средневековой коллективной психологии? Как боролись в Древней Руси с ведьмами или колдунами? Как относились к православному духовенству? Часто ли думали о перспективах своего посмертного бытия? Поиск ответов на эти и другие вопросы – задача настоящей главы.
«Знамения бо въ небеси, или въ звездах, или солнци, или птицами, или ветеромъ чим не на благо бывают»: чудеса и знамения на Руси.
Восприятие мира средневековым человеком имело множество особенностей. Одной из них (может быть, одной из основополагающих) было отсутствие строгого противопоставления мира божественного и земного. Сферы эти находились во взаимном непосредственном контакте. Сверхъестественное буквально пронизывало повседневность и проникало во все сферы жизни. В его возможность верили, о нем помнили, и поступки совершали с пониманием того, что в повседневной жизни в любой момент может встретиться нечто чудесное, неподвластное законам обыденного существования.
Весьма показательна в этом отношении знаменитая повесть о «Белгородском киселе», составляющая один из сюжетов истории многолетнего противоборства с печенегами, описанный «Повестью временных лет» под 997 г. Напомню вкратце сюжет. Город Белгород был осажден печенегами. Помощи ждать было неоткуда, и, собравшись на вече, горожане решили сдаться. Так была хоть какая-то надежда на спасение: из плена можно было сбежать или выкупиться, голодная смерть таких перспектив не оставляла. Решение было принято, но тут отыскался «един стар муж», который предложил как последнее средство использовать хитрость. Он попросил найти ему немного овса или пшеницы и меда. Из перемолотого зерна он сделал заготовку для киселя – мучную болтушку, а из меда изготовил напиток – сыто. Были сделаны имитации колодцев, куда были помещены кадушки с болтушкой и сытом. После всех этих приготовлений пригласили печенежских послов и сказали: «Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами». Привели их к колодцу, где была болтушка, зачерпнули ведром и сварили кисель. Потом зачерпнули сыты из другого колодца и стали есть сперва сами, а потом угостили и печенегов. Удивились послы и сказали: «Не поверят нам князи наши, если не отведают сами». Белгородцы налили им корчагу кисельной болтушки и сыты из колодцев. Печенежские парламентеры, вернувшись, поведали все, что было. Поели князья печенежские белгородского «гостинца», подивились, после чего поднялись и пошли от города восвояси.


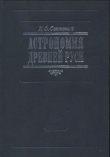
![Книга Параллельные идиоты. Трилогия [СИ] автора Александр Сигачев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-parallelnye-idioty.-trilogiya-si-207617.jpg)




