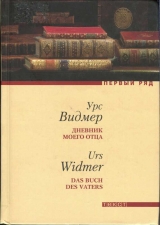
Текст книги "Дневник моего отца"
Автор книги: Урс Видмер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Он подул на тушь, захлопнул книгу, пробрался на ощупь к шкафчику и положил ее под белье. Потом вынул Кларину открытку и попытался еще раз перечесть. Но фонарик уже окончательно выдохся, так что отец закрыл глаза и заснул прежде, чем его голова коснулась подушки.
Когда через несколько недель отца демобилизовали, в доме все уже было по-прежнему, как и до его службы в армии. Немцы не пришли, и опять женщины собрались под одной крышей. Клара, Нина, Йо, Хильдегард и Рёзли. Лягушонок, то есть я, играл в своей песочнице. Даже Рюдигер снова стоял на террасе, как на командирском мостике, и зычным голосом отдавал команды догам, бегавшим по саду. Хобби тоже сидела на своем привычном месте. Только аквариумные рыбки были новые, но об этом никто не догадывался. (Клара забыла старых при отъезде, и они умерли от голода или задохнулись. Во всяком случае, когда она вернулась, рыбки плавали кверху брюшками, и Клара сменила воду, завернула один из трупиков в газету и купила в магазине новых, точно таких же и ровно столько же, сколько было раньше.) Сорняки, которые за время ее отсутствия заглушили астры и далии, шпорник и мальвы, она выполола. (Клара и Нина проводили в саду целые дни и вычистили даже мох между плитками дорожек.)
Отец шел не как обычно, по дороге, а напрямик, по стерне только что убранного хлеба. Так короче. Дом светился от солнца, огромного, садившегося прямо в саду. Черный куб на фоне огромного огненного шара. На крыше в темнеющем небе торчала мачта-антенна. Взволнованный отец шел быстро, спотыкаясь о комья земли, так что ложка звенела в походном котелке, а штык бил по ногам. Каска, привязанная сверху к солдатскому ранцу, подскакивала при каждом шаге. Яркий солнечный свет слепил отца, но сомнений не было: там, перед домом, стояли тени, неподвижные, ожидающие. Тени женщин. Правда, даже прищуривая глаза и прикладывая к ним ладонь, он не мог различить, какая из них кто. Вон те силуэты перед гаражом – Йо и Хильдегард? А перед бочкой с водой – Нина? А около ворот – Рёзли? Две неподвижные тени, притаившиеся под магнолией, – доги. Это точно. И конечно же тень, что стояла у костра, – это Клара; самого костра не было видно, его пламя терялось на фоне расплавленного солнца, но дымок поднимался темно-красными клубами в синее вечернее небо. Рядом с Кларой два маленьких пятнышка: собака и ребенок. Отец, Карл, вдруг пустился в пляс, он махал руками, вопил от счастья, и, словно по команде, все тени тоже зашевелились и пропали в доме. И доги, и Хобби – из двух пятнышек она была покрупнее, – и даже ребенок, который двигался медленнее всех, сразу же исчезли в доме. Солнце зашло, оставив над горизонтом красное сияние, которое становилось все бледнее и наконец совсем исчезло, когда отец подошел к воротам и загрохотал – на нем были ботинки, подбитые гвоздями, – по гранитным плиткам садовой дорожки. Голубой сумрак перед дверью, почти темно. Он взлетел по лестнице в квартиру, вступил в коридор и по афганскому – а может быть, и персидскому – ковру, лежавшему в гостиной, торопливо прошел в свой уголок, к своей пишущей машинке. С ранцем на спине, с карабином за плечом и в фуражке, он, постанывая, напечатал все то, что накопилось в его голове за эти месяцы. (Долгими ночами у входа в туннель он перевел на немец кий язык и запомнил почти все, что знал наизусть из французской литературы.) Итак, он напечатал любовные воздыхания Береники Расина, конец «Кандида» – где герой, а вероятно, и сам господин де Вольтер хотят только возделывать свой сад – и то место из «Тартарена из Тараскона» Доде, где Тартарен хвастается, как он охотился на льва, все начало «Песни о Роланде», хотя совсем и не любил ее, он предпочитал «Тристана и Изольду», но не знал наизусть. Топчась взад и вперед на деревянной площадке у туннеля, он нашел собственные слова и для начала «Saison en enfer»[38]38
«Сквозь ад» (фр.).
[Закрыть] Рембо: «Когда-то, если память не изменяет мне, моя жизнь была праздником, на котором открывались все сердца и вино лилось рекой».
Допечатав лист до конца, отец рывком вытянул его и так быстро вставил новый, что стрекотание машинки почти не прекратилось.
И только когда в его голове, в его огромном черепе, больше ничего не осталось, ни единого слова, он оторвался от клавиш, включил лампу – над столом загорелся яркий свет – и быстро проглядел страницу, еще торчавшую в машинке; там были фразы из «Мещанина во дворянстве» Мольера, где месье Журден в изумлении выясняет, что он – гений, потому что, сам того не зная, всю жизнь говорит прозой; отец шумно вздохнул с облегчением и пошел по ковру назад в коридор. Там уже стояла Клара, а может, она все время стояла там. Вся в черном, молчаливая. Отец бросил ранец под дверь туалета, фуражку – на полку с обувью, карабин – в стойку для зонтов и обнял жену.
– Клара! – Он прижал ее к себе, и она поцеловала его онемевшими губами.
– Карл! – Она потянулась через его плечо и тоже включила свет, загорелась желтая стеклянная лампа под потолком, в ней валялись дохлые мухи. – Ах, Карл.
Карл отпустил ее, засмеялся:
– Да, это я! – И сбросил китель, пояс со всем, что на нем болталось, штыком, патронташем, шанцевым инструментом, в угол. Тут он увидел ребенка – меня – и поднял над головой. Я барахтался над ним, визжал, и он меня поцеловал. Я просто завопил от счастья, а когда снова очутился на полу, помчался в детскую и принес сигарету, скрученную из бумаги, конец сигареты я разрисовал цветными карандашами. Красным и черным.
– Смотри, папа!
Я выглядел совсем, как он, когда держал ее во рту! А еще на мне были сделанные из картона, очень похожие на отцовские, очки!
Правда, когда я вернулся в коридор, отец уже опять был около своего письменного стола и с любовью смотрел на бумагу, карандаши, ластики и скрепки, на «Sachs-Vilatte» и «Littré»[39]39
Толковые и энциклопедические словари (фр.).
[Закрыть]. (Клара стояла на коленях на афганском или персидском ковре и заправляла нитки, выдернутые гвоздями отцовских ботинок.) А тем временем отец то гладил свои африканские скульптурки, стилизованного мужчину с заостренной головой и торчащим пенисом с красным кончиком и такую же абстрактную женщину, у которой между ног была белая буква V, то постукивал пальцем по стеклу аквариума и радовался, что рыбки узнали его. Он выдвигал и задвигал ящики письменного стола – все, кроме верхнего, – нюхал тюбик клея.
– Папа! – крикнул я.
Он повернулся ко мне и полез в ящик.
– Хочешь конфетку?
Конечно, я хотел конфетку, я сунул ее за щеку, не вынимая изо рта сигарету и не снимая картонных очков.
Отец опустился на стул перед письменным столом – изготовленный по заказу шедевр господина Йеле с широкой спинкой и двумя подлокотниками; стул и отец выглядели так, словно родились друг для друга. И вот тут он наконец-то стянул и ботинки с гвоздями, засунул их глубоко под стол и опять застонал. Он снова дома.
В тот же вечер он пригласил своих друзей-художников, и они пришли все, кроме гения из Вейнланда (у него началось кровохарканье, и он проводил свои, в общем уже последние, дни в Мендрисиотто) и скульптора-проволочника (его еще не демобилизовали, где-то высоко в горах, над Гёшененом, он охранял пару вентиляционных штолен). Пришли и ученик Кирхнера, и сюрреалист, и архитектор, и художница. Она привела с собой свежеиспеченного мужа, негра с блестящими глазами, которого спасла во время полного приключений бегства из оккупированной Франции. Хотя они и разговаривали друг с другом по-французски, его звали Фенстером и он был уроженцем Дюссельдорфа. Разумеется, Клара, Нина, Йо и Хильдегард тоже присутствовали. Даже Рюдигер, единственный, кто еще носил военную форму, заглянул на минутку, но почти сразу ушел наверх, потому что на следующее утро ему надо было выступать на важном процессе. Около полуночи появилась еще и Фил в декольтированном сверкающем платье, в котором она выступала, со своим новым «сокровищем» – огромным саксофонистом, почти вдвое крупнее нее. Всем – всем, кроме Рюдигера, – хотелось после этих долгих недель снова побыть вместе. А еще этим вечером надо было прикончить бутылки с «Кордон Кло дю Руа», оставшиеся в погребе. Потому что хотя немцы и не пришли, но однажды, и, вероятно, очень скоро, они все-таки придут. Им не должно достаться это великолепие из священной Бургундии, во-первых, просто не должно, а во-вторых, эсэсовские «господа» всерьез считают мозельское полусухое верхом совершенства и не оценят, каким вином зальют себе глотки. Двенадцать человек, девятнадцать бутылок. Когда забрезжил рассвет, они все были пусты, в отличие от гостей, причем самым «нагрузившимся» оказался мой отец, который посреди разбросанных на ковре бокалов, пепельниц и недоеденных бутербродов показывал друзьям, что умеет ходить на руках. Он был счастлив. Все вернулось на круги своя.
Но потом женщины покинули дом. Все, хотя и не одновременно; под конец уже не осталось ни одной. Первой ушла Йо, к которой все время цеплялся Рюдигер, потому что она не платила за комнату. Она решила поискать пристанища у сестры, прежде чем Рюдигеру взбредет в голову посмотреть ее документы. (Отец не сразу понял, что она уходит навсегда. Он сидел за письменным столом, погруженный в сложное предложение, пестревшее специальными терминами военного искусства XVII века, и только помахал рукой, когда Йо заглянула в комнату и сказала, что уходит. На кухне стояла молчаливая Клара.)
Следующей была Хильдегард. Она влюбилась (ее чувства к Эдвину Шиммелю, если таковые вообще когда-либо существовали, развеялись, как дым), итак, она влюбилась в жизнерадостного мужчину по имени Руди, для которого в баре «Зингер» держали специальное вино; доход у него был весьма странный: он получал деньги за то, чтобы не ходить на предприятие, принадлежавшее его семье, которым руководил его брат. Какие-то сантехнические штуки, унитазы, биде, ванны; Руди так строго соблюдал свои обязательства, что даже не знал точно, что именно производит фирма. Но не предметы военного назначения, оттого и доход такой маленький. С Хильдегард он познакомился, потому что та была подружкой Фил, у ног которой он проводил почти каждый вечер. Несколько раз он переночевал в однокомнатной квартире Хильдегард, но кровать оказалась слишком узкой даже для влюбленных, а путь до квартиры был ужасно далеким, поэтому они решили сделать наоборот: теперь Хильдегард проводила ночи в квартире Руди в Старом городе. Ей там понравилось – просыпаясь, она видела в окне огромные часы на церкви Святого Петра. Да и Руди все больше нравилась женщина, которую он случайно подцепил – а вскоре и по уши в нее влюбился, – так что уже на третье утро он предложил ей совсем остаться. Хильдегард, еще полусонная, потянулась, улыбнулась, согласилась и поцеловала его. В тот же день они раз десять прошли от дома на краю города до квартиры Руди и обратно, вверх – дурачась и смеясь, вниз – нагруженные платьями, лампами и сковородками. Ложками, ботинками, картинами. (Отец пропустил и это прощание. Он снова сидел за пишущей машинкой, слышал, как кто-то приходит и уходит, и ни о чем таком не подумал, когда Руди и Хильдегард с грохотом скатились с лестницы вместе с деревянным шкафчиком и уселись, с трудом переводя дыхание от смеха и страха, на нижней ступеньке. Просто раздался какой-то шум снаружи, а он как раз пытался найти немецкий вариант фразы «Partir c’est mourir un peu». Позднее отец прошелся до садовых ворот, к почтовому ящику. Он как раз просматривал почту, когда по выложенной плиткой дорожке пробежала Хильдегард, без Руди, но с большой сумкой в руке. Это был самый последний «рейс», ей осталось прихватить разные мелочи; она поставила сумку и поцеловала отца на прощание. Он воскликнул:
– Нашел! Расставание причиняет боль! – поднял указательный палец и прошел мимо Хильдегард. Отец подумал, если он вообще что-то подумал, что она идет в магазин или собралась куда-то на несколько дней. Хильдегард озадаченно посмотрела ему вслед и крикнула:
– Всякое прощание – маленькая смерть!
Отец остановился, обернулся и ошеломленно посмотрел на нее. Повторил про себя слова, сказанные Хильдегард, и кивнул:
– Спасибо.
Но Хильдегард уже ушла, помахав на прощание рукой. Сумка была такой тяжелой, что она шла, сильно наклонившись набок. Отец бросил почту – рекламу рубашек Метцгера и что-то из налоговой инспекции – в мусорный ящик и вернулся в дом… Клара стояла у дверей, прикусив губу.)
Потом ушла Рёзли. Она, рыдая, быстро спустилась по лестнице и пробежала мимо отца, даже не заметив его. Отец тупо посмотрел ей вслед, на ее развевавшееся красное пальто. (Он и на этот раз не понял, что Рёзли уходит навсегда. Сто раз на дню она проносилась вниз и вверх по лестнице, правда, без всяких слез… Клара стояла у окна, глядя перед собой пустыми глазами; и это при том, что она никогда особенно не любила Рёзли.)
А под конец даже Нина покинула дом. Все началось с того, что у Рюдигера внезапно появились страшные боли – невралгия, инфекция, а может, аллергия, – во всяком случае, он, Нина, а потом и врач, некто доктор Браун или Браунманн, которого все, в том числе Рюдигер и Нина, звали Брауни, уже не знали, что делать. Рюдигер вопил на весь дом, ему подвывали доги, а этажом ниже, в квартире Клары и Карла, выла, проявляя солидарность, Хобби. После того как ни одно лекарство не подействовало, Брауни решился применить в качестве болеутоляющего морфий, сначала в маленьких дозах, но каждую неделю они увеличивались и под конец стали такими большими, что Рюдигер возвращался домой после визита к врачу без болей, но с горящими глазами. Он был счастлив (да и Нина вздохнула свободно, однако по ночам ее начали мучить кошмары), настолько счастлив, что в конце концов врач заметил, что натворил, и отменил морфий. Рюдигер, которому уже на следующее утро стало хуже некуда, приложил все силы, чтобы продолжать получать морфий. Помогали черный рынок, друзья, а может, и Брауни, только теперь без рецепта и по более высоким ценам. Рюдигер каждый день колол себе «гормон счастья», естественно, когда его не видела Нина. (Она не обольщалась – во всяком случае, не очень сильно – и поклялась во что бы то ни стало вылечить больного мужа.) Рюдигер устраивал шикарные вечеринки, не раз снимал весь бар «Зингер» и приносил Нине подарки, от которых она просто лишалась дара речи. Часы, усыпанные брильянтами, нитка жемчуга, туфли из крокодиловой кожи (на размер меньше, чем надо) и нижнее белье из такого тонкого шелка, что Нина не чувствовала, а Рюдигер не видел, надето на ней что-нибудь или нет. Однажды он купил сервиз лангентальского фарфора из шестидесяти четырех предметов, а на следующий день – пять автомобилей: «хочкис», «ситроен», «адлер», «санбим» и подержанную, но очень ухоженную «испано-суизу», хотя он и так держал в гараже вполне пригодный «вандерер», но из-за войны не мог достать горючего. Нина попыталась убедить торговцев машинами и фирму «Лангенталь», что ее муж болен и они должны принять свои товары обратно. Они согласились, удержав при этом неустойку от пяти до двадцати процентов.
И все же счастливо-блаженное состояние Рюдигера продолжалось недолго. Все чаще настроение, пребывая в котором он считал, что способен завоевать весь мир, у него сменялось адскими мучениями, когда он не сомневался, что все хотят убить его. И Нина в первую очередь. Он таскал ее за волосы и однажды так сильно ударил по лицу, что у нее пошла кровь носом и сделался синяк под глазом. В тот день она неслышно прокралась вниз по лестнице – Рюдигер мог не пустить ее, заперев на ключ, да и Клара с Карлом не должны были видеть ее в таком состоянии – и пошла к доктору Брауну, просто Брауни, чтобы попросить о помощи. Тот сочувствующе покивал головой и сказал, что всегда предупреждал Рюдигера о том, какие страшные последствия может вызвать применение морфия, равно как и отказ от него. Он дал ей несколько шприцев с каким-то успокоительным. Если будет очень плохо, она должна воткнуть в мужа шприц – в руку, в спину, в ягодицу – все равно, прямо через одежду. В тот же вечер Рюдигер нашел шприцы в ее сумочке, вытащил один, посмотрел на него и завопил:
– Чем это ты колешься? Морфием? – и прежде чем Нина успела что-то крикнуть, вколол себе всю дозу в левую руку. Потом упал как подкошенный и проспал десять часов, а проснувшись, ничего не помнил.
Потом Нине еще пару раз пришлось воспользоваться шприцами, как ей велел Брауни. Рюдигер, уже прихвативший ее за горло, сразу же сваливался на ковер.
Тем не менее он продолжал ходить на работу (он уже был старшим прокурором в суде по делам несовершеннолетних, деятельность в военном суде весьма поспособствовала его гражданской карьере), визировал акты и часами разговаривал по телефону с судьями и адвокатами, но больше не мог готовить свои обвинительные речи. Он тупо пялился на пустой лист бумаги и просил Нину помочь ему. И она читала акты, выпытывала у Рюдигера, как он оценивает данное дело – по большей части он колебался между освобождением и пожизненным заключением, – и потом писала речь. Она была за мягкие наказания. (Речи он произносил без особого труда, если не считать, что жутко потел и литрами пил воду.)
Однажды Нина сидела над безобидным, в сущности, делом – подросток столкнул украденные покрышки по Кальвариенскому спуску и при этом разбил витрину хозяйственного магазина. В это время дятел, стучавший далеко в саду по орешнику, привел Рюдигера в такую ярость, что он вдребезги разбил свои очки о край стола. Тогда ей пришлось выйти в сад и спугнуть дятла, а на обратном пути она шепотом спросила Клару, не может ли та погодить пылесосить, а отец не так громко стучать на машинке. Потому что Рюдигер думает. Услышав это, отец подскочил и закричал:
– А я? Я что, не думаю?
Нина поднялась наверх, отец же продолжал яростно печатать.
Потом Нина заметила, что у Рюдигера появилась подружка. Любовница. (Это была не первая «другая женщина» у ее мужа. Рёзли, например, сбежала, потому что Рюдигер голым вошел в ее комнату со словами: «Ну что, девочка?» – или что-то в этом роде.)
Вначале Нина рыдала и до крови кусала себе губы, потом попросила Рюдигера привести эту Лил – на самом деле ее звали Лилиана – в дом. Все, что угодно, только не эти секреты. И вот Лил пришла, они втроем ели и пили мерло, а потом в гостиной – коньяк. Вскоре все трое уже громко смеялись – вблизи Лил оказалась очень милой – и вдруг очутились в постели, в спальне, раздетые. Грудь у Лил была больше, чем у Нины, да и бедра более упругие, и очень много волос на лобке и под мышками. Нина очень возбудилась и почти получала удовольствие, когда Рюдигер целовал ее, а Лил на них смотрела. Может, Нина протянула руку и потрогала ее грудь, а может, наоборот, Лил погладила Нину. Но когда Рюдигер вдруг отвернулся от нее и его голова исчезла между бедрами Лил – виднелась только волосатая задница, – Нина вскочила и выбежала из комнаты. Она сидела голая в кухне на табуретке, скрестив ноги, накинув кухонное полотенце на плечи, и слушала, как Рюдигер и Лил стонали, приближаясь к пику блаженства.
На следующий вечер Нина и Рюдигер сидели за ужином (поздно ночью Лил все-таки ушла, когда Нина лежала без сна на диване, накрывшись полотенцем), и Рюдигер, положив в рот ломтик жареной картошки, сказал:
– Пересолено!
Нина встала, взяла блюдо с картошкой и выбросила его в окно. И, уже начав, она выкинула и все остальное: тарелки, вилки, ножи, блюдо с двумя бифштексами, салатницу с огурцами, бокалы, вино. Хлеб. Соль. (Этажом ниже отец, Клара и ребенок тоже сидели за столом. С неба летели различные предметы, словно сваливались из космоса.) Рюдигер сидел неподвижно. Нина осторожно закрыла окно и проскользнула в дверь. (Ее уход отец тоже пропустил или почти пропустил. Дело в том, что он уже долго стоял в саду и растерянно смотрел то на небо, то на землю. Небо было чистое и безмятежное. А по всему саду валялись разбитые бокалы, тарелки, солонка. В траве виднелись кружочки огурцов и жареной картошки. У носка его правого ботинка лежал бифштекс. Когда он наконец вернулся к дому, Нина была уже далеко, она шла по дороге, одетая в платье в цветочек, с не собранными в пучок волосами. За собой она везла тележку, на которую были уложены чемодан и несколько альбомов. Плащ. Клара, бледная как мел, стояла у ворот и смотрела вслед сестре. Она стояла там и через полчаса, и через час и вернулась в дом, только когда совсем стемнело.)
Уже на следующий день, а может, через неделю отец услышал, как Клара разговаривает, когда остается одна, пожалуй, именно потому, что одна. Она шептала что-то себе под нос, спускаясь с крыши, и бормотала, идя в подвал. Целый день она бесшумно ходила по дому и вела с кем-то жаркие, едва слышные беседы. Отец подошел к ней, пытаясь понять, что она говорит, – безуспешно – и спросил, все ли в порядке. Клара замолчала, взглянула на него и покачала головой. Прошла в кухню. Через открытую дверь он вскоре опять услышал, как она сдавленным голосом спорит со сковородкой.
Однажды вечером – уже была зима, и в тот день выпал первый снег – Клара пошла на концерт «Молодого оркестра» и вернулась, чего обычно никогда не делала, на такси. (Да их почти и не было во время войны, такси-то.) Возможно, из-за снега. Отец, уже в пижаме, прокричал:
– Ну как концерт? – и продолжил читать книгу «Дорога длиной в тысячу лет» Эрнста Цана[40]40
Эрнст Цан (1867–1952) – швейцарский писатель, поэт, драматург.
[Закрыть]. Он собирался написать о ней рецензию – разумеется, разгромную – в кантональном учительском журнале, но при чтении вовсе не нашел книгу такой уж глупой. Отец сидел в так называемой теплой – единственной маленькой комнате, которую они позволяли себе обогревать, – и вдруг услышал из гостиной стон, который тут же оборвался. Потом еле слышный крик, словно рот зажимали руками, звук был не похож на шепот или бормотание. Испуганный. Тогда он положил книгу на столик, на котором Клара держала программки «Молодого оркестра» и несколько реликвий поры Эдвина Шиммеля, и прошел в гостиную. Клара с помертвелым лицом сидела на кушетке и смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно видела перед собой смерть. Узнала ли она его? У нее стучали зубы – в комнате действительно было очень холодно, – и она снова издала тот же звук. Словно вой зверя; и правда, когда она подняла голову и разжала зубы (может быть, чтобы прекратить этот стук), она выглядела как волчица, а не как Клара, которую любил отец. Она и была волчицей. Ее загнали в угол, в какой-то угол, откуда она зарычала на отца, когда тот сделал к ней несколько шагов. Он отскочил и поднял руки:
– Клара!
Но Клара замолотила кулаками по собственному лицу, по зубам, по лбу, по щекам, по носу. Из носа сразу же пошла кровь. Она текла по подбородку, и руки тут же испачкались в крови.
– Что с тобой? – закричал отец. И попытался поймать ее, а может, наоборот, увернуться от нее.
Она носилась по комнате, а отец, отступая в свой угол к письменному столу, схватил африканскую статуэтку и поднял ее, как булаву или какой-то фетиш. (Ребенок, то есть я, тоже был в комнате. Мать кинулась ко мне, с открытым ртом, полным красных зубов. Я беззвучно закричал и зажмурился. Ждал. Но она споткнулась или так сильно ударила себя кулаком по подбородку, что упала.)
Отец отнес ее обратно на кушетку. Скулящий комочек, она лежала, скрючившись, и кусала подушку. Кресло из стальных трубок опрокинулось, кофейный столик упал, а картина ученика Кирхнера «Послеполуденный отдых буржуазии» свалилась на пол. На светло-зеленой траве – там, где была нарисована собачка Хобби, – отпечаток руки матери, почти черный. Она кусала подушку и трясла головой, словно не могла от нее освободиться. При этом она выла, потом отец услышал, что она что-то говорит.
– Что? – спросил он.
Она отпустила подушку, упала на нее лицом и произнесла:
– Я больше не могу.
Слова звучали глухо, придушенно, плечи дрожали. Она больше не могла.
– Позвать врача? – спросил отец. – Сейчас я позову врача. – Он заметил меня. – Последи за мамой! – крикнул он и сунул мне в руку статуэтку. – Я должен позвонить доктору Массини. – И исчез в коридоре.
И вот я слежу за Кларой, своей собственной матерью. Она повернула ко мне лицо, на губах запекшаяся кровь, поднялась, опираясь обеими руками о кушетку, и, шатаясь, раскинув руки, пошла ко мне. Ее лицо плыло высоко надо мной – я ведь был маленький, как и все четырехлетние дети. Оскаленный рот – или это была улыбка? Губы дрожали. Я уронил африканскую женщину и ринулся навстречу отцу, который как раз входил в комнату.
– Да-да-да, – пробормотал он, схватил Клару за локоть и повел обратно к кушетке. Дал ей подушку. Она прижала ее к животу. Так они и сидели, пока не раздался звонок и не пришел доктор Массини. На нем была меховая шапка, и он нанес в комнату много снега.
– Что с нами случилось? – спросил он. – Ну, что же с нами случилось?
Он приподнял Кларе веко, она держалась совершенно спокойно. Но все равно доктор Массини сделал ей укол, куда-то позвонил, взял Клару за руку, и они все вышли из комнаты, а потом, повозившись некоторое время в коридоре, из квартиры. Доктор Массини снова был в шапке, а может, он и вовсе ее не снимал. Клара накинула пальто с меховым воротником, в руке она держала деревянную африканку. Отец сунул ноги в ботинки. Закурил, надел пальто. Правда, из-под пальто выглядывала пижама.
Около ворот он еще раз оглянулся. Ребенок, то есть я, стоял у двери дома. Отец помахал мне рукой и сел в автомобиль доктора, «опель-олимпию» с дровяным газогенератором на капоте. Газогенератор загораживал ему вид, когда он хотел посмотреть через заднее стекло, пока доктор Массини пытался развернуться в снегу. Тот крутил руль, как сумасшедший. Автомобиль качался, и тело Клары качалось вместе с ним. Потом доктор так сильно стал жать на газ, что колеса пробуксовывали. Однако спустя несколько секунд ему все-таки удалось вывести машину на улицу. Доктор взглянул на Клару, словно ожидая одобрения. Но та лишь тихонько поскуливала.
Перед тем как машина скрылась за крутым спуском улицы, отец еще раз посмотрел на дом. Сын стоял в светлом проеме двери, очень нескладный, очень маленький. С неба падали снежинки.
Отец вернулся той же ночью. Я стоял перед дверью, а на голове у меня лежал толстый, с большой палец, слой снега. Отец, не сняв пальто и шляпы – на них тоже лежал снег, – подошел к окну, у которого обычно стояла Клара и смотрела на заповедный лес. Может, он хотел увидеть то, что видела она. Только теперь была ночь, и с неба все еще падал снег – белая буря, которая вдали становилась черной; снежинки летели и сверху, и снизу, и вдоль, и поперек. Снег, лежавший на шляпе и пальто, растаял, отец стоял в луже. Рядом с отцом стоял ребенок, на котором тоже таял снег, стоял и смотрел, как и он, правда – я ведь был маленький – не в окно, а на батарею центрального отопления. Я прижался к ней и сунул правую руку в отцовскую, он сжал мою ладонь, не отрывая взгляда от окна.
Снег несся над равниной, словно летел, чертил зигзаги, столбом поднимался вверх, падал большими хлопьями вниз и молотил по полю.
Потом отец пошел на кухню – ребенок за ним, открыл банку фасоли в томатном соусе, и они съели ее, холодную, одной вилкой. На этот раз я взял с собой табуретку и теперь, стоя рядом с отцом, тоже смотрел в окно. Снегопад кончился, и, когда рассвело – отец выкурил за это время двадцать или тридцать сигарет, – равнина лежала перед нами, словно море с мягкими белыми волнами; далекий лес вполне мог быть скалой. Тишина, только дыхание отца и ребенка да потрескивание отопления. Кое-где на снегу виднелись следы зайцев или кабанов. Небо такое же белое, как снег, так что было не понять, где небо, а где снег.
Отец и я все еще стояли у окна, когда наступил день и пришла фрау Хольм. Она приходила раз в неделю стирать, сегодня случайно оказался ее день. Четверг. Она спросила, где Клара, и, не получив ответа, принялась за работу. Выстирала белье, убрала за собой на кухне, а муж и ребенок ее хозяйки все еще смотрели в окно. Тогда она сказала:
– Ну что ж, ладно. – И ушла.
Хобби тоже пропала в тот вечер. Ребенок и отец все смотрели на следы в снегу – не собачьи ли. Но нет. Хобби, у которой шерсть была похожа на щетку с бахромой, оставила бы следы пошире. И все же я крикнул:
– Вон Хобби! – и показал на далекое пятно в снегу, по размеру это могла быть Хобби.
Отец открыл окно, хлопнул в ладоши, и Хобби, каркая, улетела.
– Собаки не летают. – Отец затворил окно.
– Когда она вернется? – спросил я после долгого молчания.
– Никогда, – сказал отец и заплакал. – Такой, как раньше, никогда.
Слезы (он был небрит) застревали в отросшей за ночь щетине и медленно скатывались по подбородку.
– Папа, – произнес я, но не заплакал, – ты же ее знаешь. Хобби она такая. Она обязательно вернется сюда.
Как-то отцу разрешили или порекомендовали посетить Клару. (Она находилась в психиатрической клинике в Мюнхенбухзее.) Он надел на ребенка светлые брюки, красивый пуловер, белые носки и воскресные ботинки. Сам он был в шляпе, очках, с сигаретой и в пальто. (Отец никогда не носил ничего другого; летом – пиджак, белую сорочку, винно-красный, криво повязанный галстук.) Они поехали по железной дороге в Берн, разумеется, на деревянных скамейках третьего класса. Показывали друг другу проносившихся мимо собак, кошек, коров. Только живые существа. При этом у меня получалось намного лучше, чем у отца. Он был не очень-то внимателен и принял штабель дров за осла, а старое дерево за крестьянина. Они много смеялись. Незадолго до Берна поезд – медленно-медленно, словно хотел еще немного потянуть время, – проехал по мосту, под которым текла светло-голубая вода. Утки вдалеке. Ребенок был в восторге.
Раз уж они приехали в Берн навестить Клару, то заодно зашли и к знаменитому детскому психологу. Кажется, к Гансу Цуллигеру, во всяком случае, на нем был белый медицинский халат и говорил он на бернском диалекте. Врач обследовал ребенка, поскольку Рюдигер утверждал, что тот безумен: мальчик показал ему язык.
– Ваш сын сумасшедший! – кричал Рюдигер, тыча в меня пальцем. Но ведь это он выбрасывал посуду в окно и покупал все эти автомобили.
И кроме того, в тот же день (когда я показал Рюдигеру язык) они отмечали день рождения, и ребенок, то есть я, во сне бил себя кулаком по голове в таком четком ритме, что эти звуки можно было принять за стук метронома. Ударяя себя правой ручкой по лбу, он выбивал что-то вроде анданте. И делал это всю ночь, если ему не мешали. А когда просыпался, то завязывал волосы в узелки и потом болезненным рывком разрывал их. Ребенок так усердно сосал большой палец правой руки, что тот стал совсем мягким. А еще он любил стоять в углу комнаты, глядя прямо перед собой, и ужасно пугался, когда входили Клара или отец. Если он не стоял в углу, то свистел, но не так, как птицы, а вытянув губы трубочкой. Он насвистывал целые концерты, партию скрипки из концерта Бетховена, все три части, или «Болеро» Равеля с еще большим количеством повторов, чем сочинил автор. И все-таки ребенок был птицей, потому что, как и она, говорил своим свистом: здесь я живу, здесь мое пространство. У меня все в порядке.








